Текст книги "Закулисье пушкинских сказок"
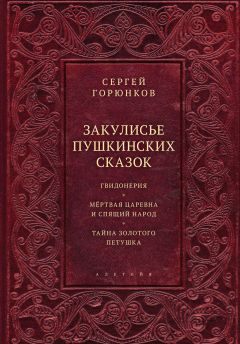
Автор книги: Сергей Горюнков
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Глава 18
Опьянение
Едет с грамотой гонец
И приехал наконец.
Речь тут явно идёт об оживлении культурных контактов между Западной Европой и Московским царством времён «великих Иванов». А об одном из последствий такого оживления говорят, видимо, следующие строки:
А Ткачиха с Поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой
Обобрать его велят:
Допьяна гонца поят…
Вопреки широко распространённому мнению, склонность к пьянству вовсе не являлась в XVI в. определяющей чертой русского национального характера. В сочинении Михалона Литвина «О нравах татар, литовцев и москвитян» (1550) в контрасте с яркими картинами пьянства в Польско-Литовском государстве приводятся порядки Московии, «где нигде нет кабаков. Посему если у какого-либо главы семьи найдут лишь каплю вина, то весь его дом разоряют, имущество изымают, семью и его соседей по деревне избивают, а его самого обрекают на пожизненное заключение. С соседями обходятся так сурово, поскольку считается, что они заражены этим общением и являются сообщниками страшного преступления»127. С. Герберштейн тоже свидетельствует, что «русским, за исключением нескольких дней в году, запрещено пить мед и пиво»128. О водке в конце XV – начале XVI вв. вообще никогда не говорится; из рассказа о путешествии в Москву в 1476–1477 гг. А. Контарини видно, что при дворе Ивана III употребляли лишь напиток из меда, приготовленный с листьями хмеля129.
Сын Ивана III Василий III угощал дипломатов и гостей уже водкой, завезенной, как считается, на Русь венецианцами130. При нём была построена под Москвой специальная слобода «Налейки» для иноземных наемников, которым, в отличие от коренного населения, пьянство дозволялось. Адам Олеарий сообщает подробности о названии слободы, воспроизводившем якобы наиболее распространенную лексику её обитателей: «Это название появилось потому, что иноземцы более московитов занимались выпивками, и так как нельзя было надеяться, что этот привычный и даже прирождённый порок можно было исправить, то им дали полную свободу пить. Чтобы они, однако, дурным примером своим не заразили русских <…> то пьяной братии пришлось жить в одиночестве за рекою…»131. А Михалон Литвин пишет об этой слободе, что название дано ей «на позор нашего хмельного народа»132.
Иван Грозный разрешил пить водку своим опричникам; для них, собственно, и открылись первые на Руси кабаки. Постепенно туда стало допускаться и всё остальное население страны. Тем не менее до массового пьянства было ещё далеко; при Годунове в Новгороде были закрыты два казённых кабака – по просьбе жителей, терпевших от них убытки и оскудение. В дальнейшем и вовсе возобновился запрет на продажу спиртного – это видно, в частности, из «Дневника Самуила Маскевича», относящегося ко времени царствования Василия Шуйского: «Москвитяне соблюдают великую трезвость, которой требуют строго и от вельмож, и от народа. Пьянство запрещено; корчем и кабаков нет во всей России; негде купить ни вина, ни пива, и даже дома, исключая бояр, никто не смеет приготовить себе хмельного; за этим наблюдают лазутчики и старосты, коим велено осматривать домы. Иные пытались скрывать бочонки с вином, искусно заделывая их в печах, но и там, к большой беде виновных, их находили. Пьяного тотчас отводят в “бранную тюрьму”, нарочно для них устроенную; там для каждого рода преступников есть особая темница; и только через несколько недель освобождают из неё, по чьему-либо ходатайству. Замеченного в пьянстве вторично снова сажают в тюрьму надолго, потом водят по улицам и нещадно секут кнутом; наконец, освобождают. За третью же вину опять в тюрьму, потом – под кнут, из-под кнута в тюрьму, из тюрьмы под кнут, и таким образом “парят” виновного раз до десяти, чтобы наконец пьянство ему омерзело. Но если и такое исправление не помогает, он остаётся в тюрьме, пока не сгниет…»133.
Запрет на пьянство соблюдался, судя по запискам иностранцев о России, и в 30-х гг. XVII в. А вот со второй половины того же столетия картина резко меняется: все наблюдатели в один голос начинают говорить о «безобразном пьянстве русских» (которое, конечно же, было на самом деле ничуть не безобразнее пьянства других народов, в том числе и «цивилизованных»). Объясняется внезапная вспышка русского пьянства, несомненно, легализацией кабаков, усугублённой запретом на продажу в них съестного, но в ещё большей степени – обострением социальных противоречий в русском обществе (XVII в., напоминаю, – это время постепенного ужесточения крепостного права, время разинщины, стрелецких и казацких бунтов, раскола в духовной сфере). При Петре I же окончательно снимается и нравственное осуждение пьянства.
Все это – факты, лежащие, так сказать, на поверхности. Но Пушкин не был бы Пушкиным, если бы и здесь ограничился одним лишь поверхностным уровнем, то есть если бы тривиальное пьянство народа не было у него метафорой народного опьянения чем-то иным. Чем же именно? Думаю, не ошибусь, если предположу – в соответствии со смысловым контекстом всей предыдущей расшифровки сюжета, – что речь идёт о «вине свободы», причем «свободы» не в том пошло-либеральном значении этого термина, который вот уже более двухсот лет стоит на идейном вооружении «полупросвещения», а в том трагедийно-противоречивом его смысле, который мог быть почерпнут А. С. Пушкиным из лучших образцов мировой поэзии (Калибан в шекспировской «Буре» и др.). Во всяком случае, программным для зрелого Пушкина следует считать именно этот второй смысл, судя по стихотворению «Андрей Шенье»:
Народ, вкусивший раз
Твой нектар освященный,
Всё ищет вновь упиться им;
Как будто Вакхом разъяренный,
Он бредит, жаждою томим…
Разумеется, новое понимание «свободы» приходит к А. С. Пушкину не сразу, но, тем не менее, поразительно рано. Сполна уплатив дань юношескому романтизму, поэт уже к 26 годам осознает, что «свобода вообще» – это «призрак ложный», «слово, звук пустой»; что подлинную ценность представляет не эта, кружащая молодые головы абстракция, а только лишь свобода выбора собственной жизненной позиции («Гордись и радуйся, поэт: Ты не поник главой послушной Перед позором наших дней…»). Соответственно, и понятие «политической свободы» лишается уже своего прежнего обаяния, потому что вне его остаются все тончайшие внутренние состояния человека, питаемые духом бескорыстия и скромности, терпения и надежды, совестливости и самоотречения. Гораздо ближе теперь Пушкину взгляд на общественную жизнь, или – что то же самое – на культуру, как на систему ограничений, налагаемых на вседозволенность (как на «безумство гибельной свободы»); гораздо важнее в его глазах сознание того, что подлинно человеческого бытия не бывает без тягот бытия, потому что не бывает прав без обязанностей, свобод без ограничений. А это уже – принципиально новое качество мысли: то, что раньше казалось «рабством», «ущемлением прав и свобод личности», теперь начинает выглядеть как «бремя культуры», скинуть которое можно, лишь упившись «вином свободы» – разрушительными идеями либерализма (см. у Пушкина: «Все мы несём бремя жизни, иго нашей человечности…»134).
Но такое качество мысли подразумевает и новый взгляд на историю, например – на историю пугачевщины, когда «свобода» оборачивается «бунтом бессмысленным и беспощадным», или на историю Великих буржуазных революций, когда под прикрытием лозунгов «свободы» совершается замена своеволия родовой аристократии на своеволие аристократии финансовой, или на ещё более раннюю историю средних веков, когда «свобода» была синонимом «благородства знати».
В сказке речь идёт именно об этой последней истории; вспомним её: в 1526 г. сын Ивана III Василий III (тот самый, который, по словам С. Герберштейна, «всех без исключения гнетет <…> жестоким рабством») женится вторым браком на представительнице знатного литовского рода Елене Глинской. Результатом женитьбы оказывается – после смерти Василия III – установление при Московском дворе «свободных» порядков, типичных для Польско-Литовского государства. Н. М. Карамзин пишет об этом периоде русской истории: «Никогда Россия не управлялась хуже». В обстановке боярского своеволия вырастает, озлобленный им, Иван Грозный; всю свою последующую жизнь он кладет, можно сказать, на обуздание этого своеволия. К концу XVI в. порядок удается восстановить. Но ненадолго, потому что с пресечением династии «вино свободы» вновь ударяет в боярские головы.
Глава 19 бездна вод
Естественно, пьяного гонца обирают, и взамен письменного распоряжения Салтана «ждать царёва возвращенья»
…в суму его пустую
Суют грамоту другую —
И привез гонец хмельной
В тот же день приказ такой:
«Царь велит своим боярам,
Времени не тратя даром,
И царицу, и приплод
Тайно бросить в бездну вод».
Заметим: бросить царицу и приплод велено не в «воду» и не в «море», а – в «бездну вод». Высокий этот оборот явственно выдаёт его происхождение из церковнославянского перевода Библии – из того её места, где говорится о всемирном потопе: «….в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились.» (Быт 7:11). А отсылка к потопу имеет здесь тот скрытый смысл, что «Потопом» в исторической науке принято называть начало крушения Польско-Литовского государства – Речи Посполитой. (Само выражение «польский Потоп» восходит к названию классического романа Г. Сенкевича, где описываются драматичные события, начатые шведским вторжением в Речь Посполитую летом 1655 г. 135.)
Логично было бы поэтому думать, что «польский след» во всей этой двойной (или тройной?) игре слов указывает на причину Русской Смуты начала XVII в. – на связанную с самозванцами польскую политическую интригу, а затем – и на польскую военную интервенцию, приведшую к временному параличу русской государственности.
Между прочим, из «Записок» А. О. Смирновой-Россет видно, что тема потопа, или наводнения, в переносно-политическом смысле, действительно, обсуждалась в пушкинском кругу именно в польском контексте – она звучала в порядке заочной полемики с А. Мицкевичем по поводу поэмы «Медный всадник». Но видно из «Записок» и то, что проблема с самого начала понималась гораздо шире. «Мицкевич думал, – говорит Пушкин, – что лошадь ринется в пропасть и разобьётся, но я не такой дурной пророк, как он <…> Пропасть нас поглотит лишь в том случае, если мы не совершим того, о чём я мечтаю с лицея, – не освободим крепостных, не возвратим им прав гражданина и собственности»136. (В другом месте «Записок» приводятся пушкинские слова о том, что «Годунов <…> заимствовал крепостное право из Польши»137). А Вяземский добавляет: «К. говорил мне, что польское восстание (1830–1831 гг. – С. Г.) этому помешало, что его величество тогда этого желал»138.
Смирнова-Россет комментирует: «Лошадь – Россия, которая, по мнению Мицкевича, стремилась к своей гибели. Лошадь Фальконета символическая, просветитель её сдерживает и поднимает в галоп. В произведении представителя “Виленских Филаретов” уже виден зародыш идей и теорий русских славянофилов, которые усматривали пучину в реформах Петра I. Взгляд Пушкина совершенно иной»139.
Разговор, насколько можно понять, сводится к обсуждению символических смысловых пластов «Медного всадника» – поэмы не только о петербургском наводнении 1825 года, но и о «пучине петровских реформ». В контексте обсуждения затрагивается антироссийская позиция А. Мицкевича, «жертвы и продукта польского Потопа»; в частности, отмечается несогласие с ней Пушкина.
Внутренняя причина несогласия – многовековая предыстория русско-польских отношений. Дело в том, что не одна только Московская Русь была в средневековой Восточной Европе центром глобальной политической кристаллизации на славянской основе, но также и Польша – после её соединения в 1386 г. с Великим княжеством Литовским (состоявшим, в свою очередь, главным образом из отвоёванных русско-литовскими князьями у татаро-монгол западнорусских земель – будущих Украины и Белоруссии). Поэтому с конца XIV в. и до пресечения в 1572 г. польско-литовской династии Ягеллонов Польша фактически представляла собой соединение собственно польской и литовско-русской её частей под верховной властью польской короны, на условиях равноправия и самоуправления обоих половин федерации. До поры до времени равноправие, действительно, соблюдалось. Но уже при последнем Ягеллоне, Сигизмунде II Августе, началось активное вмешательство в межцерковные дела государства папской курии, которое особенно усилилось после Брестской унии 1596 г. В результате этого вмешательства правовое положение православной Западной Руси внутри федерации резко ухудшилось. Одновременно началось закрепощение крестьянства Западной Руси (по примеру собственно Польши, где запрещение ухода крестьян с земель феодалов предусматривалось уже Вислицким и Петрковским статутами 1347 г.140). Всё это возбудило русскую часть государства на борьбу с «короной», а борьба и подготовила совершившийся в 1655 г. «Потоп», то есть частичный территориальный распад государства.
Но при таком взгляде на историю Польши «Потоп» начинает выглядеть уже не столько внутрипольским, сколько польско-русским делом, и не столько одномоментным актом 1655–1656 гг., сколько растянувшимся на целое столетие (15721655 гг.) процессом, в котором традиционно понимаемый «Потоп» лишь поставил первую точку (вторая и третья точки – это разделы Польши 1772 и 1795 гг.). А глубинная суть этого столетнего процесса начинает осознаваться уже не как территориальный распад Польского государства, а как попытка взаимного узнавания двух исторически разошедшихся ветвей русского народа через выяснение сложных политических отношений между ними. По крайней мере, не учитывая данного «закадрового» аспекта русско-польских отношений того времени, мы не поймем и того, почему, например, в периоды «бескоролевий» 1572 и 1586 гг. реальными претендентами на польский престол считались Иван Грозный и его сын Феодор, а в период «бесцарствия» 1610–1612 гг. столь же реальным претендентом на русский престол считался польский королевич Владислав. И, между прочим, только при таком понимании ситуации обретают смысл слова А. С. Пушкина (в стихотворении «Клеветникам России») о русско-польских исторических отношениях как о «домашнем споре» и «семейной вражде».
Что же конкретно являлось предметом этого спора, этой вражды? Главное и единственное, что разделяло на рубеже XVI–XVII вв. две исторически разошедшиеся ветви русского народа, – это их принадлежность к двум различным цивилизационным типам: Западная Русь оказалась исторически ориентирована – через посредство Польши – на Западную Европу, а Восточная – на себя самоё. Но поэтому и конфликт между ними – это не просто банальная средневековая заварушка, это глубокое мировоззренческое сопоставление двух «писем к Салтану», или – что то же самое – сравнительное испытание на прочность двух моделей государственного устройства.
Забегая вперед, напомню, что Россия нашла в себе силы отстоять собственную модель власти и потому выжила; Польша же предпочла не расставаться со своей и получила в конечном счете, вслед за катастрофой 1655 г., разделы 1772, 1793 и 1795 гг. (хотя, разумеется, её конечный проигрыш был проигрышем не западной модели жизнеустройства как таковой, а лишь её исторически-преходящей формы: «слабый выборный король + безответственная шляхта»).
Но в конце XVI – начале XVII вв. конечный результат был далеко не очевиден; наоборот, пресечение династии Рюриковичей и внутрибоярская грызня в Московском царстве давали, казалось бы, все карты в руки польской стороне. А поскольку к тому же именно эта сторона, в силу своей принадлежности к европейскому культурному кругу, считала себя облеченной «салтановскими» санкциями, то и сам конфликт приобрёл как бы форму исходящего от Салтана приказа: «И царицу, и приплод Тайно бросить в бездну вод».
В этом приказе ясно обозначился приговор, вынесенный восточнорусской государственности, – потому что «неведомая зверюшка» не имела, с европейской точки зрения, права на самостоятельное существование. А вслед за вынесением приговора вступал в силу и механизм приведения его в исполнение – Русская Смута 1605–1612 гг.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что среди авторов приговора, которыми по сказке являются Ткачиха, Повариха и сватья баба Бабариха, Польша не числится (о ней в сказке вообще нет речи). В этом обстоятельстве заключена глубокая историческая правда, потому что при внимательном рассмотрении всех относящихся сюда фактов Русская Смута обнаруживает свою явную геополитическую природу. Ведь Польша, будучи крайним форпостом западноевропейского мира на границе с миром восточноевропейским (эту точку зрения на неё высказал А. Тойнби141), являлась всего лишь исполнителем инструкций такой влиятельной международной католической силы того времени, как иезуитство. А скрытая роль последнего в событиях Смуты современным историкам известна очень хорошо. Ещё во времена Ивана Грозного посланец папы Григория XIII в Польшу и в Россию ученый иезуит Антонио Поссевин писал кардиналу де Кома: «Хлыст польского короля, может быть, является наилучшим средством для введения католицизма в Московии»142. Иезуиты же были инструкторами и координаторами действий двух первых самозванцев; сохранился составленный ими для Тушинского вора подробный Наказ, немалую часть которого составляют конспирологические пункты. И вообще, о целях международного католицизма в делах Смуты лучше всего сказал сам А. С. Пушкин в «Борисе Годунове» словами Лжедмитрия, обращенными к Марине Мнишек:
…Но знай,
Что ни король, ни папа, ни вельможи
Не думают о правде слов моих,
Димитрий я иль нет – что им за дело?
Но я предлог раздоров и войны.
Им это лишь и нужно.
У протестантских же стран, и в первую очередь у Англии, были свои виды на Россию. Известно, что под конец царствования Ивана Грозного отношения России с Англией испортились, так как Грозный не дал английским купцам той монополии на торговлю в России, которой они от него добивались. Но при Борисе Годунове, заискивавшем в расположении иностранных государей, отношения с Англией быстро поправились: в угоду Елизавете Годунов дал огромные преимущества английским купцам и освободил их от всякой пошлины, в явный ущерб государству, лишив при этом русскую казну, по подсчётам Н. М. Карамзина, более 20 тысяч ежегодного дохода. При Лжедмитрии I эта же, вредная для России, практика была многократно усилена, а в дальнейшем и вовсе стала никому не подотчётна. В идеологическом плане она, впрочем, выдавалась за «приобщение России к европейской культуре». Но, как пишет М. О. Коялович в «Истории русского самосознания», под предлогом культурной интеграции Западной Европы и России «осуществлялась на самом деле не эта утопия, а другое практическое дело» – захват английскими, а затем и голландскими купцами ключевых торговых позиций по всем стратегически важным регионам России143.
На скрываемые цели этой политики и указывает в подложном приговоре (в приказе «тайно бросить в бездну вод») слово «тайно».
Глава 20
Бочка
Все вышесказанное объясняет, почему результатом подложного приговора является бросание царицы Матери и её сына в «бездну вод». Но данное действие осложнено в сказке образом «бочки»:
Делать нечего: бояре,
Потужив о государе
И царице молодой,
В спальню к ней пришли толпой.
Объявили царску волю —
Ей и сыну злую долю,
Прочитали вслух указ
И царицу в тот же час
В бочку с сыном посадили,
Засмолили, покатили
И пустили в Окиян —
Так велел-де царь Салтан.
Загадку «бочки» объясняет сцена выхода Гвидона с матерью на берег острова Буяна:
Сын на ножки поднялся,
В дно головкой уперся,
Понатужился немножко:
«Как бы здесь на двор окошко
Нам проделать?» – молвил он,
Вышиб дно и вышел вон.
Мать и сын теперь на воле…
Если выход русского государства на Балтийское побережье при Петре – это выход из «бочки», то потеря побережья по условиям Столбовского договора 1617 г. – это заточение в неё. Смысл образа предельно ясен; поэтому вкратце изложим предысторию вопроса.
Древнерусское государство возникло как политическая форма великокняжеского контроля над путем «из варяг в греки» – из Балтийского моря в Черное. С распадом древнерусского государства на удельные княжества контроль над Балтийским побережьем остался за Великим Новгородом; именно Новгород приглашал Александра Невского отбить поползновения западноевропейских крестоносцев на территории бассейна Невы. Но в целом торговые отношения Новгорода с Ганзой, Ливонией и Швецией складывались как неравноправные, препятствовавшие самостоятельной русской торговле с западными странами. Поэтому с присоединением Новгорода к Московскому царству Ивану III пришлось воевать с Ливонией и Швецией за свободу рук на Балтике (Иван III построил, в частности, первое русское «окно в Европу» – Ивангород на реке Нарове). Борьбу с Ливонией и Швецией продолжали – с переменным успехом – Иван Грозный и его сын Феодор. А ослабление страны в ходе событий Смуты привело к временной уступке Балтийского побережья Швеции – вплоть до итогов Северной войны при Петре I, когда и состоялся, наконец, выход из «бочки» на волю.
Вроде бы всё сходится. Но, учитывая прослеженную на материале предыдущего содержания сказки методику пушкинского образотворчества, нельзя не почувствовать, что здесь не хватает какого-то вполне конкретного, исторически узнаваемого повода для сравнения допетровской Руси с «бочкой».
Что это за повод – если он действительно существовал?
Очевидно, что Пушкин здесь воспользовался уже упоминавшимся в начале текстом из труда С. М. Соловьёва – народным сказанием, относящимся к эпохе Петра I (источники сказания – «Дела Преображенского приказа» за 1704–1705 гг.). Напомню: «Царь ввел брадобритие и немецкое платье, царицу отослал, Монсову взял, стрельцов переказнил – всё по возвращении из-за границы, но он ли это приехал? Немцы погубили настоящего царя Петра у себя, и прислали на Русь другого, своего немца же, чтоб обусурманить православных. Сначала, вероятно, на основании слухов о неприятностях в Риге, создалась следующая сказка: “Как государь и его ближние люди были за морем, и ходил он по немецким землям и был в Стекольном (Стокгольме), а в немецкой земле Стекольное царство держит девица, и та девица над государем ругалась <…> и <…> велела бросить его в темницу. И как та девица была именинница, и в то время князья её и бояре стали ей говорить: пожалуй, государыня, ради такого своего дни выпусти его государя, и она им сказала: подите посмотрите, буде он валяется, и для вашего прошенья выпущу. И князи и бояре, посмотря его государя, ей сказали: томен, государыня! и она им сказала: коли томен и вы его выньте, и они его, выняв, отпустили. И он пришел к нашим боярам; бояре перекрестились, сделали бочку, набили в неё гвоздей и в тое бочку хотели его положить, и про то уведал стрелец и, прибежав к государю к постеле, говорил: царь государь, изволь встать и выйти, ничего ты не ведаешь, что над тобою чинится, и он государь встал и вышел, и тот стрелец на постелю лег на его место, и бояре пришли и того стрельца с постели схватя и положа в тое бочку, бросили в море”. Сказка не говорила, что сделалось потом с Петром, и люди, враждебные преобразованию, стали распространять слух, что он погиб за границею, а на его место явился немчин: “Это не наш государь, а немец; а наш царь в немцах в бочку закован да в море пущен”»144.
И ещё два совпадения деталей образа с исторической реальностью.
По сказке, царицу с сыном заточили в бочку свои же бояре. Но так это было и на самом деле. Многих печальных последствий Смуты, включая сюда потерю Балтийского побережья, удалось бы избежать, если бы со времени пресечения династии Рюриковичей и вплоть до избрания на царство первого Романова страну не сотрясала внутрибоярская борьба за власть. Она не утихала даже во время частичной стабилизации положения при Василии Шуйском и уж тем более при «семибоярщине» 1610–1611 гг.
Про находящегося в бочке сына царицы в сказке говорится, что «растёт ребенок там Не по дням, а по часам». Действительно, за период между Смутой и событиями петровского времени политическое значение московских государей значительно выросло за счет присоединения восточных территорий. Уже в 40-х гг. XVII в. русские землепроходцы прошли всю Сибирь и достигли берегов Тихого океана. Тогда же были пройдены моря Северного Ледовитого океана. В 1648 г. Семен Дежнев открыл пролив между Азией и Америкой, в 1649–1651 гг. Ерофей Хабаров дошел до Амура и составил «чертёж реке Амуру». В Сибири основывались города-остроги: Енисейск, Якутск и другие; некоторые из них, такие как Тобольск и Мангазея, приобрели значение крупных центров сухопутных и морских путей. Энергичный рост России свидетельствовал об огромности накопленного ею потенциала. А бурное развитие экономических и политических сношений со странами Западной Европы через Белое море ясно показывало, что назрела необходимость выхода страны из «закупоренного» состояния уже и на самом главном – западном направлении.









































