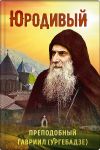Текст книги "Блаженные похабы. Культурная история юродства"

Автор книги: Сергей Иванов
Жанр: Религиоведение, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Однако при всей невыразительности приведенных случаев реального юродства, житие буквально пронизано апологией “тайной святости”. Сам Нифонт вызывал противоречивые отклики (81.30–32) и утверждал, что “многие в своем внутреннем мире делают богоугодные вещи, даже если внешним образом поступают неразумно (μωραίνουσι); Бог видит внутреннюю сущность и не попускает таким вовсе погибнуть… А те, что в душе порабощены [бесом]… даже если они руками или плотью творят добро, это не идет им на пользу” (126.20–25). Истинные святые для Нифонта – тайные святые (81.24; 26; 118.4–5; 7–8; 16–18; 160.22–23).
Однажды в житии приведена настоящая апология парадоксальной святости: кто-то спрашивает Нифонта, “почему многие люди ненавидят праведников, иные соблазняются (σκανδαλίζονται) на их счет”. Святой отвечает, что “хула приносит праведному большую пользу” (55.8–12), и рассказывает об одном таком человеке, который жил со скотиной и считался негодяем, а сам тем временем молился о том, чтобы хулящие его не подверглись Божьему гневу (55.17–56.4). Как признает агиограф, кое-кому такая святость не нравится: “Многие праведники являют для людей соблазн, и те ропщут против них, говоря: если им нужно спасение, то пусть сидят в пустыне, а те, кто пребывает в миру, тщеславятся и заботятся о том, чтобы нравиться людям” (56.19–24). Нифонт возражает на этот аргумент так: во-первых, и патриархи жили среди людей, и Бог пребывает повсюду; во-вторых, природные явления тоже не могут всем нравиться одинаково: кто-то любит зиму, а кто-то лето; в-третьих, ведь и Иисус не всем нравился (55.25–58.15). Эти причудливые аргументы, ни один из которых не отвечает на этическую суть упреков, показывают тем не менее, что в византийском обществе продолжалась оживленная полемика на эту тему.
Житие Нифонта важно для нас еще по одной причине: агиограф, словно предвосхищая рассуждения Симеона Нового Богослова (см. с. 136–137), развивает концепцию “бесстрастия” праведника.
Относительно тех добродетельных, которые едят [в пост], а также пьют вино, внимай, чадо, и слушай: те, за кем ты это заметил, являются доблестными воинами [Божьими], они попрали греховные страсти и ныне являются хозяевами и господами страстей, получившими дары бесстрастия от Бога. А ведь Божьи дары неотменяемы (ἀμετάτρεπτα), и те, кто их получил, даже если едят [скоромное], даже если пьют вино – делают все это в бесстрастии… Те, кто это делает, часто [нарочно] творят такое на глазах у людей, а оставшись одни, в молчании творят дела благочестия, восполняя пощением в келье то, чего лишились на глазах у людей (164.10–17; 26–29; ср. 232.4–31).
Разумеется, делающие подобное – по определению юродивые, но Нифонт их этим словом не называет. Такая же сдержанность проявляется и в другом месте: Нифонт, как и Василий Новый, рисует картину Страшного суда, но у него, в отличие от Василия, юродивые впрямую не названы среди спасшихся; быть может, они подразумеваются среди “тех, кто ради Христа” (в одной из поздних рукописей добавлено: “бедные”) (96.10), а возможно, что среди “блаженных” (μάκαρες, 98.36–99.6), но это лишь догадки.
В ученой культуре второй половины X века юродство также играло, видимо, весьма заметную роль – иначе невозможно объяснить, почему в энциклопедическом словаре “Суда”, созданном около 1000 года и совершенно не имеющем узкоцерковной направленности, появляется отдельная статья “Глупость Христа ради” (Μωρία διὰ Χριστὸν”)42. Хотя это не более чем цитата из сочинения Иоанна Златоуста “О непостижимости Бога”43, само ее появление в словаре знаменательно.
В конце X века отмечается и взлет интереса к Симеону Эмесскому: гимнописец Гавриил создает в его честь кондак44. Это весьма объемистое произведение45; хотя автор ни разу, кроме как в заголовке, не употребляет слова σαλός, песнопение написано необычным, не вполне грамотным языком46; можно ли сделать отсюда какой-либо вывод о характере его бытования – неизвестно. В целом гимнограф, живописуя подвиги Симеона, аккуратно следует за текстом Леонтия Неапольского, однако по крайней мере в двух местах дает волю и собственной фантазии: там, где описано, как юродивый идет в самую гущу соблазнов, но не поддается им, Гавриил сравнивает его с мифическим существом саламандрой, которое горит, но не сгорает47, а в сцене агрессии Симеона против горожан добавлено, по сравнению с оригиналом, всего одно слово – святой не только толкался, но и “плевался” (πτύων)48. Может быть, Гавриил использовал собственный опыт общения с подобными людьми?
И все же наиболее значимым является тот факт, что Симеон Метафраст, которому в конце X века было поручено пересмотреть весь агиографический фонд и издать новый менологий, не счел нужным включить юродивых в свою многотомную энциклопедию.
Глава 6
“Новые богословы”
I
В XI веке было создано житие Симеона Нового Богослова, где биография этого реального человека, жившего на рубеже тысячелетий, обрисована с большим количеством правдоподобных деталей. В обширном и крайне интересном тексте фигурирует некоторое количество персонажей, историчность которых не вызывает сомнений и которые при этом сознательно вели себя по-юродски. У нас тем самым появляется возможность не только “прочесть” юродство как литературное высказывание, но и взглянуть на него как на жизненную позицию. Первый из таких персонажей – это монах Студийского монастыря Симеон Благоговейный. Вот что рассказывается о нем в житии:
Имея в отношении окружающих его тел не больше чувств, чем мертвый имеет по отношению к мертвым, он прикидывался возбужденным (ὑπεκρίνετο τὴν ἐμπάθειαν), желая этим скрыть сокровище своей бесстрастности… а также спасти тайком хоть некоторых, а по возможности и всех, кто лежит на дне; при помощи этой наживки он пытался вытащить их из пучины погибели1.
Этот мотив уже хорошо нам известен, да и читатель жития, должно быть, помнил, что имеет дело с очевидной аллюзией на поведение Симеона Эмесского. Отличие теперешнего Симеона от древнего в том, что он совершенно реальная историческая фигура, автор сохранившихся богословских сочинений. Так что его “юродствование” – сознательно выбранная поза. Однако данное обстоятельство не помешало скандальной славе о нем распространиться по Константинополю, что сделало невозможной канонизацию Симеона после его смерти. Духовный ученик Благоговейного, Симеон Новый Богослов, в своих попытках учредить культ учителя встретил столь яростное сопротивление церковных властей, что был даже отправлен в ссылку. Считать или не считать Симеона Благоговейного юродивым – вопрос концептуальный2–3, но любопытно, что при всей своей бескомпромиссности Новый Богослов так ни разу и не решается сослаться на пример Симеона Эмесского или даже просто назвать в открытую своего учителя юродивым: видимо, юродство на рубеже X–XI веков уже не имело шансов на официальное признание.
Еще один случай юродства также связан с именем Симеона Нового Богослова. В его житии упоминается некий Иерофей, западный епископ, который нечаянно убил человека и решил искупить страшный грех невиданным покаянием. Ему посоветовали уйти в монастырь Св. Маманта, где игуменствовал Симеон.
[Там Иерофей] в стремлении к страданиям прикидывался полоумным (παράφορά τινα ὑπεκρίνετο) и нарочно разбросал и переколотил множество горшков, дабы услышать оскорбления, а то и получить удары по щекам. Поэтому, когда его ругали, он радовался, будто достиг желаемого, и жаждал испытать кнута, ибо удары, которые получала его внешняя оболочка, освобождали внутреннего человека от будущих страданий… Иерофей исполнял должность келаря, и вот как-то велел ему святой [Симеон] наполнить из бочки один из пустых сосудов. Он тотчас повиновался и отправился к бочке. Но у него была привычка постоянно петь псалмы и каяться. Кроме того, всякий раз, когда он видел лики святых или изображение креста, он целовал их, даже если их были тысячи. Случилось так, что крест был изображен и на крышке бочки. Открыв крышку, он начал… целовать крест и перевернул сосуд, а содержимое вылилось на землю. Увидев сосуд пустым, Иерофей сказал со смехом: “Пока не облобызаю моего креста, о злой бес, не возьмусь за сосуд, не будь я юродивый Иерофей (μὰ τὸν σαλὸν Ἱερόθεον)! Я ведь знаю, для чего ты устроил это представление”. Поскольку сосуд опорожнился полностью, он схватил его пустой и побежал рассказать блаженному отцу Симеону все, что случилось. Святой же, зная Иерофея и понимая, что он делает все, чтобы навлечь на себя бесчестье, желал доставить ему тот венец, которого он жаждал. Вот что он приказал насчет Иерофея: когда в тот же день монастырские мулы отправлялись из обители с грузом бидонов, он велел посадить на них Иерофея и тащить его до Ксеролофа, и чтобы возничий приговаривал: “Если у кого-нибудь повредились мозги (βεβλαμμένος τὰς φρένας), то вот какой триумф его ожидает!” Когда это было исполнено и Иерофей отправился верхом на бидонах, то погонщик мулов начал громким голосом кричать, что велено, а чудак Иерофей повторял это за ним, присовокупляя к словам потоки слез (72–75).
Пример Иерофея любопытен потому, что в его лице мы встречаем первого юродивого с Запада (видимо, из Южной Италии). Заметим, однако, что мотивировка юродства у Иерофея отличается от “классической” византийской: покаяние как причина экзотической аскезы встретилось нам лишь однажды, у Марка Лошадника (см. с. 79, ср. с. 134), то есть еще в эпоху становления феномена – в остальных случаях, напротив, к юродству приступают по достижении вершин совершенства. На Западе же, как мы увидим в дальнейшем (см. с. 288–289), презрение со стороны окружающих воспринималось именно как высшая форма презрения к себе.
Но история с Иерофеем важна еще и другим. До сих пор юродивый нарушал устоявшиеся нормы в одиночку, вызывая обычно негодование у окружающих. Даже конфиденты юродивого, знавшие о намеренном характере его безобразий, жалели святого и восхищались им, но не ассистировали ему. Как мы помним, псевдомимы рассердились на Иоанна Эфесского за то, что он не отважился унизить их, как они того требовали (см. с. 78). Пожалуй, некоторый намек на “подыгрывание” юродивому содержится в рассказе о том, как повел себя авва Даниил с Марком Лошадником (см. с. 79). В данном же случае вообще неизвестно, кто кого больше “заводит” – Иерофей Симеона или наоборот. Разумеется, для игумена подобное поведение выглядит более чем странным.
Интересно отметить, что такое же соседство мотивов юродствования и сверхмерного послушания можно найти в житии (BHG, 187) Афанасия Афонского (925–1000), который, будучи весьма учен, изображал невежество, “премудрую ребячливость, издевающуюся или подвергаемую издевательствам (νηπιότητα πάνσοφον παίζουσαν ἢ παιζομένην)4. То же находим и в житии (BHG, 1370) другого святого X века – Нила Россанского (910–1005).
[Тот] предпочел бы умереть страшной смертью, нежели прослыть святым у кого-либо из людей. Наоборот, многим он старался представить себя дерзецом и причастником всех прочих страстей. Многие неразумные соблазнялись, но мы, незаслуженно сподобившиеся есть и пить вместе с ним, уверены… что Нил – преблаженный святой5–6.
Нельзя не отметить также, что, вероятно, с легкой руки Симеона Благоговейного в агиографии X века получил довольно мощный импульс мотив “бесстрастного бесстыдства” (см. с. 133–134). У нас есть по крайней мере три примера этому. В житии Луки Нового (BHG, 994) повествуется, что он “часто спал рядом с женщинами, если так получалось, и не испытывал от этого ни малейшего вреда и не подвергался ни единому помыслу”. Однажды, рассказывает агиограф, когда в монастырь пришли две женщины,
он нас уложил с одной стороны, сам лег с другой, а им, по причине холода, велел лечь посередине. Он сделал это, как ребенок, прижимающийся к матери, так, словно лежал рядом с какими-нибудь камнями или поленьями. И ни один плотский помысел не овладел им! Такова была простота и бесстрастие этого земного ангела!7–9
Если подобные эксперименты направлены на испытание лишь собственной духовной стойкости, они не могут считаться юродством – но когда подобное поведение носит демонстративный характер, оно провокативно вне зависимости от результатов “эксперимента”.
Наконец, к исходу X века относится житие Фантина Нового (BHG, 1508–1509), который имел обыкновение читать мирянам, особенно женщинам, свои наставления в голом виде. Он также “достиг такого бесстрастия и совершенства, что не чувствовал разницы между женщиной и мужчиной”10. Позднее, в XII веке, эта традиция была продолжена Неофитом Затворником11.
II
Однако вернемся к Симеону Новому Богослову. До сих пор мы говорили о нем на основании его жития. Но он и сам был плодовитым духовным автором. Обратимся же к его сочинениям и посмотрим, не нашла ли в них отражения тема юродства.
На первый взгляд нет ничего более полярного, более антагонистичного, чем Симеон Новый Богослов и юродивый. В самом деле, юродивый безвестен, а Симеон был заметной фигурой. Юродивый находится на самом дне общества, а Симеон являлся (по крайней мере, так утверждает его агиограф) спафарокувикулярием и синклитиком, его дядя был близок к императору. Юродивый обычно держится в стороне от церкви, а Симеон много лет игуменствовал в Св. Маманте. Юродивый развязен, назойлив и нагл, а Симеон всегда собран, суров и неприступен. Юродивый кощунствует, а Симеон славился своим благочестием. Наконец, Симеон и сам совершенно недвусмысленно высказывается о юродском поведении:
Того, кто живет в смиренном воздержании, люди считают притворщиком, а того, кто ест, как обжора, держат за безыскусного и простодушного, а частенько и сами с удовольствием трапезничают вместе с ним, потворствуя собственной слабости. Мало того, даже тех, кто прикидывается сумасшедшим (τοὺς τὸν σαλὸν ὑποκρινομένους), острит, болтает несусветный вздор, принимает непристойные позы и тем вызывает у людей смех, – даже их почитают как бесстрастных и добрых, полагая, будто этакими-то ухватками, ужимками и речами те пытаются скрыть свою добродетель и бесстрастие; а вот на тех, кто живет в благоговении, добродетели и простоте сердца и на деле является святым, – на тех не обращают внимания, словно на обычных людей, и проходят мимо12.
Казалось бы, сказанного достаточно, чтобы раз и навсегда отказаться от дальнейших попыток найти у Симеона апологию юродства. Но не будем спешить. Уж чего-чего, а последовательности от этого мыслителя ждать не приходится.
Много внимания в своих трудах Новый Богослов уделяет популярной в Византии проблеме, можно ли достичь полного бесстрастия. Многие теологи утверждали, что не следует насиловать человеческую природу, но единства мнений на этот счет не было13. Особенно осторожно высказывались православные богословы относительно сознательного провоцирования искушений с целью проверки собственного бесстрастия. Но Симеону претит эта осмотрительность, стыдливо допускающая слабость человека и возможность греха.
Многие светские лица во время наших бесед [начинает он с напускным спокойствием] часто спорили со мной относительно страстности и бесстрастия. И вот я слышал почти от всех… будто невозможно человеку достичь таких высот бесстрастия, чтобы беседовать (ὁμιλῆσαι) и трапезничать с женщинами и не претерпеть никакого ущерба и не испытать втайне какого-нибудь движения плоти или позора (κίνησιν ἢ μολυσμόν). Слыша своими ушами такие речи, я исполнился великой печали14.
И тут голос Симеона крепчает:
Можно достичь такой свободы… чтобы, не только обедая и беседуя с женщинами, остаться неповрежденным и бесстрастным, но и, вращаясь посреди города, слушая, как люди поют и играют на кифарах, глядя, как они смеются, и танцуют, и забавляются (παίζοντας), не претерпеть вреда (Eth. VI, 39–46, р. 122).
После этого пассажа мы так и остаемся в неведении, зачем святому толкаться в городской толпе, да еще в явно сомнительных кварталах, если он не юродивый. Но Симеон идет гораздо дальше:
Подобно тому как солнце не может запачкать свои лучи, освещая грязь, точно так же душа или разум сподобившегося благодати человека, несущего Бога в себе, не могут загрязниться, даже если его чистейшему телу случится вываляться (ἐγκυλινδεῖν) в грязи, так сказать, человеческих тел, что вообще-то несвойственно благочестивым15. Мало того, праведник не повредится в своей вере и не отделится от своего Господа, даже если окажется заперт с тысячами неверных, нечестивых, замаранных и, голый телом, соединится с ними, тоже голыми (γυμνὸς τῷ σώματι γυμνοῖς αὐτοῖς ἑνωθήσεται) (Eth. VI. 202–211).
Но можно ли, по крайней мере, надеяться, что “праведник” Симеона лишь покорствует обстоятельствам, но сам инициативы не проявляет? Как бы не так!
И отныне ты не будешь делать различия мужского и женского [ср. с. 91] и не претерпишь от этого никакого вреда… но, встречаясь и общаясь с мужчинами и женщинами и целуя их, ты пребудешь неповрежденным и неподвижным [плотью]… и будешь смотреть на них и обращать на них внимание как на ценные члены Христовы и храмы Божьи (Eth. VI, 462–469)16.
Но поцелуи, в конце-то концов, есть предел провокации? Пустые надежды!
Праведник, даже приближаясь телом к телам (σώματι σώμασι πλησιάζων)17, может остаться святым по духу… Если потом ты даже увидишь такого человека безобразничающим (ἀσχημονοῦντα) и будто бы устремляющимся к срамному действию – знай, что все это творит мертвое тело!18
Ясно, что Симеон имеет здесь в виду своего духовного наставника:
Таким уже ныне, в недавние времена, был святой Симеон, Благоговейный Студит. Он не стыдился членов всякого человека: ни смотреть на голых людей, ни самому являться их взору голым. Ведь он… пребывал неподвижным, неповрежденным и бесстрастным (Hymn. XV, 208–213; ср.: Cat. VI, 300–305).
Разумеется, Симеон понимает, что подобное поведение вряд ли можно рекомендовать в качестве образца святости, от этого-то он и преисполняется ярости против воображаемого оппонента:
А если ты, будучи голым и прикоснувшись к плоти, становишься женонеистовым, словно осел или жеребец, то как ты смеешь и святого обвинять? (Hymn. XV, 216–220)
В чем же разница между скабрезностью праведника и скабрезностью грешника? Может быть, дело в том, что настоящий святой лишь “разыгрывает” грех, не совершая его на самом деле? Попробуем разобраться.
Разум святого не запачкается, даже если заглянет (παρακύψειεν) в мутные и грязные страсти… Даже если иногда (ποτέ) ему и захочется войти в рассмотрение этих [страстей], он сделает это ни с какой иной целью, как только чтобы исследовать и понять побуждающие мотивы и механизмы (Eth. VI, 258, 260–268).
Итак, “бесстрастный” лишь “заглядывает, свесившись” (παρακύψειεν) в бездну страстей. К этому мы уже привыкли, это его обычное состояние. Но чем же тогда отличается “вхождение”, то, которое бывает “иногда” (ποτέ)? Из контекста ясно, что это уже некая следующая ступень: речь идет об эксперименте на себе. Праведник уже не изображает грешника, он им становится, причем не в глазах профанов, как раньше, а и в своих собственных. Правда, Симеон пытается обосновать это погружение во грех интересами духовных чад (Eth. VI, 269–328; Cat. XX, 83–85), но вряд ли он и сам верит в такое оправдание: в его духовном мире нет места для помощи другому, его концепция спасения глубоко индивидуалистична19. Так что все эксперименты с грехом и бесстрастием – это игра “праведника” непосредственно с Богом. Или автора – с читателем.
Из трудов Симеона нельзя понять, является ли богоизбранность результатом аскетических усилий или харизматическим даром20. В любом случае достигший ее уже не обязан дальше никак подтверждать свою святость. Дар этот не отнимается, что бы ни натворил “бесстрастный”.
С другой же стороны, Симеон понимает, что, отвергнув объективный критерий греховности, он загоняет себя в ловушку – именно отсюда его бессильная ярость, когда он пишет о “настоящих” юродивых (см. с. 138): они показывают ему логические последствия его собственной теории. Симеон словно демонстрирует нам, как бы мог обосновывать свои непотребства юродивый, если бы был реальным человеком, а не культурным конструктом.
В отличие от своего духовного наставника, Благоговейного, Новый Богослов за пределами собственных сочинений позволял себе “юродствовать” лишь в том бытовом смысле, в котором это слово употребляется в русском языке сейчас. Как мы уже упоминали, Симеон был отправлен в ссылку за самовольную канонизацию своего учителя. По утверждению Никиты Стифата, главным врагом Симеона был патриарший синкел Стефан Никомидийский. Именно он боролся против культа Симеона Благоговейного, именно он (с “рационалистических” позиций) яростно полемизировал с Симеоном по теологическим вопросам, они оба явно ненавидели друг друга также и на личном уровне – таким образом, когда в результате интриг синкела Новый Богослов был сослан, именно Стефан мог считать себя победителем в этом долгом противостоянии, и именно ему сел писать письмо Симеон, как только прибыл к месту ссылки. Это послание было задумано им как примирительное; следуя евангельскому завету, Симеон благословляет своего гонителя и благодарит Стефана за полученные от него страдания, которые приближают его, Симеона, к Богу. Письмо заканчивается словами:
Если у тебя еще осталось в запасе что-нибудь, что бы ты мог добавить к счастью и славе любящих тебя, пожалуйста, сделай это не колеблясь, дабы умножилась тебе отплата и щедрее было тебе воздаяние от Бога. Будь здоров! (132–134)
Искать мук и молиться за обидчиков – нормальное поведение всякого святого. Но при этом каждое слово письма дышит такой испепеляющей ненавистью, что вряд ли хоть кто-нибудь, наипаче адресат, мог бы воспринять его как образец христианского смирения. На этом примере хорошо видно, как величайшее самоуничижение у Симеона маскирует (впрочем, не очень усердно) величайшую гордыню21.
А это и есть “юродствование”, в современном смысле русского слова.
III
Вседозволенность “бесстрастного” героя Симеона очень напоминает поведение еретиков-мессалиан, по крайней мере какими их изображали противники. Не будем касаться доктринальных расхождений мессалианизма и православия22. Обратим внимание на откровенную провокационность как почти обязательный атрибут поведения мессалиан. Согласно свидетельству Епифания,
мужчины с женщинами… вместе спят на площадях, поскольку, как они говорят, у них нет имущества на земле. Ни в чем для них нет препятствия… слова же их напоминают речи безумцев (ἀφρόνων ἐπέκεινα)… Поста они вообще не знают… но иногда до ночи молятся, ничего не евши23.
Сочетание показной разнузданности и тайной аскезы – фирменный знак юродства! Мессалиане, по словам Феодорита Киррского, делают и другие безумные вещи (φρενίτιδος ἔργα)24.
Из схолии Максима к Псевдо-Дионисию Ареопагиту следует, что
[мессалиане] после трех лет суровой аскезы начинают свободно чинить непотребства, предаваясь блуду и нечестию, обжорству и разврату… утверждая, что все это они делают бесстрастно… и, подобно одержимым безумием (φρενίτιδι κατεχόμενος), они радуются собственной болезни25.
Сразу несколько независимых источников рассказывают о ересиархе Лампетии Каппадокийском. “Много раз, – писал Феодор Бар Кони, – он снимал свои одежды и стоял нагой перед лицом встречных. И все то, что происходило с ним из-за его сумасшествия и безумия, сам он приписывал чистоте и бесстрастию…. Он издевался над монахами и говорил… что человек должен есть, пить и забавляться. А тех, кто отвергал его учение, он называл безумцами”26–28.
Все то, в чем обвиняли мессалиан, вошло позднее в византийские мистические учения. Например, в X веке был осужден Элефтерий Пафлагонский. Его уличали в том, что
он предписывал монаху делить ложе [одновременно] с двумя женщинами. По окончании одного года полного воздержания он разрешал безбоязненно предаваться наслаждениям и совокуплению (μίξεσι) как с родственниками, так и с чужими, [говоря], что это безразлично и не запрещено природой… Да будут анафема те, кто изображает неистовство и прикидывается (ὑποκρινομένοις), что в экстазе видит какие-то откровения, и так обманывает людей29.
В общем, осуждение Элефтерия и канонизация (впрочем, оспаривавшаяся) Нового Богослова – результат скорее жизненных обстоятельств, чем различий доктрины30. То же можно сказать о такой паре, как Симеон Новый Богослов и Константин Хрисомалло, осужденный за ересь в 1140 году: совпадение их доктрин было столь велико, что последователям Хрисомаллы удалось спасти некоторые из его сочинений, приписав их Симеону Новому Богослову31. Впрочем, ведь и сочинения этого последнего вызывали такое смятение, что переписчикам его рукописей приходилось заменять в них наиболее одиозные термины32.
Однако принципиальное отличие персонажа юродивого, каким его породило религиозное сознание, от любых мистиков и еретиков даже не в том, что они реальны, а он нет. Мистику в идеале не интересно, есть ли публика у его духовных экспериментов. Еретик стремится рекомендовать свой образ действий всякому, кто готов обратиться в его веру. Персонаж юродивого, с одной стороны, невозможен без публики, а с другой – практикует образ поведения, который сам же считает предосудительным для других.
Наверное, какие-то мессалиане могли замаскироваться под юродивых, как Хрисомалло – под Нового Богослова, но культурные явления нельзя сводить к банальному qui pro quo с переодеванием. Юродство было своего рода прививкой безопасной дозы “ереси” к “здоровому” телу православия.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?