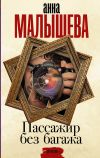Текст книги "… а, так вот и текём тут себе, да … (или хулиганский роман в одном, но очень длинном письме про совсем краткую жизнь)"

Автор книги: Сергей Огольцов
Жанр: Жанр неизвестен
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 58 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
Мы нестройно двинулись, какая-то девочка разревелась: её стали утешать на ходу.
Я оглянулся на маму.
Она улыбалась и говорила уже не слыхать что, и помахала мне рукой.
Черноволосая, молодая, красивая…
Дома мама всем сказала, что Серафима Сергеевна Касьянова очень опытная и хорошо, что я попал именно к ней.
Поначалу опытная учительница обучала нас писать карандашом в тетрадях в косую линейку, чтоб вырабатывался почерк с наклоном.
Мы писали нескончаемые строчки палочек и крючочков, из которых в дальнейшем составятся буквы.
Прошла целая вечность, прежде чем учительница объявила, что мы начинаем писать ручками и назавтра надо принести их с собой в школу вместе с чернильницами-невыливайками и сменными перьями.
Такие ручки – изящные деревянные палочки в яркой однотонной окраске с манжетиками из светлой жести на конце, куда вставляется перо, я и без того каждый день приносил с собой в деревянном пенале с продольной выдвижной крышечкой.
А пластмассовые невыливайки и впрямь удерживали чернила в своих двойных стенках, если случайно опрокинешь, или нарочно перевернёшь кверх тормашками.
Перо обмакивалось в чернильницу, но не слишком глубоко, потому что если наберёшь на перо слишком много чернил, они стекут на тетрадный лист и получится клякса.
Одного обмака хватает на пару слов, а потом – снова макай.
В школе чернильницы стояли по одной на каждую парту и двое соседей макали туда перья своих ручек по очереди.
Кончик у сменных перьев был раздвоен, но плотно теснящиеся друг к другу половинки оставляли на бумаге тонкую линию (если не забудешь обмакнуть перо в чернильницу), зато при нажиме на ручку они плавно раздвигались, чтобы линия стала пошире.
Чередование тонких и жирных линий с равномерными переходами из одной в другую, запечатлённые в прекрасных образцах учебника по чистописанию, приводили меня в отчаяние своей недостижимостью.
Позднее, уже в третьем классе, я освоил ещё одно применение школьных пёрышек.
Если воткнёшь перо в бок яблока, провернёшь, а потом вытащишь, то в нём останется маленький конус яблочной плоти, а в самом яблоке – аккуратное отверстие, куда можно вставить полученный конусик, предварительно перевернув.
Получается яблоко с рогом. Добавляешь ещё таких рожков, и оно начинает смахивать на морскую мину, или ежа – в зависимости от усидчивости рукодела.
Потом своё художество можно съесть, но вкус яблочного мутанта мне не нравился.
А год спустя, в четвёртом классе, пёрышки учеников превращались в метательное оружие.
Одна половинка раздвоенного носика обламывается, а заокругленный конец задней части надо расщепить, чтобы вставить в трещинку бумажный хвостик-стабилизатор для ровного полёта по прямой.
Теперь бросай свой дротик во что-то деревянное: дверь, доску, оконную раму – он там воткнётся колющей половинкой носика и заторчит.
Дорога в школу стала совсем своей, но всякий раз немножко другая.
Листва опадала, по лесу пошли гулять сквозняки, а школа различалась уже со спуска рядом с болотом, где на светлой и гладкой коре одной из широких осин темнела вырезанная ножиком надпись: «Здесь пропадает юнность».
( … до сих пор название молодёжного литературного журнала ЮНОСТЬ мне почему-то кажется коротковато ущербным …)
Потом повалили снега, но в наметённых сугробах за один день опять протаптывалась широкая тропа дороги в школу.
Солнце нестерпимо искрилось в белизне по обе стороны дороги к знаниям, что превратилась в снежную траншею с оранжевыми метинами мочи на стенках; следующий снегопад их бесследно засыплет, но они появятся в других местах новопротоптанной (и ставшей глубже) тропы через лес.
Под Новый год наш класс кончил проходить букварь и Серафима Сергеевна привела нас в школьную библиотеку – узкую комнату на втором этаже. Она сказала, что теперь мы можем приходить сюда и брать книги домой для личного чтения.
Я принёс домой мою первую книгу, залёг с ней на диване и не подымался пока не прочитал до конца.
В ней рассказывается про город, где по улицам ходят молоточки и стукают по головам колокольчиков, чтоб те звенели – это сказка Аксакова про табакерку с музыкой…
Зимние вечера такие торопыги, пока пообедаешь и отмучаешь домашнее задание по чистописанию – глядь! – а за окном уже густеют сумерки.
Но даже темень не в силах остановить общественную жизнь, вот и одеваешь валенки и тёплые штаны поверх них, зимнее пальто, шапку и – айда на горку!
Далеко? Да нет же! Ведь это та самая горка где мы спускаемся из Квартала к школе новобранцев, по дороге в свою школу. Поэтому снег тут хорошо утоптан и санки в нём не вязнут.
Горка начинается от бетонной окружной дороги. Бетон, конечно, тоже укрыт укатанным снегом, но свет фонарей на столбах вдоль него подтверждает – это всё та же дорога.
Один из фонарей стоит в начале спуска. Под ним и собирается гурьба детворы с санками.
У большинства они покупные – с алюминиевыми полозьями и разноцветно лакированными перекладинками сиденья.
А мои папа на работе сделал, они чуть короче магазинных, но более угонистые, хотя тоже со спинкой, на которую приходится бросаться животом, когда разгоняешься под гору.
Низ спуска тонет в ночной темноте проколотой далёкой лампочкой над воротами школы новобранцев.
Когда санки на излёте останавливаются, берёшь обледенелую верёвку, продетую в две дырки на носу у санок и топаешь обратно вверх.
А с приближеньем к свету придорожного фонаря, из обочинных сугробов тебе начинают подмигивать несчётные живые искорки, меняющиеся с каждым шагом.
А наверху уже придумали устроить паровозик – цепляют санки друг с дружкой верёвками за спинки, и вот уже общая масса с воплями, с визгом укатывает в темноту.
В какой-то момент я, как, наверное, тысячи других мальчиков, сделал то, чего никак нельзя делать, и нас об этом тысячу раз предупреждали, но передок санок в свете фонаря переливался таким прекрасным множеством морозных искорок, что я не удержался и лизнул его.
Как и следовало ожидать, язык прикипел к железу, пришлось отдирать со стыдом и болью, и с надеждой, что никто не заметил такой глупости от такого большого мальчика.
Потом возвращаешься домой, волоча за собой санки онемелыми от холода руками, и бросаешь их у подвальной двери в подъезде, а дома мама сдёргивает с тебя варежки с бисерной ледышкой на каждой ворсинке шерсти, открывая побелелые кисти твоих рук и выбегает во двор – зачерпнуть снега в тазик и растереть твои ничего не чувствующие руки, а потом велит держать их в кастрюле, куда льётся холодная вода из кухонного крана и к ним медленно начинает возвращаться жизнь; и ты ноешь от иголок пронзительной боли в пальцах, а мама кричит: так тебе и надо! тоже мне – гуляка! так тебе и надо, горе ты моё луковое!
А ты скулишь от нестерпимой боли в негнущихся пальцах и ойкаешь ободранным об морозную железяку языком, но уже не сомневаешься, что всё будет хорошо, потому что мама знает чем и как спасти тебя…
После каникул Серафима Сергеевна принесла в класс газету «Пионерская правда» и целый урок читала оттуда что такое коммунизм, который Никита Сергеевич Хрущёв только что пообещал построить в нашей стране через двадцать лет.
Когда я дома радостно объявил, что нам предстоит жить при коммунизме, где в магазинах всё будет бесплатно, родители переглянулись, но разделять мои восторги не стали.
Я больше не стал к ним приставать, но про себя высчитал, что с наступлением коммунизма мне исполнится двадцать семь лет – не очень-то и старый, успею пожить при нём.
К тому времени всех учеников нашего класса уже приняли в октябрята, для этого к нам приходили взрослые пятиклассники и каждому из нас прикололи на школьную форму значок – маленькую алую звёздочку с круглой рамочкой в центре, откуда, как из медальона, смотрит ангельское личико Володи Ульянова в раннем детстве, когда он командовал своей сестричке: «Шагом марш из-под дивана!»
Потом он вырос и стал Владимиром Ильичом Лениным и про него написали множество книг…
Дома у нас появился проектор для диафильмов: угловато-коробчатое устройство с трубкой носа, в котором размещаются линзы, и с набором пластмассовых бочоночков, где под крышечками хранятся тугие свитки тёмных плёнок с диафильмами – про того же матроса Железняка, или про маленькую дочку революционера, которая догадалась спрятать принесённый отцом типографский шрифт для подпольных листовок в кувшине молока, когда нагрянула полиция с обыском.
Им и в голову не пришло заглянуть под молоко.
Плёнки в рамку протяжки заряжал, конечно же, я и потом вращал чёрное колёсико прокрутки, сменяя кадры.
Надписи под кадрами читал тоже я, но не долго, потому что младшие выучили их наизусть и пересказывали надпись ещё до того, как кадр со скрипом взберётся в световой квадрат на оклеенной обоями стене.
Такие посягновения на своё старшинство от Наташи я терпел, но от Сашки было обидно.
Давно ли, запыхавшись от игр, вбегали мы на кухню напиться воды из крана и он уступал мне, как более старшему и сильному, белую кружку с рисунком крейсера «Аврора» на боку?
А я, отпив половину, передавал остаток ему и великодушно позволял допить – ведь именно так передаётся сила.
Отчего я такой сильный?
Потому что не побрезговал допить воду из бутылки надпитой самым сильным мальчиком нашего класса – Сашей Невельским.
Мой младший брат наивно слушал мои наивные россказни и послушно брал протянутую кружку…
Он, как и я, был доверчив и однажды за обедом, когда папа достал из своей суповой тарелки хрящ без мяса и объявил: кто разгрызёт – получит кило пряников, Сашка вызвался и, всё-таки, разгрыз, но пряников так и не получил.
Мама принесла посылку с почты – фанерный ящичек с коричневыми нашлёпками сургуча и крупными буквами адресов: нашего номерного «почтового ящика» и города Конотопа.
Посылку ей отправила её мама, чтобы порадовать нас салом, мешочком чёрных семечек, и резиновой грелкой, где булькал самогон.
Мама обжарила семечки на сковородке и они очень вкусно запахли.
Мы грызли их, складывали шелуху на блюдце, а вкусные ядрышки с острыми носиками жевали и проглатывали.
Потом мама сказала, что если сразу не есть, а налущить по полстакана, да посыпать сахарным песком – вот будет вкуснотища!
Мы, дети, получили по стакану семечек каждый, одно блюдце на всех сразу и большущий кульёк, который мама ловко свернула из газеты и наполнила посылочными семечками.
Зайдя в детскую, мы разлеглись на остатках ковровой дорожки с подпалинами от давнишнего пожара.
Конечно же, лущёными семечками первым наполнился стакан Наташки, хотя она больше болтала, чем грызла. Но когда и Санька стал обгонять меня, это задело моё самолюбие; хотя я оправдывался тем, что отвлёкся рассматриванием карикатуры на газетном кульке, где пузатый колониалист вылетал с континента Африка, а сзади на его шортах чернел отпечаток пинка башмаком.
Я стал грызть побыстрее, иногда мне хотелось съесть какую-то из семечек, но нельзя же совсем отстать от брата с сестрой.
Потом мама принесла стакан с сахарным песком и чайной ложечкой посыпала нагрызенные нами семечки, но мне уже их расхотелось, даже и под сахарной присыпкой, и я охладел к ним на всю дальнейшую жизнь…
( … а между тем, лузганье семечек это не просто эффективное времяпровождение в сочетании с ублажением вкусовых колбочек языка и нёба, но ещё и целое искусство.
Начиная от разухабисто славянских фасонов типа «свинячьего», когда чёрные, отчасти даже пережёванные лушпайки не сплёвываются в окружающую действительность, а выталкиваются языком из уголка губ и они неспешной, лавообразной массой сползают до подбородка, чтобы шмякаться вниз прослюненными шматками; либо же «филигранного», при котором семечка закидывается в рот с расстояния не менее двадцати пяти сантиметров, и так далее – до целомудренной закавказской манеры, когда грызóмые семечки закладываются во всё тот же, таки, рот по одной, из зажима между концом большого и суставом указательного пальцев, причём сгиб указательного совершенно прикрывает губы в момент приёма семечки, и лузга не выплёвывается, а возвращается обратно меж тех же пальцев для рассеивания куда попало, или складывания во что-уж-там-нибудь.
При наблюдении последнего из перечисленных способов, складывается впечатление будто семечкоед вкушает собственный кукиш. Ну-кось, выкусим!..
М-да, семечки – это вам не тупой поп-корм.
Однако, хватит уже про них, вернусь-ка к зелёной дорожке …)
Именно на этой зелёной дорожке мой брат нанёс сокрушительный удар по моему авторитету старшего, когда я, придя из школы после урока физкультуры, опрометчиво заявил, что сделать сто приседаний кряду – выше человеческих сил.
Сашка молча посопел и сказал – он сделает.
Считали мы с Наташей.
После тридцатого приседания я заорал, что так неправильно, что он подымается не до конца, но он не слушал и продолжал, и Наташа продолжала считать.
Я перестал вопить, а под конец даже присоединился к сестре в хоровом счёте, хотя и видел, что после восьмидесяти он уже не подымается выше согнутых в приседе колен.
Мне жалко было брата, эти неполноценные приседы давались ему с неимоверным трудом.
Его пошатывало, в глазах стояли слёзы, но счёт был доведён до ста, после чего он насилу доковылял до дивана, а потом неделю жаловался на боль в коленях.
Авторитет мой рухнул, как колониализм в Африке. Хорошо хоть пряников я не обещал…
Откуда взялся проектор?
Скорее всего это был подарок родителей. А у них в комнате появилась радиола – комбинация из радиоприёмника и проигрывателя для грампластинок; как теперь говорят: два в одном.
Крышка и боковые стенки у неё отблескивали коричневым лаком. Твёрдый картон обращённой к стене задней стенки был просвéрлен рядами круглых отверстий-иллюминаторов, в которых белели алюминиевые домики-панели и теплились тихие огоньки в чёрно-перламутровых башенках радиоламп разного роста, а через одну из дырочек выходил коричневый провод с вилкой для электророзетки.
Переднюю стенку обтягивала специальная звукопропускающая материя, через которую угадывались овалы динамиков, и круглый зелёный глазок лампочки, зажигающейся при включении.
Внизу передней стенки размещалась невысокая стеклянная плата почти во всю длину, если не считать три катушечные ручки по краям: справа – включение и громкость (два в одном) и переключатель диапазона принимаемых радиоволн, слева – плавная подстройка на волну.
Стекло было чёрное, с четырьмя прозрачными полосками от края и до края, и над каждой тонкие чёрточки с названиями городов: Москва, Бухарест, Варшава; а если покрутить ручку настройки приёма волны, то через прозрачные полоски, по ту сторону стекла, в недрах радиолы видно продвижение красного вертикального бегунка.
Радио было не очень интересным – шипело, трещало при перемещении бегунка, иногда из него всплывала речь диктора на незнакомо-бухарестском языке, или на русском, но такое же самое, что и в настенном радио.
Зато поднятие лакированной крышки открывало широкий круг с бархатной красной спинкой, куда кладутся грампластинки, надеваясь на невысокий никелированный стерженёк в центре круга, а сбоку от него – чуть кривоватая лапка адаптера из белой пластмассы на своей подставке.
Адаптер надо приподнять с подставки и опустить на краешек вращающейся грампластинки, чтобы слушать песню про Чико-Чико из Коста-Рики, или О Маэ Кэро, или про солдата в поле вдоль берега крутого.
В тумбочке под радиолой было много бумажных конвертов с чёрными пластинками Апрелевского завода грамзаписи, о чём напечатано на круглых наклейках в центре, пониже названия песни и имени исполнителя, и что скорость вращения 78 об/мин.
Рядом с адаптером находился рычажок переключения скоростей: 33, 45 и 78.
Пластинки на 33 оборота были значительно меньше 78-оборотных, но на них – на таких маленьких – размещалось аж по две песни с одной стороны.
Наташа показала нам, что при запуске 33-оборотной пластинки на скорость в 45 или 78 оборотов даже хор Советской Армии имени Александрова начинает петь кукольно-лилипуточными голосами.
Папа не слишком-то увлекался чтением, если что и читал, то лишь журнал РАДИО со схемами-чертежами из диодов-конденсаторов-сопротивлений, который ежемесячно приносили в почтовый ящик на двери нашей квартиры.
А поскольку папа был партийный человек, то туда же ещё клали газету ПРАВДА и журнал БЛОКНОТ АГИТАТОРА без единой картинки и с беспросветно плотной печатью – по одному-два нескончаемых абзаца на странице, не больше.
Ещё из-за своей партийности папа иногда по вечерам ходил на занятия в школу партийной учёбы, после работы, чтобы записывать уроки в толстую тетрадь с дерматиновой коричневой обложкой, потому что в конце учебного года его ждал трудный экзамен.
С одного из вечерних уроков папа принёс домой пару партийных учебников, которые там распространяли среди партшкольников. Но даже в эти учебники он никогда не заглядывал.
И оказалось, что зря.
Потому что ещё через два года в одном из них он обнаружил свою «заначку» – часть получки припрятанной от жены для расходов по собственному усмотрению.
Он горько сожалел и громко сетовал по поводу своей находки, потому что заначка оказалась старыми деньгами, на которые после реформы ничего не купишь…
У Объекта, на котором мы жили, было ещё одно имя – Зона. Оно осталось с тех времён, когда Объект строили зэки, а ведь они живут и трудятся «на зоне».
После пары лет занятий в партийной школе папу и других её учеников возили «за Зону» – в районный центр на экзамены.
Папа переживал и говорил, что ни черта не знает, хоть исписал свою толстую тетрадку почти до самого конца. А как же не хочется остаться ещё на год в этой школе партийной учёбы!
Из «за Зоны» он вернулся довольный, потому что получил «троечку» и теперь хоть вечера будут свободны.
Мама спросила: как же так удалось, если он ничего не знал?
Тогда папа открыл толстую тетрадь и показал свою колдовочку – во время экзамена он на последней странице сделал карандашный рисунок осла, а внизу написал: «вы-ве-зи!»
Я не знал верить всему этому или нет, потому что папа очень смеялся, но я решил, что лучше никому не стану рассказывать про осла, который вывез папу из школы партийной учёбы…
Зато мама читала книги.
Она носила их с собою на работу, в свои смены дежурства на насосной станции.
Эти книги она брала в библиотеке Части (потому что мы жили не только на-Объекте-в-Зоне-и-в-Почтовом-ящике, но ещё и в войсковой Части номер такой-то).
В библиотеку путь неблизкий, не меньше километра. Сначала надо спуститься под гору по дороге из бетонных плит, внизу её пересечёт асфальтная, а бетонная превратится грунтовую улицу между рядами деревянных домов с невысокими палисадниками, по ней надо идти всё время прямо и, метров за двести до Дома офицеров, свернуть направо – к одноэтажному, но кирпичному зданию библиотеки Части.
Мама иногда брала меня с собой и пока она обменивала книги в глубине здания, я дожидался в широкой пустой передней комнате с плакатами про ядерный взрыв и атомную бомбу в разрезе (ведь мы жили на Атомной Объекте).
Кроме плакатов про бомбу на стенах были ещё фотографии как готовят диверсантов НАТО, где диверсант, вспрыгнув на спину часовому, раздирал ему губы пальцами своих рук.
От этой картинки становилось жутко, но не смотреть на неё я не мог и думал – скорей бы уж мама вышла с выбранными книгами.
Однажды я набрался смелости и спросил можно ли и мне брать тут книги?
Мама сказала, что это, вообще-то, библиотека для взрослых, но всё же завела меня в комнату, где за тумбовым столом со стопками разнообразных толстых книг сидела женщина-библиотекарь и мама ей сказала, что уже не знает что со мной делать, и что я уже перечитал всю школьную библиотеку.
С тех пор я ходил в библиотеку сам, без мамы; иногда даже относил её книги, а для себя брал по две-три и читал их вперемешку, разбросанными по дивану, на одном валике которого полз в тыл врага за «языком» вместе с разведчиками группы «Звезда», а перевернувшись к другому валику – утыкался в уже раскрытую страницу с мексиканскими кактусами, где скакал через пампасы белый вождь Майн Рида.
Вот только Легенды и мифы древней Греции в синем переплёте, с чёрно-белыми фотографиями греческих богов и героев, я почему-то, главным образом, читал в ванной, сидя на стульчике рядом с титаном, в котором горел огонь для нагрева воды.
За такой диванный образ жизни папа прозвал меня Обломовым, которого запомнил на уроках русской литературы в своей деревенской школе…
Зима была затяжная; метели сменялись морозом и солнцем. В школу надо было выходить в густых сумерках, чуть ли не затемно.
Но однажды, в оттепельный день, возвращаясь из школы домой и уже на подъёме между казармами для новобранцев и домами Квартала, я увидел непонятную чёрную полосу слева от дороги, свернул туда и, проваливаясь валенками в нехоженый снег, пошёл разобраться. Она оказалась полосою проступившей из-под снега земли – липковатой от влаги. Проталина.
На следующий день проталина удлинилась и кто-то оставил на ней почернелые опавшие шишки сосны.
И хотя назавтра ударил мороз, сковал снег твёрдым настом, и опять пошли снегопады, бесследно укрыв темневшую на взгорке проталину, я точно знал: а зима-то – пройдёт…
В середине марта, на первом уроке понедельника, Серафима Сергеевна сказала нам отложить свои ручки и выслушать её.
Оказывается, позавчера она с дочкой ходила в баню, а вернувшись домой обнаружила пропажу кошелька, со всей её учительской зарплатой.
Они с дочкой очень расстроились, и та ей сказала, что разве с такими людьми построишь коммунизм?
Но на следующий день к ним домой пришёл человек – рабочий бани, который нашёл кошелёк и догадался кто это вечером его потерял, и принёс вернуть.
И Серафима Сергеевна сказала, что коммунизм точно будет и попросила запомнить имя этого человека.
( … но я его уже позабыл, потому что «тело – заплывчиво, память – забывчива», как записано в словаре Владимира Даля …)
А в субботу солнце пригревало совсем по весеннему.
После школы и обеда я поспешил во двор Квартала на общий субботник.
Люди вышли из домов в ярко сверкающий день и лопатами расчищали от снега бетонные дорожки во всём огромном дворе.
Дети постарше нагружали снег в большие картонные коробки и на санках отвозили в сторонку, на кучу, где бы он не мешал.
В кюветах прокопали глубокие каналы, нарезая лопатами и вытаскивая целые кубы подмокшего снизу снега.
И по этим каналам с журчанием бежала тёмная вода.
Пришла весна и всё менялось каждый день…
Потом нам в школе выдали желтоватые листки табелей успеваемости с нашими оценками по предметам и за поведение, и наступили летние каникулы с каждодневными играми в классики, прятки и «ножички».
Для игры в «ножички» нужно найти ровную площадку земли, начертить круг и разделить на секторы – по числу участников, а потом по очереди бросать ножик, чтоб воткнулся в землю кого-то из соседей и заторчал там, после чего, по направлению лезвия, проводится черта, и сосед избирает: какой из двух кусков земли, поделённой чертою, останется ему, а какой отойдёт воткнувшему.
Игра в «ножички» заканчивалась когда у проигравшего не оставалось достаточно земли, чтобы стоять там хотя бы на одной ножке.
( … «сказка ложь, да в ней намёк…», говорил Пушкин.
По моему теперешнему разумению, в этой детской игре отражена вся суть всемирной истории …)
Но тогда это был просто азарт и сменявшие друг друга ликующая радость и горькое отчаяние.
Ещё мы играли в спички (именно «в» спички, а не «со»).
От сжатой в кулак руки отводится большой палец и между ним и средним суставом указательного вставляется спичка – туго, как распорка.
Соперник своею, точно так же зажатой спичкой, упирается в твою: крест-накрест, и победа за тем, чья спичка выдержала и не сломалась.
Та же идея, как в цоканье пасхальными яйцами друг об дружку.
На эту игру изводился не один коробок прихваченных из дому спичек.
Или мы просто бегали, играя в «войнушку» с криками «ура!» и «та-та-та!.. я тебя убил!», но убитый никак не падал и кричал в ответ: «ну, а я ещё при смерти!», и долго потом ещё бегал и «та-та-такал», прежде чем картинно повалиться в траву.
В бою применялись самодельные автоматы, из досочек. Некоторые мальчики играли магазинными – из чёрной жести, в них заряжались специальные боеприпасы – рулончики узеньких бумажных лент с посаженными на них крапушками серы.
Эти крапушки громко хлопали, когда пружинный курок ударял по заправленной в автомат ленте.
Мама купила мне подобный пистолет и коробочку пистонов – мелких бумажных кружочков с такими же крапушками серы.
Их надо было закладывать под курок по отдельности для каждого выстрела.
При бахканьи, из-под курка подымался лёгкий дымок с кислым запахом.
Когда я щёлкал пистолетом в куче песка рядом с мусоркой, мальчик из углового дома попросил подарить пистолет ему и я с готовностью отдал.
Ведь он был сын офицера – ему нужнее.
Мама никак не могла поверить, что мальчик способен так запросто отдать свой пистолет другому, и требовала, чтобы я сказал ей правду, что потерял мамин подарок.
Я упорно повторял свою правду и она даже повела меня к отцу того мальчика.
Офицер начал стыдить сына, а мама громко извинялась, потому что она просто хотела проверить и добиться, чтобы я не врал.
Ещё в то лето мальчики из нашего двора начали приносить желтоватые стреляные гильзы со стрельбища в лесу.
Мне тоже хотелось посмотреть какое оно – стрельбище, но мальчики объяснили, что ходить туда надо по особым дням, когда там нет стрельб. А то не пустят.
Особый день заставил долго себя ждать, но всё-таки наступил и мы пошли через лес.
Стрельбище оказалось большущей поляной с вырытым в песке котлованом, куда шёл крутой спуск.
Дальнюю стену котлована закрывал щит из брёвен поклёванных пулями, с квадратиками простреленных бумажных мишеней.
Гильзы приходилось долго отыскивать в песке под ногами.
Они были двух типов – автоматные, которые сужáются к концу, и мелкие ровные цилиндрики от пистолета ТТ.
Находкам громко радовались и выменивали их друг у друга.
Мне совсем не везло и я завидовал. Всклики более находчивых мальчиков тонули в жутковатой тиши стрельбище, недовольного нашим набегом в запретное место.
На другом краю поляны проходила траншея, как на поле боя, в которой песок стен удерживали щиты из досок.
Через поле, поперёк траншеи, тянулись рельсы узкоколейки, по ним, из конца в конец, громыхал колёсами большой фанерный макет танка на тележке, когда его потащат тросы ручной лебёдки.
Мальчики начали играть с макетом.
Я тоже посидел разок в траншее, пока над головой прокатится по рельсам фанерный танк, а потом пошёл на зов от края поля – что нужна моя помощь.
Мы тянули за трос, подтаскивая его к горизонтальному блоку, чтобы у мальчиков на той стороне поля боя легче крутилась лебёдка, приводящая в движение тележку с танком.
В какой-то момент я зазевался и не успел отдёрнуть руку – трос втянул мой мизинец в ручей блока.
Боль в защемлённом пальце выжала из меня истошный вопль и фонтаном брызнувшие слёзы.
Ребята у лебёдки, слыша моё уююканье и крик мальчиков: «стой! палец!», смогли остановить лебёдку, когда до выхода из ручья блока оставалось сантиметра два, и начали крутить в обратную сторону, протаскивая мой мизинец туда, где он был изначально закушен толстым стальным тросом.
Безобразно сплющенный, бледно почернелый палец, измазанный кровью лопнувшей кожи, медленно вызволился из пасти блока.
Он мгновенно распух и его обвязали платком, и сказали мне скорее бежать домой.
И я побежал, чувствуя, как болезненно отдаются толчки пульса в пожёванном пальце.
Дома мама велела сунуть мизинец под струю воды из крана над кухонной раковиной, несколько раз согнула и разогнула его и, смазав щипучим йодом, натуго обмотала бинтом, превратив в толстый негнущийся кокон, в котором всё-таки отдавались удары сердца.
Она сказала мне не реветь, как коровушка, и что до свадьбы заживёт…
( … и вместе с тем, детство вовсе не питомник садомазохизма: «ай, мне пальчик защемили! ой, я головкой тюпнулся!»
Просто некоторые встряски оставляют более глубокие зарубки в памяти.
Жаль, что память не удерживает то непрестанно восхищённое состояние открытия, когда песчинка, прилипшая к лезвию перочинного ножа, содержит в себе неисчислимые миры и галактики, когда любая мелочь, чепуховинка, есть обещаньем и залогом далёких странствий и головокружительных приключений.
Мы вырастаем, наращивая защитную броню, доспехи необходимые для преуспеяния в мире взрослом: я – халат доктора, ты – куртку гаишника; каждый из нас – нужный винтик в машине общества, у каждого отстругнуты ненужности типа вглядывания в огнетушители, или складывания лиц из морозных узоров на оконном стекле.
Сейчас на пальцах моих рук есть несколько застарелых шрамов: этот вот от ножа, этот вообще приблудный – не помню откуда взялся, а тут топором тюкнуто… Но вот на мизинцах не могу и следа различить от той трособлочной травмы.
Память – забывчива, тело – заплывчиво…
Но мне известны поговорки и посвежее; совсем недавно и очень даже неплохо кем-то сказано: «лето – это маленькая жизнь» …)
В детстве не только лето, а и всякий день – маленькая жизнь.
В детстве время заторможено – оно не летит, не течёт, и даже не движется, покуда не подпихнёшь.
Бедняги детишки давно бы пропали, пересекая эту безграничную пустыню застывшего времени в начале их жизней, если б их не выручали игры.
А в то лето, когда играть надоедало, или не с кем было, у меня уже имелось прибежище.
Диван.
Вот где настоящая жизнь!
С приключениями героев Беляева, Гайдара, Жюль Верна.
Хотя для приключений годится не только диван.
Один раз я целый летний день провёл на балконе, снаружи комнаты родителей, за чтением книги про доисторических людей – чунга и помы.
На них была шерсть, как на животных, и они жили на деревьях.
Но случайно обломившийся сук помог оборониться от тигра и они начали носить с собой палку.
Потом случился пожар; наступило похолодание.
Племя бродило в поисках пищи, обучалось добывать огонь и разговаривать друг с другом.
В последней главе постарелая пома не смогла больше идти и отстала от племени, а её чунг остался рядом с ней – замерзать в снегу.
А дети их пошли дальше. Они уже повзрослели и были не такие мохнатые, как их родители, и от холода защищались шкурами других животных.
Книга была не очень толстая, но я читал её целый день, пока солнце, поднявшись слева – позади леса за домами Квартала, неприметно передвигалось по небу, чтобы уйти за соседний квартал справа.
В какой-то момент, видно для отдыха от безотрывного чтения, я протиснулся меж вертикальных железных прутьев под перилами и стал прохаживаться по бетонной кромке балкона по ту сторону ограждения.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?






![Книга Так [не] бывает автора Сборник](/books_files/covers/thumbs_100/tak-ne-byvaet-126344.jpg)