Текст книги "Улыбка Шакти: Роман"
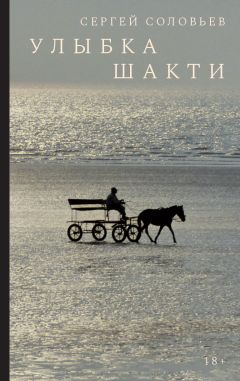
Автор книги: Сергей Соловьев
Жанр: Классическая проза, Классика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Я как-то не ожидала, что ты уже летишь в Индию. Трудное ты затеял дело с группами, но я очень надеюсь, что и в этот раз тебе хватит куражу, и легкости, и одного хлопка ладони, чтобы все это осуществить. И пережить. Мне так много радости от твоих писем, от перечитывания их, а от книги так нестерпимо – и единственно возможно, что я живу абсолютно косноязычно или даже немо: боюсь расплескать все, что у меня есть. И еще – только что пришел перевод от тебя, но там что-то слишком много, ты не ошибся? А грустно мне оттого, что теперь в Индии тебе не до нас. Но пусть у тебя все получится. Пиши нам, когда будет возможность, ладно?
– Мы уже в Харнай. На подъезде двадцать пять человек, три группы, одна за другой. Писать я буду, дело не в суете, а в отсутствии интернета, на мобильном только, и то – ловить надо. Что же тебе сказать? Ну вот сегодня, например: съездили в соседний городок, я очаровал босса местного Газпрома, он выпишет нам газовый баллон с плитой, что оказалось делом государственной важности тут, даже индусам положен только один баллон на семью, потом – пройдя по рынку и выйдя обвешенным дюжиной кульков со всяческой хозяйственной дребеденью, я ввалился к редактору краевой газеты и вывалился оттуда весь в цветах и аплодисментах, по пути купив модем и, сросшись в объятьях с наладчиком модема, оказался в харчевне, где навернул полведра тали и утих в кресле стоматолога… Однако и пригорюнился: полторы тыщи долларов будет стоить то, откуда прежде доносились слова и ветер. Мы уже арендовали вереницу дивных четырехколесных вахан, сняли несколько кварталов дворцов и хижин и договорились с эскадрой кораблей. Теперь осталось выбрать из них то, не знаю что. А! Вызвали сантехника и установили гизер на Луне. Потом пришли две маленькие тихие незнакомые девочки и вымыли пол. Ты опять не сказала, что Лёньке прикупить, – мама все равно собирает посылку, пусть бы полезное было. Вот тебе на дорожку – надпись Ашоки на камне, три с половиной тысячи лет назад: «За двадцать шесть лет, прошедших со дня моей коронации, многие животные были взяты под защиту: попугаи, дикие утки, летучие мыши, черепахи, рыбы, белки, лани, дикие и домашние голуби и все четвероногие твари, не годные для еды; кормящие козы, овцы и свиньи; детеныши, не достигшие шести месяцев».
– Я рада, что ты не один и в твоих описаниях снова появилось местоимение «мы». Нам разны дороги, твоя – святая, а мне, мне сеять мой рис и чай. Только что пересмотрела Пять вечеров. И мне почему-то стало светлей и легче. А еще у меня есть новый альбом Федорова. Я еще продержусь.
– Насчет «мы». Раз двадцать у нас с Таей уже захлопывалась дверь. С обеих сторон. Мчусь сейчас в соседний городок – драть зубы и везти баллон с газом и плитой оттуда – одновременно. На этой неделе виртуоз собрался выдрать у меня два, пройти каналы в пяти, поставить мост и загрузить железо в десну под два импланта.
– Даже не знаю, что сказать тебе, чтобы подбодрить. Не обижайся на меня, мне правда, с одной стороны, хочется видеть тебя с распушенным хвостом, а с другой… Ах, как все трудно и не так, как должно было быть – от этой неизбывной муки я и болею, наверно, все время. Ты красивый на фотографиях, и девушка, знаешь, тоже, она тебе как-то идет. Не могу сказать, что мне радостно это видеть, не буду лукавить – все же больно. Но если у тебя все так ладится, значит, не такой уж немыслимый зазор между вами. Ну, я сейчас запутаюсь – просто хочу, чтобы у тебя длилась эта невероятная Индия, пусть даже и без нас. Вчера нежданно-негаданно попали в зоопарк, смотрели на маленьких пингвинов и тюленей, ходили к беднягам слонам. Мне бы очень хотелось, конечно, свозить его в Ришикеш – на его родину, но пока все выглядит как мечты. Здесь метель и мрак. И мне очень трудно все это дается. Пусть у тебя все складывается – так же чудесно и непостижимо, как всегда.
#7. Мандала
Сома, напиток богов, за который порой отдают и речь, и душу. Он же – бог, Луна, и блаженство, и жертвоприношенье. У индусов. А у греков сома – тело.
Где ж мы? Трудно сказать. Где-то в лесной глуши, примерно в полусотне километров от нашей деревни Харнай. Привез нас сюда на мотоцикле случайный знакомый. Сидим на крыльце избушки у кокосовой плантации, рядом озеро, в котором вроде бы крокодилы, за ним на холме хутор. Сторож угощает кокосом. Похоже, именно то место, о котором мечтали, чтобы побыть на природе – с палаткой или без, потому как сильно истосковались по джунглям в нашей рыбацкой деревне. Океан, притороченный к зрачкам дни напролет, конечно, прекрасен, но лес из него не растет, и слоны по волнам не бродят. А тут можно расположиться у шалаша, развести костер и ждать в ночи гостей – леопарда, например, и других обитателей, чтобы поговорить с ними о том, что их по-настоящему волнует – о Махабхарате, Упанишадах…
Или вот о гандхарвах и нагах. Верней, нагинях. Что-то меня эта тема последнее время морочит виденьями. Те и другие – полубоги, полулюди. Первые – жители небесного миража, вторые – подземного царства. Гандхарвы – крылатые вестники, отблески, музыканты. В поздних источниках – сродни кентаврам. Или с телом нильгау? Наги – змееподобны, с человечьими головами, стражи сказочных недр. Те и другие – носители добра и зла, по обстоятельствам и настроению. Те и другие ходят к людям, первые соблазняют женщин, вторые – мужчин. Между собой в любовные отношения не вступают. Нет свидетельств. Столкновения были, наги пожаловались Вишну, он уладил. А однажды боги направили к гандхарвам богиню Речи с тем, чтобы она вернула похищенный ими волшебный напиток сому. Речь явилась им в облике Сарасвати, жены Брахмы, гандхарвы готовы были отдать ей сому, но в обмен на нее саму. Она согласилась, но ускользнула, вернувшись к богам. Вроде бы. Потому как отчасти и осталась. Не разглядеть. Как сияющий лотос, растущий из топкой непрогляди.
Сторож разделывает кокос: в одной руке держит, другой тюкает кривым ножом по его темечку, сковыривая «воротца радости» и углубляясь к амброзии. Похоже на разделку головы каким-нибудь лириком-каннибалом. Или эпиком, если нет недостатка в соплеменниках. Ну что, говорю, попробуем, отведаем сок этого кокоса, его душу. И тем самым, как учит тантра, станем им. О, я уже чувствую, как неотвратимо с каждым глотком становлюсь этим coco… nut, что означает также и чокнутый. Тая смеется. Ну а ты могла б и не пить, мы и так пара, та еще.
Допили, еще помаялись там, легли под деревом, кого-то ждали… А потом ушли – на тот хутор, и спустились сквозь бурелом к озеру – высматривать крокодилов…
Во что ж она была одета? Не помню. Со спины, такой стройной, родной и легкой, так изумлявшей меня всегда и влекущей. А ниже – еще невозможней. Со спины, то ближе, то дальше. Так и шли, каждый в себе. Все эти годы. В себе, и вполглаза друг с другом. Так, чтобы не потерять из виду. Или потерять, но найти. Вполглаза и вполовину того, что не давало ни собой пребывать, ни нераздельно. Все как-то ближе, дальше, и под углом, с осторожными внутренними перемещениями, как танец на минном поле, тихом, солнечном, райском. Танец двух тел, созданных друг для друга, как никогда. И это не только про тело. А потом в них вдохнули все, что будет внутри.
Так и жили – как существа двух разных сред, стихий, языков. На переправе, на краю, на той мучительной полосе отдаления от себя и неприближенья к другому. С осторожным танцем скольжений вдоль кромки. И казалось бы, все так в лад, даже спиной к спине, молча. Или ладонь в ладони, на разных берегах. Которых нет, а есть лишь эти двое как одно свеченье. Но стоит оступиться чуть и соприкоснуться в них тому, что, собственно, и есть их жизнь – и не найти друг друга.
Там, в Харнай, в нашем доме на краю света с окном в океан. Окном, под которым он терся своими боками об утлые стены во время прилива, а потом отступал в даль, оголяя лунное дно с одиноким мангровым деревцем, в нашем счастливо пропащем доме, где стояла большая кровать и больше ничего, кроме окна с краем света, и веранды с милой облущенной балюстрадой, где мы так любили жить – так чутко рядом, чтоб не сказать вместе. С этим чувством дома, впервые у нее и у меня, на двоих, почти нашим, чтоб не сказать… И этой индийской семьей внизу, ставшей почти родной.
А по вечерам, возвращаясь с покупками с рыночной улочки, сворачивали во тьму, идя на ощупь в ее тихую глубь, к храму Махадев, который был почти всегда на замке. Верней, не к нему, а на подворье с несколькими маленькими храмами. Вот Махадев, напротив него – бычок Нанди, стоящий в домике о двух стенах по бокам, как в хлеве. Слева во тьме – лингам, вершину которого не разглядеть, а справа внизу – йони с остатками влаги. Рядом с Нанди – избушка на курьих, оттуда порой доносились чьи-то печальные вздохи и временами тихонький храп. Там, видно, жил один из деревенских бомжей. И совсем уже в глубине – маленькая часовня Ханумана. Это храмовое подворье было окружено плетнями обращенных к нему деревенских хат. Но неприметно, будто и вовсе не обращенных. Сюда на ночлег собирались бродяжные коровы и укладывались – там, у йони. Иногда подворье по краю пересекали лошади, бог весть откуда и куда, да и чьи. А Нанди был чудесен, из светло-серого камня, с головой, украшенной свежими цветами и затепленным огоньком у ног, со сказочными очами и слегка удивленным выраженьем лица, сделанный каким-то мудрецом двух небесных лет от роду. Если ему нашептать на ухо сокровенное – говорят, сбудется. Однажды, в самом начале, она сосредоточенно прикрыла глаза и что-то ему нашептывала. А потом я. Так никогда и не сказали друг другу что.
Храм этот был построен вдовой адмирала Канханджи Энгри, того самого «самудратлы», грозы всех морей, который по указу короля построил индийский флот на здешнем острове, где мы так мило предавались робинзонству и любились, любились – во все ангельские и тяжкие. А потом я сидел на камне у воды, перепоясанный индийским флагом, читал Чехова, а она ложилась на маленьком пляже за мысом.
Да, всякий раз, возвращаясь, мы заходили сюда, в этот волшебный мир за дверцей, которой не было. Тая садилась рядом с Нанди, стоявшим в своем хлеве между мужским и женским началом мира, а я топтался туда-сюда и вокруг, но чувство было как в близости или во сне.
Однажды купили много свечей, пару сотен маленьких шайбочек, и начали выкладывать на земле перед Нанди узор, мандалу, по наитию, не зная, какая фигура получится. Молча, каждый по-своему, но единый узор на двоих, он разрастался и превратился в необычайной красоты ранголи. И мы затеплили его во тьме, а из остатка свечей выстелили две огневые дорожки в обе стороны от этой мандалы: одну – к лингаму, другую – к йони. А из ближнего дома вдруг проступили… Даже не люди, казалось. Приблизились тихо, склонились, коснулись пальцами ее ног, моих. И, постояв, глядя на этот горящий узор, так же безмолвно исчезли. Из того дома, где храмовая семья жила. А потом коровки вышли из тьмы и легли поблизости. И тишь, звезда над хлевом, как там, в Назарете… Чуть отошли, чтобы увидеть все это, и – нас не стало.
Кто где бродит в этой чуткости, за миллионы лет друг от друга, и на что оттуда глядит. Жизнь что-то шепчет нам на ухо, сокровенное, как мы – Нанди, только не разобрать, на каком языке, даже если и слышим.
Есть в древней Вишну-пуране, фрагменты которой когда-то переводил, такие строки:
Что говорить.
Во всем, что ни возьми на свете,
есть лишь она и он.
И, кроме них, ничто не ново.
Он – смысл слова, а она – звучанье.
Вспоминал это, расходясь с ней, всякий раз с запекающейся по краям разрыва немотой. И снова сходясь, как срастается разъятое тело.
#8. Бор
Прошло время, и мы вновь оказались в заповеднике Бор в домике Сурии у края джунглей. Сколько ж прошло? Я мог бы сказать точнее, но это не приближало к реальности: в том, что происходило у нас, время все больше становилось узорчатым, не линейным.
Собирался я ехать один, уже несколько месяцев как связь с Таей прервалась. Думал поселиться надолго у Сурии и попробовать снять фильм о нильгау, мифических антилопах, самцы которых в профиль похожи на единорогов, а самки, вдвое уступая им в росте, ходят в бежевых сорочках, выгуливая детей, пока эти султаны цвета грозового неба стоят вдалеке под тенистыми деревьями и недвижно глядят в иные миры.
Нильгау, что означает – голубые коровы. Этот индуистский отсвет отчасти и спас их от истребления. Хотя облик их вряд ли соотносим с коровьим, прежде их называли «голубые лошади». А греки, увидев их, совсем пришли в замешательство, приняв за химеру, смесь верблюда, быка, лошади, антилопы и козла. Boselaphus tragocamelus, как значатся они в науке.
По одной из легенд, Брахма воспылал страстью к своей совершеннолетней дочери. Не без взаимности. И, приняв облик нильгау, они сошлись. Нехорошо это, вздохнули боги сверху, ох нехорошо, Брахма…
Казалось бы, все о них известно. Тем не менее, как это нередко бывает, обманчиво близкое и привычное оказывается по-настоящему так и не увиденным. И вот я подумал о фильме, если повезет приблизиться к ним – день за днем, настолько, чтобы войти в их мир. Договорился с Сурией, что приеду на месяц или больше. Но в последний момент, как это уже случалось у нас с Таей, восстановили связь, встретились в аэропорту и полетели вместе.
В джунгли ходили, как и в первый приезд, то вдвоем, то я один, а она оставалась в доме – перевести дыханье. Или съездить в ближнюю деревушку Хигни за продуктами. Но главное – дать мне побыть одному в лесу. Мягче, терпимее стали друг к другу. Но и какое-то чувство тоски, печали, мягкого прощального света, что ли. В этом почти понимании, бережности друг к другу. Какая-то ноющая безысходность. Или только казалось так временами.
Подобраться к нильгау ближе сотни метров, если не на джипе, очень непросто, а будучи потревоженными, они уносятся за горизонт. Я же мечтал приблизиться на считанные шаги. День за днем. Выходя еще затемно, чтобы пробраться в заповедник незамеченным, и дальше – вдоль озера до первого луга, где можно было сделать привал. На этих привалах я иногда включал камеру и, пока перекусывал, что-то рассказывал – вроде как сам себе, но и некоему незримому собеседнику. А по лесу шел и снимал молча, особенно когда подбирался близко к животным.
На третий день, к тому времени сняв уже несколько часов лесного дневника, и даже семью нильгау, правда, с большого расстояния, я присел на ближнем луге под избранным деревцем с уже обустроенной засадой и хорошим видом.
С лесного холма за моей спиной к этому часу обычно выходит к озеру стадо нильгау. День чуть в дымке, где-то под тридцать градусов, но у озера ветерок, легче. Удод прилетел, инспектирует мою засаду, что-то нашел под ветками. Сейчас, говорят, десять тигров в этом небольшом лесу, и двадцать леопардов. И много медведей-губачей пришло, эти аутисты поопасней тигров. Уткнувшись в землю, медведь не видит тебя, а потом уж поздно, он от неожиданности становится агрессивен. А так – милый вегетарианец, с добавкой термитов и муравьев.
Однажды на закате возвращались с Таей из джунглей, подходим к этому лугу, а там семья нильгау вдали пасется, но ближе не подойти – открытое пространство с редкими деревьями, а между ними – низкорослый колючий кустарник. Может, попробуем? Нет, говорит, я тебя тут в тени подожду. Встал я на четвереньки и двинулся, камера волочится по земле, прихватил шлейку зубами, чтоб повыше была, и так передвигаюсь, морщась от шипов – тьмы их, этих ненасытных кинжальчиков. Стелюсь вровень кустарнику и осторожно выпрямляюсь, прижавшись к дереву, смотрю: далеко еще, но пока меня еще не заметили, пасутся. И снова стелюсь в траве, выглядывая, замирая, уже весь усеян этими шипами, о коленях можно только догадываться, кровоточат сквозь штанины. Подумал тогда: ни к одной женщине так не полз на коленях. Потом, вернувшись к Тае, выдергивали эти колючки – она из моей снятой одежды, я – из тела.
А в другой раз по ту сторону озера выхожу из леса к лугу, где пасутся большие стада нильгау, оленей и несколько семей кабанчиков. Ближе не подобраться, но между мной и лугом резвится стая лангуров. И вот решил я прикинуться лангуром и, пригнувшись, помчался длинными прыжками, вскидывая и подволакивая под себя руку, как они. И так приближаюсь к оленям и нильгау, а они, бросив пастись, удивленно всматриваются, пытаясь понять, кто же это, что происходит, но и не подавая сигнал тревоги. Обернулся: лангуры провожают взглядом – мол, ничего, дружище, нормально для первого раза.
В один из дней мы убрели с Таей далеко вдоль озера и оказались в лесу, не похожем ни на что из прежде здесь виденного.
Вроде бы ничего уж такого необычайного: деревья-великаны среди разночинной поросли, перекрученные занавеси лиан, под прихотливым углом уходящих в непроглядную высь, русла ручьев, заваленные валунами, грязевые ванны с испещренными следами зверей подходами, солнечные лучи, вяжущие на спицах этот тенистый сумрак. Лангуры, сидящие по одному на пригорках, как в театре, держа в руках незримые программки, медитативно глядящие то ли в них, то ли в линии своих ладоней. Олени, вдруг появляющиеся и оставляющие по своем исчезновении призрачно колеблющуюся полость, чуть темней воздуха. Кабанчики, опустив головы к земле, семенящие стороной небольшими отрядами. Самцы нильгау, стоящие под деревьями, глядя вдаль… И – уже через несколько минут – никого в лесу, будто необитаем, тишь, только огромные бабочки, как листья, кружась, опадают с деревьев.
И вдруг лес оглашается неземной трелью. Кто же это? Кто там так изнемогает от любви? Где эти моцарты нежной страсти? Кто это повторяет там на все голоса: я люблю тебя, я люблю тебя, я тебя так люблю, как никто еще в этих джунглях не любил! Ах, вот это кто! Дендрасита вагабунда! Коричневая индийская сорока. Надо же, кто б мог подумать. Двое их там на ветке – он и она. И признаются друг другу попеременно, прям с подскоком от избытка чувств, такая любовь!
В том дальнем баснословном лесу есть отдельно стоящее большое, почти сухое дерево, раскинувшее в небе еще живые руки, а тело оплетено и выпито лианами. На высоте нашего роста в нем разветвление стволов и удобное седло для наблюдений за округой. Тая облюбовала его. Порой я оставлял ее там, отлучаясь на берег озера поснимать нильгау. В одну из таких моих отлучек у нее произошла дивная встреча с оленем-великаном. Она тихо сидела там на дереве в засаде, еще и обустроив ее ветками перед собой, чтобы ее было меньше заметно. Полуденный час, лес кажется пустынным, звери пережидают зной в чаще. И тут он выходит, огромный, старый, весь в шрамах, но все еще крепкий. Одинокий, давно и навсегда уж без семьи, без женщин. Темно-коричневый, с большими ветвистыми рогами. Подходит к грязевой луже, рядом с которой на дереве сидит Тая, поворачивает к ней голову и долго смотрит ей в лицо. Расстояние между ними несколько шагов. Удивительно – не бежит, напротив – кивает головой, смотрит и кивает. И, как она потом рассказывала: я не знала, что делать, и тоже невольно начинаю ему кивать. А он ложится в эту грязевую лужу и неторопливо принимает свои ванны, временами запрокидывая голову и таким до невозможности человечьим глазом глядя на нее. Человечьим, заколдованным… А потом стоит перед ней – грязный, старый, великий и прекрасный. Пригибает голову к земле, и что-то чертит – вначале одним рогом, потом другим… Что же, спрашиваю, – ты прочла?
Такая встреча была у нее. А у меня в это же время происходила другая – у озера, куда вышла семья нильгау, только женщины – с детьми и без. И вот одна из них, цвета дюны в облачный день, длинноногая, с тонкой высокой шеей и удлиненным лицом, чуть матовым, как на старинных гобеленах, подняла голову и начала вглядываться в ту сторону, где я стоял вдали за деревом, невидим для нее. Долго смотрела, потом подошла к рукаву озера и поплыла. В мою сторону. Оставив на берегу семью, ребенка, не оглядываясь на них. И, выйдя из воды в прибрежную осоку, неторопливо близилась, вдруг замирая и будто о чем-то задумываясь, выбывая из времени, шла сквозь эту тонкую сухую, дюреровской иглой написанную траву, и вновь замирала. А я стоял на пригорке, вжавшись спиной в колючий куст, и хотя понимал, что она идет не ко мне, даже когда остановилась напротив и повернула ко мне голову – вряд ли меня видела, но чувство было такое, что незримая нить так натянута между нами, что ничем ее не оборвать. И не объяснить. Не видела меня – и не сводила глаз. И длилось это нестерпимо долго. Такого опыта у меня никогда не было – совершенно недвижно стоять в течение часа с камерой у лица. Которую потом уже опустил и просто стоял, смотрел, как и она на меня. Оба не шелохнувшись. Кости ныли, казалось, очертанья наши уже никогда не отомрут. И тут что-то дрогнуло в ней, обмякла, и так же задумчиво побрела по воде обратно. Что же она хотела, почему перебралась на эту сторону и стояла напротив меня – видя-не-видя? Какой-то в этом был знак, сообщение. Таким и осталось. Лишь нить.
У нее с ним, у меня с ней.
Дронго вспорхнула, похожа на ласточку, черная. Медсестры лесные, сядет на нос нильгау, осматривает, чистит кожу, а тот терпит. И так по всему телу. Дронго, говорят, знает около пятидесяти языков других птиц и животных и обладает когнитивными способностями, близкими к нашим.
Вот так идешь по лесу и думаешь, а где же звери, как бы так исхитриться увидеть, а в это самое время лес полон глаз, следящих за тобой. И слон в десяти шагах стоит в зарослях, и тигр меж веток глядит на тебя в упор, а ты ни сном ни духом. Хорошо еще, если днем. Ночью тут другие законы. Был у нас этот опыт с Таей.
Красноголовый дятел выглянул из-за ствола. Зеленых я видел тут, а красного впервые. Сунул в дупло голову: что там? Ничего особенного.
Олени вышли на луг. Казалось бы, просто олешки пятнистые, или, как их называют индийцы: читал. Кто их читал, кто их писал этой детской божьей рукой? Я помню этот белый карандаш в детстве, особый, и с какой любовью, но странной, к нему тянулась рука… Могу представить, как старательно-самозабвенно он рисовал эти белые крапинки на только что созданных им олешках, на бежевых сорочках барышень и камзолах юношей с замшевыми деревцами на головах. И как непросто было достичь у них этой мягкой линии губ между чувственностью и сдержанностью. Вчера наблюдал за одним юниором, стоявшим чуть в стороне от стада и упражнявшимся в подаче сигнала тревоги. Отрывисто вскрикивал, усердствуя в выражении лица, и притопывал передней ногой. С каждым разом у него получалось все лучше, и наконец он довел это, казалось бы, до совершенства, и оборачивался к стаду, которое должно было при этом сигнале броситься врассыпную, но никто не поворачивал к нему головы, продолжая пощипывать траву и общаться друг с другом. Так и стоял этот пионер растерянно и одиноко на пригорке, не понимая: как же так, и где кончается искусство и дышит почва и судьба? Это знают павлины, но в мае, а сейчас январь, рано еще. На хинди павлин – маюр, самочки маюров кричат, как вакханки в предчувствии растерзанных дней, но еще не вечер. В этом стаде оленей бродит одинокий байрон, прихрамывая на переднюю левую. Чувствуя себя другим. И женщины нет с ним.
Пора было возвращаться. Да, провалил явку. Сидел ведь тише травы, ждал, когда стадо нильгау появится, а оно запаздывало, солнце уже садилось. И тут вдруг, в ложбине за моей спиной, какой-то звук, похожий на хрюканье, и стихло. Я выждал. Приподнялся, дурень, выглянул – а это стадо нильгау вышло – прямо ко мне, и подымалось из ложбины, ветка под ногой у кого-то из них хрустнула. Большое стадо. В нескольких шагах. Мечта невозможная. И свет такой чудесный, закатный, как раз по солнцу для съемки. Кинулись наутек, несколько секунд – и тишь. Ах, беда, беда. Испуганы, да и запомнили меня и место. Не меньше недели теперь у этой засады смысла не будет. Надо завтра идти на дальние луга искать другое стадо.
К вечеру седьмого дня, уже на обратном пути, присел под тем же деревцем. Включил камеру. Неподалеку паслись пятнистые олени, но они не настолько пугливы, чтобы встревожиться от моего голоса, главное – не делать резких движений. А я и не делаю, неторопливо макаю зеленый лучок в соль, потом яйцо, помидор… Что-то наговариваю, надеясь, что для будущего фильма – книга джунглей, онлайн – может, пригодится.
Что ж сказать? Только что на луг выходили нильгау, ждал их, сидя почти недвижно в этой засаде. И все-таки учуяли. Самка, которая шла впереди, повернула голову ко мне и все смотрела, вглядывалась… Ну не могла она на таком расстоянии меня увидеть за ветками, но нет, вскрикнула, и все опрометью кинулись в чащу. Там и самец был среди них, чуть в стороне. Невероятное создание, последний свидетель рая. Туда и смотрит, вдруг замирая на часы, туда – сквозь опадающие, как листва с дерева над ним, дни. Единорог из книг средневековья. Абрис его и мир – явлен и непрогляден.
Только здесь, в лесу, да и то – спустя дни, месяцы понемногу начинает размыкаться твой контур. И ты – уже не совсем ты, а и вон то дерево, стадо оленей, облако, озеро, и когда все это начинает дышать в тебе, когда понимание… хотя о каком понимании может идти речь? Лишь отсвет того, что куда больше тебя, хотя и известно вот этой траве под ногой. Но и этого отсвета хватает, чтобы исподволь, незаметно – нет, не родить тебя наново, но затеплить в тебе то, ради чего ты здесь. И где-то в углу сердца начинает звенеть сверчок счастья, и ты как ребенок светел, но и темен еще как человек, и речь просится взять ее с собой. Но все, что ты пытаешься сказать или снять на камеру, сторонится всего, что не от жизни, а от речи.
Так меня порой заносило в возвышенное. Ну и ладно, не страшно. Лангур всполошился, низкий, грудной отрывистый голос, что-то его встревожило. Может, медведь? Или дхоли, красные волки?
Наверное, многое из детства тянется. Отец рассказывал, что я не раз сбегал из детского сада, связывал сандалии, перекидывал через плечо – где-то я подсмотрел эту картинку – и шел открывать миры. Разыскивали с милицией, находили к вечеру бог знает где. И эта тяга к странствиям не утолялась, росла, вот и здесь я, в общем-то, с теми же незримыми сандалиями за плечом. Да и школу я тоже прогулял на треть – несло меня какими-то товарняками по Сибири, кораблями на Север, на осле в Средней Азии, на резиновой лодке с парусом море переплывать, шататься в тайге, потом жизнь в пещерах, занятия спелеологией и бесконечные походы, походы, лес… А потом был долгий перерыв – города, люди, книги. И вдруг открылась волшебная дверь в Индию. К сожаленью, это, похоже, последний меркнущий свет. Тут около трехсот заповедников, но таких, чтобы можно было ходить в лес самовольно, почти не осталось. А без этого и жизни нет. Для меня. Трудно об этом говорить. Еще и потому, что предполагает в собеседнике какую-то долю созвучного опыта, тогда понятно, о чем речь, и можно опускать какие-то звенья, иначе этим частоколом словесным ничего не выстроить. Сближение с миром, похоже, не происходит без растождествления в себе человеческого. Хотя бы отчасти. Но хватает и этого. Ты вроде бы тот же, что и был. Радуйся, вот твой мир. И нет никого – ни в тебе, ни вокруг. И уже не вернуться.
Большая стая зеленых лесных попугаев прилетела, села на соседнее дерево. У всех шапочки малиновые, а у одного сизая, с чего бы?
Лес тут волшебный, как в светлой страшной сказке. Многослойный, со странствующими ландшафтами, вавилоном деревьев – и юных, подрагивающих на ветру, и недвижных великанов в десять обхватов, и этой желтой тигриной травой с белеющими в глубине обглоданными жизнями, с озером, меняющим облик дюжину раз на дню.
Думаем, это только у нас, у людей, миры ворочаются, Наташа Ростова, князь Мышкин, отцы и дети… Вчера из зарослей, прямо рядом со мной, вышли два брата – высокие, с ветвистыми, раскинутыми в два неба рогами, с чуткими аристократичными ноздрями и тонкими, едва заметными улыбками, а глаза глядят одновременно в шесть сторон света. И вот они отдаляются друг от друга, расходятся по стаду, где собратья им до плеча, а нити зрения между ними незримо натянуты: как бы они ни повернулись – видят друг друга. Они показывают себя, свой статус, и женщины это чувствуют, и всякий раз перегруппировывается это едва уловимое любовное пространство: вот этот брат с той дальней барышней, через головы трех подружек, и – нет ее, уже другая траектория искушений. А чуть в стороне двое юношей меряются силами, сталкиваясь лбами, и роют землю копытом друг перед другом, поглядывая на барышень, а те делают вид, что не видят. Все они видят, а ближняя показывает всем: это они передо мной, для меня! И так думает каждая, но проявляет по-своему.
Или там, по ту сторону озера, четыре года назад, на райском лугу, где сотни пятнистых оленей, кабанчиков, нильгау, а посреди луга – грязевая яма, целебная, для гигиены, и большой умбристый олень самбар, или, как их еще называют, замбар, меняющий цвет от освещения с почти черного до светло-карего, с двумя раскидистыми рогами о шести ветках каждый, выходит из этой ямы, вдоволь навалявшись там, грязь с него стекает, подсыхая колтунами в шерсти, весь неузнаваем. И приближается к женщинам, предлагает себя. А чуть поодаль двое из них начинают его пародировать, игриво совокупляясь. Одна в роли мужчины, другая женщины. И надо было видеть, как он реагировал, как уворачивался, чтоб не глядеть… и не мог! Как, виновато пританцовывая, подходил к ним, опускался на колени, взрыхлял рогами землю у их ног, а они потешались, пировали ироничную радость, а потом как бы нехотя уступали ему и в последний момент уворачивались от притязаний. Какая удивительная была по протяженной многослойности сцена! По направлению к Свану. И это здесь на каждом шагу. Если видеть. И у бабочек, если приблизиться настолько, чтобы отчасти стать ими. Потому что тантра – это ведь не эзотерические па, а любовное узнавание себя в другом. Будь то бабочка, огонь или воздух. И когда дается эта благодать, понимаешь, что ничего, кроме благодарности – выше головы, именно что выше – у тебя нет.
#9. Ее имена
Индия – это первослон, память, трогающий хоботом останки сородичей, пыль и печаль родства. Это слон макна – исполин без бивней, валящий в поединках соперников, как солому, и уходящий в слезах, оставляющих на лице траншеи. Это низкие частоты голоса, недоступные нашему слуху, их слышат ступней. Это мать впереди земли, и сестры. Это ход тише бабочки в гомоне леса. Это слоненок, путающийся в пяти ногах. Это трудная связь иного с человеком, но все еще связь. Это Ганеша.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































