Текст книги "Улыбка Шакти: Роман"
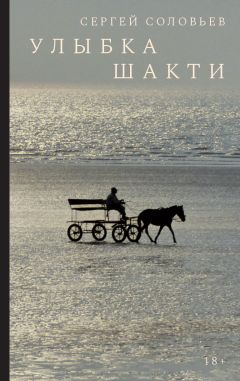
Автор книги: Сергей Соловьев
Жанр: Классическая проза, Классика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Акробат шел отдельно, запрокинув голову и заведя руки к затылку. Перед каждым шагом он выставлял ногу и, опуская на землю, не сразу переносил туда центр тяжести, а раскачивался, как на рессорах, будто проверяя устойчивость или вообще присутствие пути. При этом издавая долгий звук «тсссс» на каждом выдохе. Одна из женщин положила перед ним на тропу своего кроху. Он, в этом трансовом состоянии с запрокинутой головой, не мог видеть ребенка. Но ровно в шаге от него остановился, раскачиваясь на этих рессорах. Нагнулся к нему, не опуская невидящего взгляда, взял и, подняв над собой, прижимал к лицу, как бы промакивая им его. И вернул на землю.
Вблизи акробата кружила высокая долговязая девушка с длинными черными волосами, то и дело заходясь в птичьем крике – не одной птицы, а множества и на разные голоса. При этом ее вертело, комкало и растягивало, будто она попала в центр вихря.
Поперек тропы ложились ничком сразу по нескольку человек, в основном молодые женщины. Благословение ступней происходило по-разному: одни едва касались, другие задерживались и вели вдоль позвоночника, акцентируя шею и поясницу, ее особенно. Похоже, целительная энергия Амман связана с материнством. Одна пожилая женщина с верхним рядом зубов, покрывавшим нижнюю губу, всякий раз долго вслушивалась пяткой, водя ею по спине, прежде чем прижать в нужном месте.
Рядом со мной оказалась девочка божественной красоты, в платьишке с вкраплением крохотных зеркалец и ожерельем лаймов на шее. Одна. На фоне заштрихованных бамбуковой чересполосицей джунглей. Смотрела своими спокойными нечеловеческими глазами на плывущую мимо процессию. Когда повернул к ней голову – будто звук отключили. Все это уже происходило не здесь, по ту сторону времени. Ритм барабанов давно переместился внутрь и звучал оттуда, подчиняя себе и сердце, и кровь, и, казалось, сознание.
Мимо меня прошли уже вроде бы все, кого видел вчера, но среди них не было тех двоих. Любви и смерти не было.
Мы приближались к поляне, где собралось уже около тысячи паломников. Но ни толчеи, ни суеты, все были заняты своим делом. В центре поляны был возведен зеленый храмовый шалаш, там шли приготовления к службе.
У края поляны – несколько костров с чанами готовящейся еды. В другой стороне – музыканты племени ирула и хоровод танцующих паломников. Многие просто расположились на траве в ожидании.
Мальчик с девочкой играли в ладоши: левая, правая, обманка, и одновременное выбрасывание пальцев на счет. Тот случай лиц и отношений, когда можно представить их и через двадцать, и через сорок лет. За ними сидели две чудесные старухи: одна с волшебного украинского хутора, другая с мужицким лицом. Сидели, прижавшись друг к другу, но глядя в разные стороны, молча, с еле улыбкой, каждая – в свое пуховое безвременье. На пригорке за листвяным храмом полулежал, опираясь на локоть, старик с длинной бородой. К нему подходили за благословеньем, склоняясь к ногам. В дальней стороне поляны разделывали жертвенных козлов, подвешенных на ветках деревьев.
Процессия остановилась, барабаны стихли. Люди продолжали покачиваться в трансе, чуть перебирая под собой ногами, не сходя с места, ожидая своей очереди. Их принимали по одному, выводя из этого состояния. Каждый следующий подходил к незримой черте, откуда оставалось шагов пять вниз в ложбину, где стояло несколько мужчин в ожидании и наготове.
Первой шла та долговязая девушка. Она долго раскачивалась на черте. Ее подбадривали и манили рукой. Но она все раскачивалась, под тем углом, когда неминуемо должна была упасть, но не падала. И вдруг с пронзительным криком шагнула вниз, еще шаг, еще, ей наотмашь брызгают в лицо водой из пластиковой бутылки, приговаривая: «манипура, манипура…», и ноги у нее подкашиваются, ее подхватывают под руки, голова запрокинута, кладут на землю, постепенно она приходит в себя. Не в ту себя, которой была эти три дня, но и уже не в прежнюю. Манипура – третья чакра, живот, жизнь, эго. Но, может, мне только слышалось так, а приговаривали они другое?
Один за другим все эти несколько сотен участников ритуала проходят этот последний рубеж. Когда настал черед акробата, он дал понять, что помощь не нужна, он сам. И начал раскачиваться взад-вперед. Мне физически передалось его предельное напряжение. Будто в нем все кроилось и рвалось по швам. В последний момент, уже падая назад, он все же успел судорожно выставить ногу, а на другую, согнутую в колене, опереться руками. Один из мужчин приблизился и брызнул ему водой в лицо. Он молча пал. Унесли.
Та пожилая с большими выпяченными зубами все не могла сойти с черты, потом с криком кинулась и упала на руки мужчин, билась всем телом, никак не могла высвободиться из себя.
Зрителей тут не было, кроме меня. Тая сидела вдали на пригорке, глядя на происходящее на поляне. В нежном шелковом наряде, который она сшила в Харнай из светло-терракотовой ткани с тонким зеленым узором – шальвары и длинный, почти до колен верх. Она в нем казалась девочкой по имени Ветерок – легкий, чистый, хотя и немало повидавший.
Казалась… Смотрел на нее и думал. Какие редкие минуты, когда вот так, с этим чутким расстоянием между нами, но и то сказать – в дальней дымке, как после жизни, но кажется ближе, чем в ней. Годы идут, а мы все как два подростка: чуть что – и безжалостны насмерть друг к другу, и ожог, как впервые, и разрыв навсегда. И снова – до потери сознания близость, как впервые и навсегда. Год за годом, из крайности в крайность, и не сладить никак. Чуть что. На той черте, когда неминуемо должны бы упасть, но не падаем. И некому брызнуть в лицо той водой, подхватить под руки. Манипура, манипура, третья чакра, жизнь, легкий ветерок…
А потом вся эта тысяча паломников уселась длинными рядами на поляне – мужчины и женщины отдельно. Перед каждым лежал на земле банановый лист, на котором высились горки риса, овощей, козлятины и сладостей. А племя ирула все продолжало играть и танцевать у края леса.
Когда мы на закате вернулись к храму, он был уже пуст. Ярмарка кончилась, торговые ряды разобраны и увезены, шатры сняты, люди ушли, уборщицы мели мусор. Крашеная статуя Дурги на тигре стояла расколотая, подрагивая на ветру. Горка брошенной обуви. Горшочки, увядшие бархатцы. Среди завалов мусора бродили коровы и полудикие черные свиньи. Посреди пустыря лежал человек, порыв ветра сорвал с него газету, но он успел поймать ее на лету и прижать к лицу.
Присели на ступенях храма. От затуманенного вдали колеса сансары осталась половина – как полумесяц. Другая лежала внизу, уже разобранная. По полумесяцу взбиралась маленькая фигурка рабочего. За ними – зыбкие очертания гор в тающем свете. Все это не укладывалось ни в сон, ни в пробуждение. Декорации одной реальности разобраны, а другой, прежней, уже не было. Ни любви, ни смерти. Если бы не последние улики, заметаемые метлами. Если бы не мы, сидящие уже во тьме на ступенях храма.
#13. Почта
– Что ж ты все молчишь, что-то случилось?
– Попробую тебе написать, хотя по-прежнему трудно мне с этой стеной во мне. Я никак не могу взять верную ноту, чтобы разговаривать с тобой, от любых моих попыток у самой скулы сводит. Где эта верная нота, как и о чем – и главное, кем и чем разговаривать? Меня тошнит и от деланной деловитости, и от отписок, а при мысли об откровенном разговоре разверзается такая бездна, в которую страшно заглядывать. Мы оба знаем, как давно это произошло, знаем, пожалуй, и почему, просто все твои средства нащупать тропку мне не годятся. На том расстоянии, на которое нас разнесло – дальше чем после большого взрыва, – остается только что-то чувствовать – что мы с тобой, каждый по-своему, и делаем, а слова уже беспомощны, кроме того, безнадежно врут, создают ложное эхо, в котором боль только многократно усиливается. Я рада тому, что ты есть, рада твоим публикациям – и индийским, и тем, что единственно возможным способом хранят эту память о нашей катастрофе, об обломках, о той правде счастья, которая у нас была. Но я не знаю, как из тех миров, где мы оказались сейчас, разговаривать, и лишь эта немота приносит хоть какое-то облегчение, продолжая наш очень тихий внутренний диалог, который, наверное, уже никогда не смолкнет, пока мы оба живы. Что мне написать тебе? Что Лёнька чудесен и главная радость моей жизни – ты и так это знаешь. Как обустроить ваше общение – я не представляю. Вы не разговаривали друг с другом с зимы, когда ты вернулся из Индии – и он пришел домой печальный и разочарованный, не почувствовав ни твоего внимания к нему, ни интереса. Он тебя помнит и любит, но как сделать так, чтобы не ранить его? Я не знаю. Что написать мне тебе о себе? Что моя жизнь не слишком легка, и в ней сплошь решение бесконечных уравнений, я стараюсь, как умею, но сил не всегда хватает. Мне кажется, в глубине души я понимаю, откуда берется этот иррациональный страх, на что указывает – но что мне делать с этим знанием, если ничего нельзя изменить. Иногда хочется попросить тебя: отпусти меня, живи свою жизнь. Но что в этом толку, если я сама не свою живу. Я возвращаюсь в Москву в понедельник. Лёнька останется в Крыму до конца лета.
– Мой золотой, мой горький, мой единственный, как же мне ответить? Я ведь даже не могу сказать, что никогда тебя не оставлю, что навсегда с тобой, потому что право на эти слова отняты. Что же делать? Выбор у нас невелик. Затихнуть? Горше такой перспективы, кажется, не представить. Хотя мы прошли, казалось, уже через то, где не выживают. Но будет ли лучше? Кому? Не мне, это точно. Думаю, не Лёньке. С большой вероятностью и не тебе. Ты права, говорить так, как мы говорили, когда жили вместе, кажется, невозможно, и все же, когда это вдруг происходит, мне так отчаянно светло, что вся эта «невозможность» и «ложное эхо» уходит на двадцать третий план. И даже когда нет этого, а есть просто связь, пусть и кривая, какая угодно – я и такой благодарен, все лучше, чем без. Еще и потому, что есть чувство, что все это как-то движется, живет, и кто знает, к чему придет. Может, нам совсем мало осталось, и страшно потерять это по своей воле. А если долгая жизнь впереди – тем более. Да, и жизнь и голоса так расплелись, блуждают, где он, тот тон, единственный, может, его и нет ни у нас, ни в природе, а есть вот эта трудная блуждающая множественность – то Симург, то Озирис, то Кальдерон де ла Барка, которая мы с тобой. Ты говоришь: а при мысли об откровенном разговоре разверзается бездна. Да, возможно, мы и не готовы сейчас к этому. Но нужно ли, если заведомо ясно, что на дне ее лежу я. Моя вина. И немота моя. Потому что есть Лёнька. И все же, я хочу еще раз сказать тебе: я дышу каждым твоим словом и другого воздуха у меня почти не осталось, и если это прервется – может быть, физически я и выживу, но никакого света я там не вижу. И для тебя, хочется думать, эта связь не одна лишь мука. И для Лёньки – не каждая из столь редких встреч – разочарование. Я очень хочу, чтобы он чувствовал во мне отца, и радость, и близость, я стараюсь, но бывают дни, когда вот так все вкривь и вкось, ты же знаешь, и возвращение из Индии, и озноб Москвы, и так много всего внутри перемешанного, и ты, и бессилие сказать тебе столько всего, не нашедшего слов, и Лёнька рядом. Будь у нас встречи чаще, наверное, это воспринялось бы иначе, обидно, конечно, что у меня так в тот день сошлось. Ладно, выдохнем. Не бойся причинить мне боль, нестерпимая боль только одна – без тебя.
– Я уже в Москве. Письмо твое – лучшее, что случилось за последнее время. И слезы, и радость, – не расплескать бы.
#14. Фрагменты чтения
Льет и льет, это Альпы вертят погоду на пальце, то снег, то дождь, а то вдруг день ясный, последнее золото дрожит на ветвях. Ноябрь уже, белка, мокрая, тощая, не знает, куда закопать орешек, переносит с места на место и, присев, замирает, с лапками поднятыми к лицу. Можно мысленное солнце вписать меж своих ладоней – где-то там, далеко, за дождем. Мысль, он говорит, не может увидеть свою смерть, она создает себе иллюзию непрерывности. В Иисусе или в чем-либо еще.
Джидду Кришнамурти родился в 1885 году в семье браминов, в детстве его считали умственно отсталым, били – и дома, и в школе, он вспоминает, что ни одной мысли или образа не посещали его, лишь наблюдал и слушал. Отец в поисках работы написал председателю теософского общества Анни Безант и, будучи принят, переехал с семьей в Адьяр, где один из лидеров этого общества ясновидец Чарльз Ледбитер увидел в ничем не примечательном Джидду необычайную ауру того мирового учителя, которого они ждали. Теософы взяли его под свою опеку, а два года спустя учредили Орден Звезды Востока, избрав шестнадцатилетнего Кришнамурти главой Ордена. Он с Безант уезжает в Англию, путешествует по Европе, произносит первые публичные речи, перебирается в Австралию, затем в США, где с ним происходит то, что он назвал «процесс», мистическая встреча с первородным светом. В 1929 году Кришнамурти распускает Орден, говоря перед многотысячной аудиторией: я убежден, что истина – страна без дорог, к ней нельзя приблизиться каким-либо путем – ни через религию, ни через секту. Я распускаю Орден, поскольку не хочу последователей, и я серьезен. Нет и не должно быть, говорит он, никаких авторитетов, включая Бога – для тех, у кого он есть. Ни учителя, ни ученика; это порочный путь. Лидеры уничтожают последователей, а последователи – лидеров. Нужно быть своим собственным учителем и своим собственным учеником. Забыть все, что знали про себя прежде, начать, словно не знаешь о себе ровным счетом ничего. Это как в джунглях, говорит он в другом месте, есть только ты и джунгли, и никого, чтобы помочь, подсказать. Есть твой ограниченный ум, та ловушка мышления, сродни книге, которую читаем, забывая, что это книга, бумага, переплет, переворачиваемые страницы. В ловушке эго, индивидуальности, которых нет. Как нет национальных разграничений, социальных и прочих. Есть человек, один, единый. Как есть натрий в природе. И любовь – не твоя или моя, та или эта, а просто есть – как натрий. Учиться мыслить, следить за мышлением, обходя границы клетки, вслушиваясь в просветы, уворачиваясь от становления. Это не интеллектуальное усилие и не психологическое. Предмет вопроса – сам ум, а не те задачи, которые он ставит.
В свои девяносто за месяц до смерти он говорит, сидя под деревом перед людьми: итак, вы спрашиваете, откуда появляется птичка? Каков процесс творчества, что стоит за всем этим? У источника нет имен, источник абсолютно спокоен, он не жужжит.
Уже стемнело вокруг, он сидит под деревом, мягкие седые волосы перебирает ветер, слегка женственные черты смуглого лица, большие глаза со светлой пытливой печалью, взгляд, переводимый с одного на другого, сидящих перед ним: не верьте тому, кто это говорит, не верьте…
Уходя, он считал, что у него нет последователей. В течение жизни у него было немало встреч с европейскими и индийскими мыслителями, среди них долгая дружба с британским ученым Дэвидом Бомом, опекаемым Эйнштейном, прочившим ему Нобелевскую премию за работы в области квантовой физики. Бом занимался также философией и нейропсихологией, к концу жизни разработал голографическую модель вселенной, где каждый фрагмент содержит всю пространственно-временную информацию о целом. На протяжении двадцати лет он встречался с Кришнамурти, и они записывали свои беседы. О пространстве и времени, об универсуме и связях внешней природы с внутренней структурой человеческого духа. О том, что происходит в нашем мозге, когда мы мыслим.
Когда-то мы с Любой зачитывались этими беседами. Но должна же мысль иметь какое-то отношение к разуму, спрашивала она, вдруг озорно ловя меня много потом, повторяя Бома. И я отвечал ей голосом Кришнамурти: «Разве? Это вопрос. Я думаю, что связи меж ними нет».
Я долго не возвращался к этому диалогу, а тут снова открыл и зачитался. Одна из первых их бесед, начало 70-х прошлого века. Где же я был в эту пору? Школа, Киев, занятия спелеологией, примерно в это время еду с группой в Прикарпатье, где неподалеку в Мукачево родился отец Бома, мы месяц находимся под землей, живя в одной из самых протяженных в мире карстовых пещер – около ста двадцати километров, делаем топосъемку, разбившись на тройки, возвращаясь к ночи ползком в наш подземный лагерь, я тот в тройке, кто, будучи самым худеньким и вертким, лезет во все узкие ходы и щели, сообщая координаты и измерения – там, а они в это время в Англии, сидят в Броквуд-парке, разговаривают, за окном – дождь, здесь, в Мюнхене, где сижу у окна, читаю.
Что ж это за единый источник – мысли, разума, материи, спрашивает Кришнамурти, источник, который называют Богом ли, Брахманом, энергией или любым философским понятием, то есть по-прежнему результатом мысли и который именно мыслью не достигается? А если однажды будет достигнут, спрашивает Бом, то кем при этом станете вы? Пока есть «я», говорит Кришнамурти, пока есть мысль, время – вопрос об источнике, похоже, теряет смысл. И все же мы ставим этот вопрос, пытаясь, насколько возможно, устранить эти помехи, которыми сами и являемся.
Вот сидят эти двое, напротив друг друга, два незаурядных ума с редкой взаимной чуткостью, двигаясь медленно, взвешивая каждое слово и то, что к нему побуждает, зная, что многие из побуждений стремятся ввести в заблуждение. У обоих за плечами немалый опыт, у одного – восточные практики, у другого – наука, квантовая механика и нейрофизиология. Оба с особым вниманием к языку и закулисью мышления, сойдясь в той безлюдной местности, где нет дорог. Начиная путешествие с ясного для обоих понимания отправной точки – проблемы психологического времени, возможности его прекращения через озарение, опустошение «я», выходу к первооснове и поиске путей этот опыт разделить с людьми.
Странно все это звучит, если смотреть с зашумленной стороны. Но они и говорят сейчас об этом, чуть отойдя от темы. О все более утрачиваемом даре внимания, способности слушать и слышать. О тайне жизни, и даже просто маленькой тайне, которую не то что взрослому, а и ребенку уже некуда положить в нынешнем мире. О знании, которое все больше становится проклятьем, психологическом знании, обжившем «я». О медитации, которая вовсе не то сознательное усилие, не повторяемый шаблон, не размышление, концентрация и пр.
Дождь за окном, здесь, в Мюнхене, что-то нечитаемое выводит дождевыми каплями по оконному стеклу, а они там, в Броквуд-парке, продолжают. Часть этих бесед есть в видеозаписи. Какое-то двойственное впечатление вызывает его лицо. Притягивает, но и удерживает на дистанции. Не отталкивает, но и не вызывает приязни. Неявная женственность при остроте и даже суровости черт. Как маска, очень искусная, мягкая, тонкая, как настоящая кожа, с живым взглядом сквозь прорези глаз. Ему за восемьдесят, с легкой, едва касаясь земли, походкой. Легкостью, кажущейся чуть нарочитой. Как и голосом с чуть нарочитым, резковатым нажимом и распевным смягчением. Слишком всерьез, без улыбки, а казалось бы. Они все еще в Броквуд-парке? Или прошли годы, и это уже в Калифорнии? 1980-й, я снова в Прикарпатье, работаю реставратором в Почаевской лавре, под купол Успенского собора поднимается молодой рыжебородый дьякон, которого монахи зовут «комсомолец», поднимается не по лестницам, а прямо по лесам, подтягиваясь и делая «выход силы», пойдем, подмигивает мне, там прихожанки молоденькие, неописуемые, а я стою с палитрой перед ликом богоматери, восполняю утраты на ее правой щеке, в уголке губ, а они в это время сидят на другом конце света, в Охай, Калифорния, разговаривают, дождь, похоже, стихает.
Может быть, мы разберемся в этом, не торопясь, говорит Бом. Целостность – это, скорее, свобода видеть отдельные части. Свободы нет, говорит, Кришнамурти, пока существуют отдельные части. Ловушка мысли. Мысль создает эти отдельные части самой природой мышления, в реальности они ничто.
Что происходит, если я правильно их понимаю? Есть связка мозг-я-мышление. Последние два – одновременно реальны и иллюзорны. Мысль обусловлена и ограничена, обеспечивая безопасность «я» и его становление, порождая внутреннее психологическое время. Мозг этим занят. И есть универсальный разум, находящийся вне мозга. В основе разума – любовь, порождающая сострадание. Это безмерная чистая энергия, но мозг не имеет с ней отношений, он занят мыслью. Мысль не может себя прекратить, чтобы открыть канал для связи с разумом, возможный лишь при отсутствии «я», пустотности и тишине сознания. Никакая медитация как сознательное усилие не способна этого достичь. Настоящая медитация начинается лишь после достижения этого состояния, не наоборот. Достижение возможно лишь через прыжок, вспышку озарения, разрывающую связь мозга с «я», мышлением. Никакой последовательный процесс на этом пути не работает, поскольку является временем, становлением, работой мысли. Мысль (это уже на полях) не совместима с любовью, которая не обусловлена и не ограничена. Обостряя: где есть мысль, мышление – нет места любви. Мысль питается прошлым, опытом, знанием, любовь – только в настоящем. В этом же смысле ревность (как питаемая прошлым, мыслью, присвоением и становлением) не совместима с любовью. Так ли?
Когда сознание, говорит Бом, размышляет о самом себе, оно словно глядит на себя в зеркало, а зеркало отражает его так, будто это уже не сознание, а независимая реальность. Происходит искажение. Но откуда сознание берет энергию, из какого таинственного источника, производя затем всю эту путаницу? В некотором смысле эта энергия приходит от меня самого, от «я», но так ведь не может быть, это какой-то тупик. Оба задумываются. Да, говорит, Кришнамурти, содержание сознания создает свою собственную энергию. Когда у меня противоречивые желания, я борюсь. Энергию создает желание – не Бог, не что-то глубинное, – это все то же желание. Реальность создает свою собственную энергию.
Не совершило ли человечество в самом начале пути, спрашивает Кришнамурти, неправильный поворот? Не является ли этим поворотом противопоставление «я – не я»? Если нет эго, нет и проблем, нет конфликта, не существует времени – времени в смысле становиться или не становиться, быть или не быть. Не получилось ли так, что энергия – огромная, беспредельная – оказалась зажата или ограничена рамками ума, и сам мозг стал ограниченным, потому что не смог вместить всю эту огромную энергию? И поэтому мозг постепенно сузился до «меня», до «я». Нет, подождите, к этому надо подойти не торопясь.
Не торопясь. Капли стекают по стеклу. Мама спрашивает, проходя: может картошки пожарить на ужин? Он такой легкий и маленький, рядом с Бомом, как седой ребенок, сидит напротив, смотрит светло печальными глазами, хотя они темные. Видите ли, говорит, я хочу положить конец времени, психологическому. Понимаете? Разве не является оно источником человеческого страдания? Лично для меня идеи «завтра» психологически не существует, то есть время я воспринимаю как движение, и оно либо внешнее, либо внутреннее. Психологическое время и время внешнее. Но если психологического времени не существует, то нет и «меня», нет «я», которое является источником конфликта. Однажды в Индии я проснулся ночью, взглянул на часы – было четверть первого. Мне трудно это выразить словами, ибо это звучит нелепо – источник всей энергии пребывал, был достигнут. И это оказывало чрезвычайно сильное воздействие на мозг. Также и физическое. Мне, к сожалению, приходится говорить о себе, но, понимаете, вообще не существовало разделения, не было ощущения мира, «меня». Было только ощущение источника огромной энергии. И уже в течение шестидесяти лет я хотел бы, чтобы и другие его достигли – нет, только не достигать его. Вы понимаете, о чем я говорю? Все наши проблемы были бы разрешены. Потому что это чистая энергия от самого истока времени. И вот, как я – не «я», понимаете, – как кто-то, не поучая, не помогая, не подталкивая, мог бы сказать: «Вот путь, который ведет к состоянию абсолютного мира и любви»? Жаль, что приходится пользоваться этими словами. Но предположим, что вы пришли к такому состоянию, и ваш мозг охвачен трепетом: как могли бы вы помочь другому к этому прийти? Вы понимаете, что я пытаюсь сказать? Наш мозг так приучен к идее эволюции, может ли этот мозг вдруг осознать, что не существует такой вещи, как время? Как вы, обретя этот опыт, могли бы его передать другому? Не на уровне интеллекта, а так, чтобы это было у него в крови – понимаете? Когда это у меня в крови, я это имею. И не нужно уже объяснять. Я, человек, обращался к индуизму, буддизму, христианству, исламу и говорю, что я исследовал, изучал, что я нагляделся на них. Я считаю, что все они – одни лишь слова. Я оградил себя стеной – стеной, которая есть я сам. И живу с этим миллионы лет. Я стараюсь выбраться из этого с помощью учения, чтения, обращения к гуру, ко всякого рода вещам, но по-прежнему стою на якоре. А вы говорите мне о первооснове, потому что видите нечто поразительное, нечто кажущееся таким живым, таким необыкновенным. Я же – все еще здесь, стою на якоре. Вы, тот, кто «видит» первооснову, вы должны что-то сделать, чтобы полностью взорвать, разрушить этот центр…
Их уже трое там, к ним присоединился некий собеседник, спрашивающий: я должен сделать что-то, или вы должны?
Помогите мне, продолжает Кришнамурти, не молитвой и всем этим вздором. Я постился, я медитировал, я от всего отказывался, я давал обет в том или другом, но в результате лишь пепел. И вот приходит некто и говорит: послушай, существует первооснова, которая…
Этот вопрос не дает ему покоя, то и дело всплывая на протяжении нескольких бесед. Возможно ли и как донести весть. Оставаясь человеком, без небесной помощи. Возможно ли разделить с людьми этот опыт, сделать его открытым, сдвинуть с места положение дел. Не описывая, не призывая, не говоря, поскольку это не работает. Оставаясь собой, на том берегу, глядя на этот, где стоит человек; вот же, сядь в лодку и переправься, при том что лодки нет. Переправой могло бы стать озарение, но его не достичь усилием. Они говорят о том, что окажись на том берегу не один, а, скажем, десять таких, сплоченных в единое, это могло бы, наверно, как-то изменить ситуацию в мире, но так не случается. Будущее человечества видится им, скорее, пессимистичным: озарение не достигается помощью со стороны и не культивируется самостоятельно никаким образом, но и сам разрыв с «я» людям не видится желанным и необходимым – ни бедным, ни богатым, ни отчаявшимся, ни религиозным. Остается, хотя и неочевидное, само воздействие универсального разума и тех немногих, кто совершил этот переход.
Итак, существует ли, спрашивает Кришнамурти, отношение между первоосновой и человеческим умом? Задавая этот вопрос, я сознаю его опасность. Ибо, когда индус говорит, что Бог, Брахман в вас – это всего лишь прекрасная идея. Они останавливаются на этом вопросе, стараясь его прояснить, но это сходу не дается. Осторожно заходят с разных сторон, собеседник пытается участвовать, но в его репликах, кажущихся значимыми, они находят поспешную небрежность, отклоняющую от вдумчивого приближения.
Тогда то, что вы открыли, – несомненно, милость Бога, говорит Бом. Кришнамурти с этим не согласен. Все, чего я «желаю», говорит он, – это чтобы центр был разрушен. Я вижу, что он – причина всяческого страдания. За миллион прошедших лет я не смог от него избавиться; он остается. Итак, существуют ли вообще отношения? Что представляет собой отношение между добром и злом? Вдумайтесь в это. Отношения между ними не существует. Давайте воспользуемся другим словом: целое и то, что не является целым. Это не идея. Так вот, существует ли отношение между тем и другим? Очевидно, нет. Малая, крошечная сущность желает иметь отношения с тем, что необъятно. Это невозможно. Да, говорит Бом, и не только потому, что оно необъятно, а потому, что самой этой сущности фактически нет. И тут, продолжает Кришнамурти, кто-то мне говорит, что существует первооснова. Я пожелал установить с нею отношения. А она отвечает: извини, ты не можешь иметь отношения со мною. Вот и все. И я, наконец, ясно сознаю, что между мною и истиной нет никакого отношения. Понимаете, что это для вас значит? Первооснова говорит: что бы вы ни делали, – это не имеет никакого значения. Не претворять это в концепцию или идею, а принять всю силу удара!
Он пытается представить себе человека, стоящего на краю страдания, во тьме отчаянья, прошедшего все, что можно было пройти. Что это для него значит, что первооснова не хочет иметь с ним никаких отношений. Ничего. Он и не видит этого, не чувствует, нет у него этого опыта. Он будет цепляться взглядом за лист на ветке, за отблески красоты, приметы жизни, восходящее солнце, семью, землю, дом, но взгляд соскальзывает в центр тьмы, внутрь. Ни отношений нет, ни удара от их отсутствия – с той стороны. И единственно спасительного озарения нет. Это не Иов, у которого был Бог, это голый человек, один на один с собой, на краю. Но Кришнамурти продолжает, пытаясь его придвинуть еще ближе этой переправе, при этом делегируя ему тот опыт, то чувство единства с миром, которого у этого человека сейчас нет, а было бы – вопрос об ударе стоял бы иначе.
Я хочу, говорит Кришнамурти, прояснить не некоторые, а все иллюзии, в плену которых нахожусь. Я отбросил иллюзию национализма, отбросил иллюзию в отношении веры, в отношении того, этого. Я ясно понял наконец, что мой ум сам является иллюзией. Видите ли, для меня, прожившего тысячи лет, выяснять все это – занятие абсолютно бессмысленное. Не означает ли это, говорит Бом, что в каком-то смысле весь опыт человечества – это… Это я, отвечает Кришнамурти. И это не сочувствие или сопереживание, это – факт. Когда вы любите кого-то, то нет «меня» – есть любовь.
Последние капли, или это с деревьев и крыш. День угасает. Было ли у меня это чувство, есть ли? Да, хотя, быть может, не в такой степени. В какие-то дни, минуты. То острей, то менее ощутимо, фоном. В джунглях – очень, и в чем-то больше, чем просто человеческий опыт. В творчестве? Трудно сказать, слишком это связано с «я», но каким-то образом, вероятно, тоже. Вдруг вспомнилось – наверно, от тех его «четверть первого», когда он проснулся – однажды в юности я очнулся среди ночи, лежа на животе и чувствуя над своей спиной какую-то невероятную, ни с чем на земле не соотносимую, живую силу. Бесплотную, но живую, в смысле наделенную разумом, было ощущение безмерности этой «мыслящей» энергии, она все приближалась, нет, она уже коснулась меня, и тяжесть ее было невозможно вынести – физически. Легкое ее касание вдоль всего тела, даже менее этого, и, казалось, уже кости мои не выдержат, ножки кровати подломятся, а она все не ослабляла этого нажима, как бы испытывая мой предел. Это длилось около получаса. Если б я мог повернуть голову, я бы, может, что-то увидел над собой, так казалось. Присутствие этой силы было явно адресным, обращенным именно ко мне, испытывающим, там, над моей спиной, было ее незримое лицо… Изо всех сил я пытался повернуть голову, но ни на сантиметр это не удавалось. Глаза у меня были открыты. Я видел часы. Я видел чашку на столе, попробовал ее подвинуть взглядом, она поддалась. Но это при происходящем было не столь важным. Страх? Да, он был, но что-то было сильней и важнее его. При том, что речь шла о жизни и смерти, я это чувствовал. Еще немного нажима в этом касании – и все. Но оно, это космически безмерное, именно так оно ощущалось – медлило. Вглядываясь, как бы пропитывая меня собой насквозь, что-то вкладывая во все это. Страх отступал, тут было что-то другое, не о смерти, казалось, я уже понимаю, и, когда на пределе сил я вдруг без голоса прошептал: да!.. – выдохнуло меня, отпустило. Это было, конечно, не то состояние, которое он испытал той ночью, но, видимо, опыт встречи с этой (или иной?) энергией, вступающей в отношения с нами, может быть разным. Это случалось потом еще дважды, спустя годы, и каждый раз по-другому.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































