Текст книги "Улыбка Шакти: Роман"
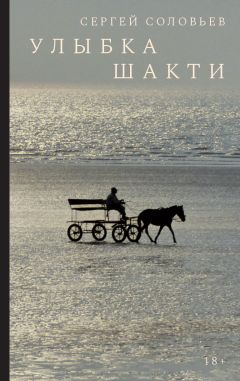
Автор книги: Сергей Соловьев
Жанр: Классическая проза, Классика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Не считаете ли вы, что существует такая функция мозга, которая действует независимо от его содержания, спрашивает собеседник. Они говорят о мозге, о том состоянии ума, которому удалось преодолеть психологическое время, закончить его вместе с привязанностью к «я», войдя в единое с тем, что не знает смерти, вернее, оказавшись там, где смерть уже имеет малое значение. Достигнув этого состояния, мозг в его земной жизни снашивается куда медленней – на 90% медленней, как допускает Кришнамурти. Нет конфликта, нет плена рутины, повтора, фиксации, нет старения. Содержание сознания освобождено от психологического времени, это ведет к трансформации клеток мозга. Если б мы могли учиться, не калечась знанием, говорит Кришнамурти, учиться, не фиксируясь, а оставаясь в поле свободы, неопределенности, незащищенности, как в природе, в лесу, лишь очень немногие преодолели знание и говорят из свободы. О каком знании он говорит? Знании о самом себе, именно это он хочет поставить под вопрос. Наше восприятие, говорит он, обычно направляется знанием, прошлым, и это знание вызывает действие, которое исходит из прошлого. Это и есть фактор дряхления мозга. Существует ли восприятие, не связанное с временем, и, следовательно, действие, которое срабатывает немедленно? Если бы мы оказались способны сломать этот стереотип времени, то мозг вырвался бы из этой структуры, и тогда произошло бы кое-что еще.
Что же? С его слов, индивидуальный ум, входя в контакт с универсальным разумом, по сути бессмертен, смерть тела остается тривиальным событием. Об этом?
Иногда, говорит Кришнамурти, люди размахивают передо мною морковкой, и я следую за ней взглядом. Но я понимаю, что в действительности нет никаких морковок, нет ничего. Как же тогда это прошлое способно рассеяться? Можем ли мы сказать, подхватывает Бом, что вселенная не обусловлена своим прошлым, несмотря на некоторое постоянство ее форм? Да, соглашается Кришнамурти, она творчески подвижна, и в этом движении ее порядок, могли ли бы вы как ученый согласиться с этим? Если на то пошло, говорит, Бом, – да. Не сошли ли мы оба с ума, еле заметно улыбается Кришнамурти. Давайте поставим вопрос иначе: есть ли реальная возможность для времени окончиться – имеется в виду вся идея времени как прошлого – окончиться хронологически, так, чтобы вообще не существовало никакого завтра? Мы вышли за грань безумия, так что можем продолжать. Не могли бы вы сказать, что это движение, не связанное с временем – вечно новое? В том смысле, говорит Бом, что творчество – это вечно новое. Но что же делать человеку, совершившему переправу, выпутавшему свой мозг из времени и вошедшему в этот дом пустоты? Жить, говорит Кришнамурти.
#15. Панхаликаджи
За день до нашего отъезда в Индию Тая прилетела из Севильи в Мюнхен – с рюкзаком, в камуфляжных штанах с высоким поясом, которые так ей шли с ее длинными ногами и белой тонкой рубашкой, как и белье белое на ее всегда смуглой коже, которую при каждом удобном досмугливала на диких пляжах Европы. Или Бали, куда отправилась в пору нашей недавней размолвки. Лежа на всех этих пляжах и непляжах где-нибудь в стороне, одна, топлес, днями и днями. Но и даже когда со мной – чуть в стороне.
Как в Хорватии, на лесном безлюдном мысе, куда ходили с тормозком еды и устраивались у вросшего в землю ржавого якоря, вешая на него одежду. Она ложилась спиной ко мне, голая, за порослью кактусов, в плывущем мареве зноя, и казалось, тело ее дрожит, колеблется в этой пелене. Я смотрел на нее сквозь прогал в зарослях, лежа неподалеку на рыжих сосновых иголках, положив ладони под подбородок, и не мог отвести глаз, хотя, казалось бы, знал это все уже тысячу лет, каждый мир ее тела, а их было не счесть, и странствовал взглядом – как по родной, желанной и совершенно неведомой земле. И понимал, что вот ведь – никогда эта неведомость и родство не утолятся. И замирал, ни жив ни мертв, глядя на то, что и назвать никак невозможно, да и поверить, что это сотворено – даже самым отчаянно нежным и чувственным богом на свете. Глядя на этот непостижимый переход от талии к бедрам и дальше – к ногам. Я представлял себе эту космогонию: вот уже создан мир, и явлено все, кроме этого перехода… Нет, легче выдумать и сотворить облака, океаны, деревья, даже людей. Но не это, не так. От которого мутилось сознанье и жизнь, колеблясь, как этот воздух. И медленно вел взглядом по теневой ложбинке – туда, где, еще не дойдя, лишь в предчувствии, уже обрывалось сердце. Словно там и было оно, мое сердце, замирающее между хромыми ударами. И тут она вдруг перевернулась на спину, вместе со мной и сердцем, оставшимся там, под ней. Встала, отряхнулась, перелегла – ко мне, уже сидящему. Лежит, чуть свесив голову через мое бедро и глядя на расстеленный завтрак для нас между моими разведенными ногами. И не совсем на завтрак, к которому мы вернулись очень нескоро. И еще долго зудела спина в отпечатках сосновых иголок.
Приземлились мы в Мумбаи ранним утром, еще затемно. У меня был план, который не открывал ей, храня сюрпризом – отправиться в нашу рыбацкую деревню по морю. Выудил я в интернете смутные сведения о пробном открытии водного сообщения. Какой-то лапоть, названный, конечно, скоростным, ходящий в некие дни в непроизносимую глухомань на полдороге к нашей деревне. И ладно, лишь бы оказалось правдой.
И – надо же, оказалось. Разношенный такой лапоть. На волне едва не спадающий с незримой ноги. На корме – буржуйка, там что-то варится, чайник кипит. И гальюн рядом – кабинка со съехавшей дверью. И солнце восходит в своей неизменной индийской дымке. Кажется, и после мира, когда солнце будет уже едва тлеть, вокруг него еще останется эта дымка и где-то вдали, в стороне бывшей Земли, этот запах сожженных листьев, и индусы, сидящие в космической тьме у своих уличных костерков…
Доплыл лапоть, и пересели мы в прибрежных зарослях в какую-то бричку, и поехали дальше вдоль океана, а потом и его не стало.
А пока плыли, я вспоминал прошлогодний разговор с мистером Ларком, начальником полиции в городке Даполи, неподалеку от нашей деревни. Тем самым Ларком, жаворонком, у которого папа – Ленин, сын горшечника, а адъютант – Шива. Я говорю ему: как же так, Индия почти со всех сторон омываема океаном, а никакого водного сообщения. Ладно, что за все эти тысячелетия вы океана не замечали – ни кораблей, ни путешествий, ну… за исключением нескольких эпизодов. Но и в двадцатом-то веке, не говоря о нынешнем – та же тишь. Весь мир в круизах, яхтах, а у вас хоть годами вглядывайся в горизонт – девственен. Помимо прочего, говорю, это ж какой туристический бум у вас был бы – с маршрутами вдоль берегов. В Харнай я говорил с рыбаками, взять бы корабль, немного благоустроить, и отбою желающим не было б, даже из круга моих друзей. Спать на палубе под звездами, завтракать на кампусе, рыба под рукой, ночью плывешь, днем гуляешь по столетьям, плавучий дом, удобно и чудесно. Рыбаки загорелись поначалу – и скисли, посовещавшись. И корабли есть, и благоустроить и пойти хоть на край света – не вопрос, но нельзя. Дальше указанной территории для рыбной ловли – нельзя, и брать посторонних на борт – тоже. Помнишь, Серджи, говорит мне один из них, как ты договаривался с Зауром, чтобы он вас с Таей на лодке отвез в Мумбаи – день ходу всего, если подвесить второй мотор. Не дали разрешение. А вон те руины за гаванью видишь? Там была портовая администрация пассажирской линии до Мумбаи на север и в Ратнагири на юг. Четыре рейсовых катера. Годы, как все четыре на дне лежат. Как же так, говорю Жаворонку, сыну Ленина, не сегодня-завтра это все равно ведь как-то стронется. Так, может, сдвинем дело? Да, чешет затылок, вынимает из шкафа толстый потрепанный том и из ящика стола лупу, листает, вглядывается. Проблема, говорит, еще и в том, что решение ее затрагивает несколько министерств. И, захлопнув книгу: несколько, и ни одно из них.
Ехали мы в Муруд, где на крохотном острове еще полсотни лет назад была последняя независимая мини-держава в Индии – форт Джанджира, около четырехсот лет назад объединивший сидди, выходцев из Абиссинии. Этих красивых статных африканцев когда-то держали при королевских дворах, но со временем и особенно с середины двадцатого века народ этот начал выветриваться, остатки его разбрелись по Индии, цыганя, музицируя, развлекая на свадьбах, осталось их вроде около четырех тысяч. В прошлом году мы уже были там, в Муруде. Жили в тихом домике, дважды на дню волнообразно подтягивающем к себе голубую простынку моря и сдвигающем ее вдаль в часы отлива. По пустынному берегу в окне бродила белая лошадь в красно-рыжих пятнах, как древняя карта другого мира. Мы отправлялись на остров на ветхой фелюге с рваным парусом и теряли друг друга из виду там в высокой траве среди руин домов, храмов, ржавых пушек, каменных лабиринтов, колодцев и затянутых зеленой патиной прудов.
На этот раз мы не собирались там останавливаться, а только встретиться с нашим приятелем Дипаком, который приедет за нами на машине, и отправимся с ним по джунглевым дорогам искать древние храмовые пещеры, которые я случайно высмотрел на гугл-карте и о которых, похоже, почти нет сведений.
Дипак – лучезарный двадцатилетний парень, сын лесника, нашел нас в лесничестве деревушки Бор, где мы жили тогда, и предложил повозить по горной округе. Уж не помню, человек десять, наверно, в машине, и все, кроме нас и водителя, сидели друг у друга на руках, и фигурка короля Шиваджи Махараджи покачивалась у лобового стекла. Как странно с этим именем: Бор – тигриный заповедник, где нас поселил в своем домике Сурия, с этого и начиналось наше путешествие, а потом с запиской от Сурии мы весь месяц перемещались по штату, другим заповедникам, пока не оказались снова в Боре, но другом, с плюс одной, но непроизносимой в своем имени буквой. И поселились в лесничестве, а спустя несколько дней был праздник, толпы людей на улицах, шатры на площади, театр, музыка, дети, играющие эпос. Нас с Таей вызвали на сцену, что-то я там говорил – пламенное и нежное. И еще, и еще, уже под телекамеры и с костюмированными детьми на руках: она с Кали, я с Шивой, она с Кришной, я с Радхой…
А потом мы как-то потерялись в толпе, а когда, уже к вечеру, столкнулись… Как это в фильмах показывают – в замедленной съемке и без звука рушащиеся дома, оседающие внутрь себя. Наверно, какой-то был повод, кто ж это вспомнит. Но дело не в нем, а в той невольно оголившейся жизни, ее ладони, протянутой навстречу. Ее ко мне, моей к ней. И вывихнутой мимоходом.
Она исчезла. Тормознула проезжавший мотоцикл, груженный какими-то бидонами, и исчезла во тьме.
А потом был День короля. Мы восходили с тысячами индусов в заоблачную высь – в форт Шиваджи в Райгаде, его последнем пристанище, несли флаги и кричали над пропастями: «джей, джей!», смеялись в объятьях друг друга, и были, похоже, счастливы. Присели там, в занебесье, но не у склепа короля, а чуть в стороне – у памятника его любимому псу, которого он завещал упокоить рядом с собой. Так мы втроем и сидели, глядя на заходящее за незримой долиной солнце.
Сидел там, перебирал в памяти, что помнил об этом короле, одном из самых великих в Индии. Крестьянский сын, он и королем-то стать не мог. Четыреста лет назад в этом построенном им небесном форте, заволакиваемый облаком, он стоял, тридцатипятилетний, в окружении тысячи браминов, призванных совершить ритуал по духовному преобразованию его кастового статуса, с тем чтобы короновать на царство. Или вот он, десятилетний мальчик, обручившийся со своей первой женой. А потом, в пятнадцать, собравший армию и тесня моголов, хоть и уступая им численности в десятки раз. И на переговорах с ханом, возглавлявшим войско противника, припрятанным стальным «тигриным когтем» вспарывая его тело и отсекая голову в ответ на кинжальный выпад. А потом, вместе со своим сыном попав в плен и находясь под домашним арестом в Агре, сумеет сбежать, переодевшись в слугу и спрятав сына в корзине с фруктами. Вот он бежит с этой корзиной, а мы едем с Дипаком, поднимаясь по дну ущелья к пещере, где отшельничал духовный наставник короля – святой Рамдас, гуру и поэт, с которым они обсуждали пути к свободе – мирные и не очень, и их цену. В той пещере теперь обитает брамин, хранитель, был у нас долгий с ним разговор об этих двоих, вспоминая и другие пары – Чандрагупту Маурья и его учителя – ачарья Бхадрабаху, как и Македонского с Аристотелем. Тая прилегла у входа под деревом, а мы все продолжали, перейдя к отмене кастовой системы и равноправию женщин, за которые выступал Рамдас. «Тот, кто не помнит, откуда он произошел, не достоин называться мужчиной», цитировал улыбчивый, мешковато округлый хранитель, одной рукой похлопывая по животу, другой подпирая низкий пещерный свод. Да нет, наверно, ни о чем таком я тогда не думал, просто сидел рядом с ней, глядя на заходящее солнце, в сторону которого летела крошечная свастика из Мумбаи, аэропорта имени Чатрапати Шиваджи, оставляя за собой расходящийся тающий след короля…
Эти безвестные храмовые пещеры – не те, где жил Рамдас, другие – мы нашли с Дипаком не сразу, долго колеся проселками от хутора к хутору, спрашивая дорогу у крестьян и пастухов. Обычная для Индии история – где-нибудь за деревней может стоять древнейший дольмен, или своды с наскальными росписями, или руины храма мирового уровня, а жители ни гугу об этом. Может, считаные и знают, но и особого значения не придают. Вот и тут, около дюжины пещер с большими залами, колоннами и фигурами, с огромными вырубленными в камне слонами у входа, и все это расположено в два яруса на холме в джунглях, и ни души. Пещеры вырублены еще в прошлой эре, вначале тут жили буддисты, затем индуисты, и уже много веков как поселилось забвение. Хорошее место. Но мы к тому времени знали и куда более дивное – пещеры Панхаликаджи.
Это в тридцати километрах от нашей рыбацкой деревни Харнай. Пещерам более двух тысяч лет. Обнаружены совсем недавно. То есть о них, конечно, знали, но кто? Разве что пастухи с ближайшего хутора. Приехали ученые на несколько дней, условно датировали, сделали опись и уехали до лучших времен – в будущей юге.
В ближайшем к этим пещерам городке Даполи мы все никак не могли найти рикшу, чтобы понимал, куда ехать. Но добрались.
Джунгли, холм, двадцать восемь вырубленных в скале пещер, одна за другой, вытянутых на полкилометра вдоль тихой заводи, где живут крокодилы, но мы тогда не знали об этом. Вначале мы шли вместе, заглядывая в каждую из вихар, слегка оглушенные открывшимся. Тая спустилась к заводи искупаться. А я все никак не мог прийти в себя, переходя от одной пещеры к другой. Во многих из них были большие, вырубленные из камня фигуры богов, барельефы, надписи на деванагари и, возможно, пали. А в траве под деревьями – осколки, фрагменты, покосившиеся буддийские ступы, вросший в землю улыбающийся Ганеша… С деревьев глядели лангуры и, вдруг всполошившись, неслись по ветвям и прыгали на спины пещер, а оттуда вниз и усаживались на обломки богов и богинь…
Поначалу здесь, как и в тех пещерах под Мурудом, жили буддисты, потом, несколько веков спустя, таинственно исчезли. Поселились джайны. И тоже по неведомым причинам исчезли. Затем, где-то в седьмом-восьмом веке, пришли индусы. Несколько веков спустя пещеры вновь обезлюдели, и уже до наших дней. Все эти таинственные приходы-уходы, эти необъяснимые смены создавали тут какую-то странную энергию. Казалось, именно она и живет теперь здесь. Не темная и не светлая. Бывало, не войти – как стена, даже дышать трудно. И погреб в сердце. А в другой приезд так легко и светло, что едва не уносишься ввысь. И не понять, от чего зависело. Порой обоих нас накрывало, но было и так, что она летит, а ты сидишь, недвижно глядя в это – солнечное? змеиное? – сплетение миров, религий, где осколки будд рядом с обломками индуистских богов, фигуры джайнов вперемеж со ступами и шивалингамами.
В одной из пещер, где на своде гнездились летучие мыши, в углу лежали ноги Будды и чуть поодаль – его тело без головы. И я подумал их соединить: авось что-то в космосе сдвинется к лучшему. Мыши срывались со свода, как обугленные клочки бог весть чего, и хаотично метались. Соединил, вышел из пещерного сумрака, сел на землю, привалившись к обломку с какими-то барельефами, прикрыл глаза.
Мягкое закатное солнце сквозь листву. Тая подымалась от заводи, надев свои чудесные шелковые штаны и такое же платье поверх из тонкого оранжевого шелка в узорах на еще влажное тело. Нагнулась, тело ее на просвет стало еще более голым, и начала расчесывать свои длинные, ниспадавшие до земли волосы, казавшиеся чуть темнее солнца. На тропе появился пастух и, глядя то на меня, то на Таю, возбужденно размахивал руками, все повторяя: макар, макар! И указывал в сторону заводи. Тихо пробравшись сквозь заросли к берегу, мы наконец увидели его – да, около четырех метров, если не больше. Лежал недвижно на маленьком пляже по ту сторону заводи, грелся, разинув пасть.
Говорят, крокодилы длиной до трех метров на человека не нападают. Говорят. Пещеры вырублены в изножье холма, в прошлый приезд мы поднялись на его вершину, там оказался маленький хутор в несколько домов. Я пытался на пальцах объясниться, спрашивая о крокодилах. Не понимали, улыбаясь, кивая, сторонясь. Отчаявшись, нарисовал на земле – примерно трехметрового. Такой, спрашиваю. Да-да, кивают, показывая в сторону заводи. Или вот такой – удлиняю его до пяти метров. Снова кивают. В сердцах дорисовываю до обрыва – размером с кита. Соединяют ладони у груди, кивают: намасте!
А на следующий год я как-то менял деньги в Даполи, там приятель у меня в Вестерн Юнион, единственном на сотни километров в округе – о том о сем треплемся, и коснулись пещер этих. О, говорит, так я оттуда родом, с того хутора, там дяде моему крокодил пальцы откусил на руке, а он ему отрубил переднюю левую. Коров пас там, к воде спустился – тишь да гладь, и вдруг – он даже не понял, кто, откуда – кинулся на него. А у дяди чаку полуметровый всегда за поясом, выхватил и рубанул, хорошо, что правая, в которой тесак, цела была.
Ушел пастух. Макар, лежавший там, заряжаясь солнцем, как батарея, ожил вдруг, увидев нас, и рванул под воду. И Тая исчезла. Пошла, наверно, прогуляться вверх по течению, это не заводь, оказалось, а речушка, за пещерами уходящая вверх каскадом маленьких водопадов.
А я сидел, все еще глядя сквозь полуприкрытые глаза на нее, расчесывавшую волосы, и вспоминал, как мы впервые въезжали в Индию.
В аэропорту нас ждала машина, присланная моим ришикешским другом Джаянтом. Я не помню лицо водителя, мы сидели на заднем, рюкзаки в багажнике. Раннее утро, долго выбирались из Дели в сгущавшемся тумане. До Ришикеша было около шести часов дороги. Город остался позади, туман прильнул к окнам так, что казалось, мы просто стоим недвижно, машину потряхивало. В мутно-белом нигде. Как до сотворения мира. И только призрачный свет вдруг вспыхивал впереди, сзади, сбоку – случайный, кривой, и мазал по окнам, по нам. Даже не свет – рваные сполохи, пробы его. Наплывал, на миг прильнув к лобовому, вглядываясь, кто там внутри, и, вскрикивая разными голосами, отшатывался в сторону, скользя за спину. Странно, что мы не разбились, и даже не думали об этом. Все это вместе – Москва, ночной перелет, Индия, мы, окукленные туманом, да и просто мы, еще пару дней назад не существовавшие, все это складывалось в какой-то сновидческий трип. В белом коконе. Гусеница-куколка-бабочка, в ком же из них душа? Тая прилегла, положив голову мне на колени. То, что происходило дальше, я не понимаю, и слов этих нет, чтобы сказать. Нет, она не трогала. Или почти не трогала. Только смотрела. И немножко дышала. Как воздух в безветренный день, а стебли травы чуть колеблются. Он медленно поднимался – но где, когда? – казалось, в незапамятные времена, и где-то далеко внизу, где земли еще не было. Ничего еще не было, и меня, казалось. А он уже был. Только он и она. Как смысл и его звучанье. Звучанье взгляда. И дыхания. Которое произносят, не вдыхая и не выдыхая. И мутный безвидный мир, облапывающий окна желтыми сполохами. И затылок водителя, поглядывавшего в зеркальце, но я не помню его лица. Может, его и не было. Как не было ничего. Кроме тумана и этого лингама, отдельного от всего, и этой худенькой простоволосой Шакти, прильнувшей к нему на расстоянии дыханья. Видящего дыханья. Кем и была, и больше ничего в ней не было. Как и во мне, кроме него. Длилось это так долго, как с людьми не бывает. Шел уже пятый час. Нет, она не трогала. И ни единого слова. И он не ждал ничего, не вздрагивал, не излился. Просто стоял, как столпник в раденье. Как никто, которому не было до меня никакого дела. Если бы я хотел ее, если б она хотела – да, мы бы могли, там, на заднем. Но происходило что-то другое, в котором это тонуло, как меньшее в большем. Большем, чем мы. Как творение мира в тумане, в день второй. Когда что-то пропущено – там, в первом, уже непроглядное. И теперь проступающее вот этим мной, ею. Свет на щеке, ладонь у моих губ, она медленно отстранялась с улыбкой, и мир за окном проступал – небывалый, с землею и небом, с дорогой, коровами и людьми, туман рассеивался, подъезжали.
Тая возвращалась по тропе от водопадов, пританцовывая и что-то напевая, не «утомленное солнце» ли? Над ней на деревьях резвились лангуры. На нижней ветке мамаша подтягивала за хвост свалившегося младенца, он, покачиваясь вниз головой, глядел на нас, обнявшихся, своими большими лемурьими глазами на старчески сморщенном, нежно-лепестковом лице.
Вскоре мы вновь оказались у этих пещер. С вершины холма доносилась музыка и пение. Поднялись туда. Хутор был неузнаваем. Огромные нарядные шатры, в которых на расстеленных коврах сидели мужчины и старцы в белых одеждах и белых пилотках. В руках у них были раскрытые книги, вернее, одна и та же – Бхагавадгита. Это был ее день, этой книги и ее автора. На праздник издалека съехались уроженцы этого хутора. И вот три дня и три ночи они хором непрерывно читают книгу. И женщины помогают им, кормят, поят, наряжают мир, а одна, пожилая, стоит с виной, ударенье на первом, перебирая ее струны. За ее спиной – бюст автора Бхагавадгиты, убранный цветами, трогательно несуразный. Тех из читающих, кто ненадолго отходит вздремнуть, сменяют уже отдохнувшие. Такой вот трехъярусный мир: крокодилы в заводи, глядящие в пещерный проем трех религий, и на вершине холма – хутор с поющими Книгу. Перебиравшая струны со взглядом куда-то поверх и вдаль протянула мне вину, и я на время стал ею, этой женщиной, извлекая мало подвластные мне звуки. Тая сидела в стороне с детьми, воркуя с ними на неведомых языках.
Когда мы спустились вниз и вошли в ту пещеру, где месяцем раньше я сращивал тело Будды, обе части, соединенные мной, лежали, как прежде, порознь.
#16. Перемещения разрозненного
Он и она, на глазах повязки. Ощупью вспоминают. Маленькие, думает она, с ладошку ласки – семейства куньих. Часть больше целого, думает он, это не ново, даже когда в начале. Левая рука – Мышкин, правая – как Рогожин. Тишь меж ними, легонькой гарью пахнет, как от сгоревшей кожи. Если он смысл слова, а она звучанье, как в той Вишну-пуране, что же такая тишь? Три там дороги, и по каждой идут в обнимку беда и счастье в съехавших набок нимбах, как подвыпившие хуторяне. Она припадает к близости, они ее чувствуют, а друг друга? И в то же время они одно. Остается немного песка, извести на ладонях, огня в животе, остывающего, остается нарисовать окно.
#17. Почта
– Смотрела твои снимки со странным чувством – особенно те, где Тая в сари: страница перелистнулась, и вот уже новый дом лесника, и Руми выносит яркие одеяния. Тая на снимках светится, и все это настолько идет вразрез с твоим «все врозь», что я пристыженно умолкла, боясь нарушить эту видимую гармонию. Идея с Карнатакой мне очень нравится. Не колеблись, ты же помнишь, что в место на карте ты только как бы случайно ткнешь – а наверху уже пишут и распускают, ожидая твоих историй. Куда бы ни отправился – верю, что все чудеса тебе будут.
– Шатко все. Еще вчера было решено – она уезжает. Сегодня уже едем вдвоем. В том-то и дело: когда мир – все хорошо, но он недолог – до ближайшего поворота. Договорились, что поездка до первой ссоры, штопать не будем. Но как мне сейчас перейти от всего этого к радостной дрожи хвоста? Я нашел, куда ехать! Посмотри на карте Кабини. Станем на реке, где она вензеля выписывает в подбрюшье Нагархола на границе с Кералой. И домик на дереве построю, и лагерь с шалашом внизу, и река, и слоны, и тигры… Если все получится – я думаю пробыть там недели три.
– Я рада, что ты нашел то, что искал. Дай бог – и тебе, и Тае, и пусть твои мечты сбываются: действительно неважно, что за женщина, что за дети, что за Индия – главное во всем этом ты сам, и пусть счастье продолжает на тебя литься из небесного ковшика. Будь, и будь счастлив – всегда.
– Кажется, твоей рукой водило горькое чувство, хотя и стремящееся быть светлым. Неужели ты не понимаешь, и тебе ли надо объяснять? Что заклинаю это счастье и местами шаманю, что это фб и немного театр, что на деле все не совсем так. Не надо тебе – особенно тебе – ревновать меня ни к Индии, ни к счастью, ни к Тае. А насчет детей в индийской школе… Знаешь, я когда писал про них, мне на миг примерещилось что-то вроде такой твоей возможной реакции, и тут же отогнал это нелепое виденье – со стыдом, что так подумал о тебе.
– Прости, я действительно как-то горько написала, хотя и правда думала лишь о хорошем и светлом для тебя. Просто, наверное, и впрямь иногда жжется – потому что это ведь так сокровенно, ты и сам все понимаешь. А тут еще и фейсбук время от времени показывает: семь лет назад в вашей жизни, пять лет назад… Но сны мне снятся прекрасные: мы в Индии, вместе, и мы летим, и все чудеса наши.
– Ну вот, а то я места себе найти не мог, говорил с тобой. Я тебе напишу еще.
– Напиши, напиши, с днем рожденья поздравь, например. Помнишь, как мы промахнулись с твоей датой на день?
– Что же мне пожелать тебе, нам, все эти тысячелетья спустя и уж не меньше впереди. Счастья – тебе, мне – речь, а Лёньке – то, что между нами? Пусть он будет светел и легок на странствия в себе и в мире. И чтоб обжилась в нем наша страсть – к Индии во всем: в речи, в чувствах и в пути. И чтобы ты была радостна и не хворала, и меж нами чтобы светло и нестерпимо чутко – как в лучшие дни. С днем рожденья!
– Вот и сбывается все, о чем ты мечтал – и тигры, и лепары на расстоянье руки от тебя. Снимок удивительный – и этот взгляд его… Денежки пришли на карту, спасибо тебе. Мы в Крыму, здесь хорошо, светло, новогодне, и наконец солнце. Шепни лесу слово: от меня, от нас. Я тебя слышу. С наступающим тебя, и пусть продлит все чудеса, мешок с которыми ты давно развязал.
#18. Бор
Мы зачастили на тот дальний луг и волшебный лес, жалея, что не обнаружили их раньше, оставалось у нас чуть больше недели в этом заповеднике. Вставали затемно и, быстро собравшись, шли к дамбе. Тая успевала еще накормить Кали – черную худющую суку, которую всю высасывали ее пятеро щенков. Тая варила им с вечера тюрю из остатков нашего ужина, подбрасывая туда и лакомые куски. Сметали они все, даже мелкие рыбные кости. А наутро провожали нас до тропы. У озера мы перешагивали шлагбаум с надписью «запретная зона» и, минуя единственный домик на берегу, где жил Сачин, смотритель частного рыбного хозяйства, углублялись в джунгли. Иногда говорили Сачину, чтобы оставил нам пару рыб, которые мы заберем на обратном к вечеру.
В тот день мы долго ходили, открывая новые для нас места. И какая-то необыкновенная тихая чуткость была между нами, как и сам день. Много нильгау видели, близко подобрались к ибисам, и просто ходили по чудесному лесу, а когда меня заносило в сторону тревожных зарослей и тигриной травы, усеянной останками оленей, и Тая чуть покачивала головой, еще не решаясь меня удерживать, я спохватывался и уступал ей, шли мягко, не оголтело рискуя, и так хватало.
Помню, как меня однажды удивило, когда мы пошли на настойчивый крик оленя, зная, что он означает, и я поначалу был несдержан, лез в заросли, пока она ждала на тропе. С большой вероятностью где-то поблизости был тигр или леопард, туда и лез я, хоть и, конечно, чувствовал неуют, и, вдруг обернувшись к ней, увидев ее состояние, пересилил себя, вернулся на тропу, старался не отходить от нее. Она потом вспоминала эту мелочь как драгоценное.
Дошли до ее дерева, где к ней приходил олень, она осталась там, а я сказал, что ненадолго схожу к озеру. Поднялся на холм, навел камеру вдаль к берегу, приблизил, а там… Ох беда, беда! Самец нильгау, один, шел, прихрамывая на переднюю левую. Еле шел, останавливаясь через каждые два-три шага, прислушиваясь к тому, что с ним там внизу происходит. Силуэтом на фоне серебрящегося озера. Он пытался нагнуться, приблизить голову к траве, не получалось – боль в ноге не давала. И тогда он попробовал опуститься на колени. Медленно, мучительно, кренясь на бок и едва удерживая равновесие, замирая, превозмогая боль, встал на колени. Коснулся губами травы. Так беспомощно, с колен, мог бы есть человек без рук. Жизнь надломилась, повисла на волоске – до первого тигра, если чудом не исцелится. Это ведь всегда рядом с силой, самодостаточностью, стоит лишь оступиться. Потому что один. Потому и тигр так осторожен, каждый шаг взвешивает. Потому что один. Да и я тут все чаще стал думать об этом. Потому что…
Нет, подожди-ка. Чуткость, говоришь, была между вами в тот день, мягко уступал, был бережен, да? А с чего началось? С первого луга, где присели перекусить. И тут лангур кричать начал – в той стороне, где в первый приезд тигра увидели. С дерева неуемно кричал – низким, грудным, лающим, не оставляющим сомнений, что там, под деревом – кто? Тигр? Медведь – вряд ли. А луг был полон оленей, и нильгау только-только выходить начали. Сдуло всех – в минуту. Говорил себе: не иди туда в таких ситуациях, не нарывайся. Нет, встал, пошел. Она говорит: ты ж обещал, куда ты… Не оставляй меня тут одну, даже дерева нет, чтобы влезть, эти слишком маленькие. Не заводись, говорю, тигр – даже если появится – не сунется к тебе: ты сидишь, он идет, а не наоборот, вероятность невелика. Ему еще и луг пересечь надо, открытое пространство… Не слышит и слышать не хочет, влезла на деревце. А я пошел. Приблизился, прихватив палку по пути, и уже шагах в десяти нахожусь от того лангура, который последние крики исполнял с дерева. Вглядываюсь в просветы зарослей – не видать. И лангур стих. Ушел тигр. Если это был он. Может, и видел меня. Скорее всего. Но зачем ему все эти хлопоты, неприятности – человек ведь, не фунт изюма, что с него возьмешь. Кроме ненужной жизни. Он же не знает, что это Серджи, писатель, издалека, просто хотел пособытийствовать полминуты, снять видео для фильма про нильгау, надо ему очень, знал бы – может, и остался, а так – с чего бы. Вернулся, она уже слезла с деревца. Отворачивает лицо. И завтрак испорчен, и радость положить некуда. Ну потихоньку развиднелось потом. Чутко, мягко, бережно, говоришь? Да-да.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































