Текст книги "Улыбка Шакти: Роман"
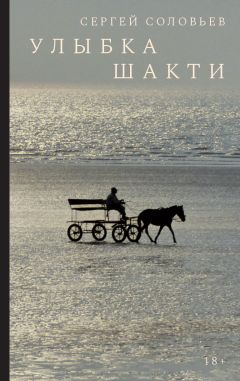
Автор книги: Сергей Соловьев
Жанр: Классическая проза, Классика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Удивительно, но храмов и святилищ тем, кто создал этот мир, так ничтожно мало. Брахме и Шакти. Как и последователей их культов. Все обращено к Шиве, Вишну и другим. Но даже эти ничтожные два-три процента – все ж миллионы. В основном женщины, они в этот день облачаются в красное и желтое и текут в храмы, украшенные, цветочные, огневые – по всей Индии. Складывают в мешочек цветочные лепестки, и подымают его на веревке на храмовый шест, как подымают флаг, и хором поют мантру Шакти – быстрым речитативом, все ускоряясь, взвинчивая темп до скороговорки, и там наверху мешочек должен открыться и просыпаться благим лепестковым дождем.
И тогда они входят в храм, где весь день накануне шли приготовления, где женщины, сидя на полу большим полукругом, создавали божественные цветочные пирамидки с маской Шакти. Храм украшен зелеными ветками, подворье пылает сидящими на земле женщинами и детьми. Но главное происходит в храме у костра, зажженного в большой чаше на полу, вокруг нее сидят особо посвященные и священник, они умащивают огонь, обносят и кормят его с деревянной ложки, льют в него масла и волшебные снадобья, сыплют травы, поют.
Одна из женщин водружает цветочную горку с мурти на голову другой, сидящей перед ней, их руки вступают в замысловатый ритуальный разговор, после чего та встает и мелким танцующим шажком с цветочной горкой на голове отправляется в кругосветное вдоль стен храма, а ее место занимает следующая.
В проеме входа возникает пожилая женщина, впавшая в транс, руки вскинуты над головой, тело ходит ходуном, но замедленно, ломко. Она движется к алтарю, но посреди храма опускается на колени, прильнув к полу щекой, руки ее за спиной продолжают танец. На нее почти не обращают внимания, все поют, восходя к той скорости, когда слова уже неразличимы, но вместе с тем слышишь каждое. И вспоминаешь о спанде, изначальной вибрации мира. О том, что он, как сказано в Ведах, был зачат с голоса.
Поем вместе со всеми, как и они, не произнося звук «ш» и с ударением на последнем: ом, Сакти, ом, Парасакти! А тем временем вдоль стен храма бегут женщины с плодом папайи в руках и затепленным на нем огоньком, и с размаху швыряют его оземь, и плод разлетается, ом, Шакти, ом, но за ней бежит уже другая, и за ней еще и еще…
Когда мы вышли из храма, я увидел в толпе девочку, лет семи, в красном платьице, с белым ожерельем и браслетами. Вернее, еще до того, как увидел, вдруг покачнулся – от света, от чуда, вдруг взявшего мое лицо в свои ладони. И увидел. И тут же потерял из виду. Шел к ней, проталкиваясь сквозь поющий мир женщин, тканей, цветов, огней. И она, увидев меня, медленно привставала. Еще робко и удивленно озираясь по сторонам – к ней ли. И оглядываясь на сидящих за нею женщин, среди которых, наверно, была и ее мать. Я уже недалеко от нее, она стоит напротив, смотрит. Я что-то шепчу, не слыша себя. Может, беззвучное: ом, Шакти, ом, Ты, с которой началось все на свете… Она не слышит, только смотрит мне в лицо – такое, каким оно, наверно, никогда еще не было. И вдруг – нет, не улыбка даже, а что-то совсем невозможное трогает ее губы – такое, от чего мир, не бывший до этого мига, не мог не начаться. Она поднимает руки и, чуть наклонив голову, сводит ладони у сердца.
#24. Почта
– Может, в тир сходим? Как-то мне маятно, шатаюсь по ночам из угла в угол. Вспомнил, как смотрели с мамой про Толстого-американца, ну ты знаешь – бретер, чудак, умница, как-то проигрался в карты – смертельно, отдавать нечем, думал покончить с собой, а жил с цыганкой, она утром выносит ему мешочек денег – на весь долг. Откуда у тебя столько, изумляется он, а она говорит: так ты ж мне давал то и дело, а я припрятывала, откладывала. Вернул он долг и женился на этой цыганке. Во-во, говорю ей, и Люба в Индии так же нас спасала… А она: так ты и женился на ней!
– Я обрадовалась твоему письму, думала уж, обиделся на меня. А накануне снился мне, хорошо очень, только помню, что в конце как-то я, опомнившись, начала тебя уговаривать держаться Таи – и такая фальшь и разлад от этого пошли, что я с досады проснулась. Знаешь, я ведь так и не выправилась, пью таблетки. Они сильно ухудшают память – но только не про Индию, не про нашу Москву, не про дачу, я могла бы часами вытягивать нить за нитью: а помнишь… а то не пойдем в тир, а завернем в гурзуфский бильярд, да? У меня все равно нет шансов у тебя выиграть ни в одну из игр. Разве что – иногда – в любимую, с фантиками на подоконнике. Взрослый, зачем же ты все это с нами сделал, зачем же это случилось с нами, так бесповоротно, так долго, так навсегда. А завтра я проснусь и буду корить себя за эти слова, тебе надо держаться Таи, да.
– Я знаю, как отчаянно трудно вырвались эти слова, вернее, только могу отчасти себе представить. И как они дороги мне – это уж только ты можешь отчасти себе представить. Как все же странно это кривозеркальное отраженье: твое – там, мое – здесь. Но твой компромисс хотя бы оправдан выживанием. В твоем письме все так, кроме «бесповоротно и навсегда». Кто знает, может, мы как-то еще доболеем и выздоровеем друг к другу. Мы и все вокруг. Не кори себя ни в чем и поправляйся. И Лёньку обними.
– Все так. И писем твоих я жду с замиранием сердца, и сержусь на себя за это, но, конечно, ничто никуда не девается, и порой невозможно различить – что реальней: то, что мы проживаем сейчас, или то, что уже прожили или могли бы.
#25. Айяппан
Когда впервые оказались в этих краях, был поздний вечер, вышли на трассе из автобуса во тьму, до Масинагуди было еще десять километров джунглевой дороги через заповедник. Пустынная трасса, ни огня, ни души. Оставалось около получаса до закрытия всех дорог до рассвета. И пока глаза привыкали к темноте, вдруг обнаружили, что перед нами, почти вплотную, давно стоит человек. Шаши, водитель джипа, занимавшийся извозом на этом участке. На лобовом стекле у него было написано: Айяппан.
Наутро проснулись в Масинагуди и пошли в джунгли. Это было в день моего рожденья. Мимо озерца, где потом увидим вышедшую к воде семью медведей-губачей – маму и четырех медвежат. Мимо сторожевой башни, когда в избытке чувств я обнял Таю и начал приплясывать на месте. И уже у самого леса, мимо маленького храма в безлюдье, с затепленными свечами перед нагами с раздвоенными языками.
Лес был сновидческий, с непролазными мирами деревьев – существующих и не, высоковольтно гудящих напряжением сцепившихся и расходящихся жизней, с циклопическими лианами, оплетавшими все, до чего могли дотянуться, с высокими термитниками, словно возведенными джунглевым Гауди, с желтой тигриной травой и павшими тиковыми листьями, истонченными до призрачной измороси, с солнечными полянами, где стояли олени, ударяя копытом о землю при нашем приближении, но еще не решаясь бежать, с чернотой непроглядных зарослей и набухающей в глубине смертью.
Камуфляж, нож на ремне и камера. Долго же ты ждал этого дня. Отводи, отводи потихоньку в сторону всю эту выспренную самонадеянность, эту самозванную речь и все, что как человека тебя без тебя на себе женило. Так ты еще по инерции бубнил от возбуждения и долгой разлуки с лесом, бубнил, продолжая стряхивать очертанья, входя в режим других настроек и чаемого родства с тем, что сторонится нас как существ с точки зрения природы безумных.
Шли мы вдоль лесной речушки, ожидая подарков и поздравлений от братьев наших старших. Ну птицы уже отметились – и павлины, и дронго, и щурки, разные и многие, потом олешки – и пятнистые, и самбары. Гаур вышел, это уже посерьезней. Рога с нефтяным отливом, гольфы белые на ногах, посмотрел внимательно, понюхал воздух над собой и убрел в чащу.
Еще прошли немного и присели у воды. Тишь. Тая прилегла. И вдруг – громкий треск ломаемых ветвей, напротив нас, за речушкой, в зарослях. Страх еще не успел обжиться, лишь прихватил с краю, а перед нами уже стоит мифически огромный одинокий слон с бивнями почти до земли. Стоит и смотрит на нас. Долго, невозможно долго. Спокойно, шепчу Тае, не поворачивая к ней голову, не смотри в глаза ему. Она и не смотрит, лежит лицом в землю, чуть позади меня. А он все стоит, не отводит взгляд. И протягивает хобот в нашу сторону, вбирает воздух. Водит туда-сюда. И медленно погружает хобот в воду, подносит ко рту. Пригубливая, как из ладони. И отпускает воду, как из ладони, стекать вниз. Как это делают индусы, исполняя ритуал речной пуджи. И не сводит глаз. Колеблется, решает. Сканируя тебя этим взглядом всего, послойно – кто ты есть. Тая как-то сдавленно вскрикивает за спиной. Раз за разом. Тише, говорю, не разжимая губ, тише. Черт, вскрикивает она в землю, черт… А он стоит над нами, смотрит. Чуть поворачивая голову влево, вправо. Чтоб разглядеть лучше – краем глаза, в котором, кажется, вся вселенная вместе с нами, сидящими далеко внизу. И тут я замечаю, что у самой земли он держит на весу зеленую ветку, перебирая ее хоботом, как четки. Смотрит – и перебирает. Нас, нашу жизнь, как эту ветку, перебирает – «да» или «нет». А глаза текут, борозды с мутными ручьями, то есть не глаза – железы, как же я не увидел сразу – период гона. Он даже не будет предупреждать, топорщить уши, делать ложную атаку, просто вминает ногой в землю и рвет человека хоботом, как ветку. Два дня назад раздухарившиеся индусы отправились в лес на машине и на въезде ткнулись в стадо слонов, задев вожака. Я слышал, сидя у себя на веранде, его странный, вдруг съехавший на фальцет, трубный рев. Что же в нем происходит и почему он сейчас повернулся вполоборота и не смотрит на нас, не хочет испытывать себя этой болью, памятью, не сдержанной яростью? Стоит. Взвешивает. Как эту веточку. Две наши жизни. И аккуратно кладет их на землю, и исчезает в зарослях.
Вот он какой, день рожденья, веточка-жизнь… Обернулся к Тае. Лицо у нее было все искусано муравьями. И шея, и ниже. Она лежала прямо на их тропе. Это была ее первая встреча со слоном.
Вернулись, разделся, пошел в душ, сидел там голый на голом полу, поливая себя черпаком из ведра, и пел: враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью, куда ж теперь идти солдату… В приоткрытую дверь была видна Тая, она лежала на кровати, разглядывая укусы на руках, а потом подняв их над собой и плавно танцуя ими, сплетая и разводя. И смешно, и горько. А потом мы тысячу лет сплетали и разводили наши тела, неузнанные, как впервые. И к вечеру пошли к пиратам – в нашу едальню под стертой вывеской «Сарасвати».
Нравилась нам эта деревушка Масинагуди, и уже подумывали, не обжиться ли тут навсегда. Особенно увидев у озерца между деревней и джунглями егерскую наблюдательную вышку. Пустынную, заброшенную. Наверху видовая площадка под крышей без стен, метров семьдесят квадратных, под ним – комната с душевой и туалетом, и все это стоит на высоких сваях, где можно обустроить кухню, огородив тростниковым плетнем, а на сезон дождей, когда озеро подходит к дому, переносить кухню наверх, на видовую. Домик стоит на самом берегу, в перелеске, озерцо небольшое, тот берег хорошо виден, там уже заповедник, к воде выходят животные, а слоны ежедневно купаются. Вдали голубые горы плывут и солнце за ними садится.
Вышку эту построил лесной департамент лет десять назад, но не обжил – прибрежная полоса у озера вместе с дамбой принадлежала министерству электрификации, и оно затеяло тяжбу, в которой ни одна из сторон ни к чему не пришла, спорная территория, так и остался домик бесхозен. Вот тут, на видовой, у нас будет огорожена комнатка для гостей, а остальное пространство с топчаном, шезлонгами и кофейным столиком – для разговоров с озером и животными.
Была у меня рекомендация от ЮНЕСКО с красивыми словами и обращением к властям о всяческом содействии. И был у меня проект международного Wildlife-ашрама, лесной обители с семинарами и прочим. Эту затею мы обсуждали с Сурией в его домике в заповеднике Бор. Там же, на его землях, мы и собирались построить этот ашрам. Даже начали, но потом я как-то охладел, поскольку его подход оказался слишком туристическим. А здесь, в этой лесной башне у озера, все могло бы и сбыться. Семинары – время от времени, а между ними – просто жили бы в радость. Оказалось, взять башню в аренду не получится. Но в те дни, еще не зная об этом, мы так счастливо обустраивались там в воображении. Ежедневный наш путь в джунгли как раз проходил через это озерцо, и мы ненадолго подымались на башню с этим дразнящим, щекочущим чувством дома. Дома, которого ей так не хватало, но тогда я это беспечно недооценивал.
Все-то меня в сторону относит, так мы и не дойдем. А шли мы к настройщику чудес. Живет он через дорогу от того неприметного храма Шакти, которого, можно сказать, и нет, кроме нескольких дней в году. Если, немного не доходя до него, свернуть влево, окажемся в маленьком переулке с одноэтажными цветными домиками, входят в них чуть пригнувшись. В первом к дороге живет горе-змеелов Мурли. Из оконца машет рукой его отец и жестами показывает, что сын в лесу ловит змею. Так он сообщает всякий раз, даже когда сын в это время в больнице.
Напротив змеелова живет девочка, которая любит, преодолевая застенчивость, поговорить со мной, она всегда сидит на крыльце в глубине двора – то с книжкой, то с кастрюлей или с шитьем. Думал, ей лет двенадцать, но однажды из двери выглянул бородач в трусах, познакомила с мужем.
Из-за поворота выплывает процессия: впереди музыканты, за ними группа мужчин несет на плечах убранный цветами праздничный паланкин в иллюминации. На храмовый праздник не очень похоже. На демонстрацию, как и на похороны, – тоже. Приближаются, в паланкине – малюсенькая безучастная старушка полулежит с прикрытыми глазами. День рожденья, девяносто шесть ей. Носят по деревне, опыляя округу долголетьем.
На углу растет дерево со сладкими нектарными цветами, там промышляет божье создание, похожее на колибри. Мы всякий раз беседуем, оно подлетает поближе к моему лицу, чтоб лучше слышать, и зависает в воздухе, хотя всем своим видом показывает, что времени у него на меня нет.
Дальше домик, перед которым сидят две кумушки – одна седовласая нечесаная пифия, другая мужеподобная кокетка, сидят молча, глядя в разные стороны, но тесно прижавшись друг к дружке. Коровы прогуливаются, домашние и божьи. Бродяжий осел обходит дома, останавливаясь у каждой двери, собирая дань. Верней, не у каждой, он знает, у кого и когда. Зарыдал вдруг – жалобно, безысходно, и так сердце сжалось у меня, что чуть было рот не открыл, чтоб поддержать его. Тут их небольшое стадо бродяжит от деревни к деревне. А раз в году они идут за десятки километров на хутор, где живет ветеринар, и, если он в отъезде, ждут у ворот, он принимает их, подлечивает, и они уходят на год до следующего освидетельствования.
Почти пришли. У крыльца лежит рыжий пес, свернувшись и положив голову на лапы, а у живота его примостилась наседка, дремлют, то пес приоткроет глаз, пока у нее глаза задернуты, то наоборот.
Вот он, этот дом и крохотный дворик, где годами с утра до вечера сидит на земле полуслепой старик, чинит и настраивает музыкальные инструменты, новые и старинные, которые ему несут люди из ближней и дальней округи. Таблы, вины, фисгармонии. Дважды в день из дома ему выносят еду, он отодвигает инструменты и там же, сидя на земле, обедает. Забора, отделяющего двор от улочки, нет, так что всякий раз, проходя мимо, я здоровался с ним, кивая, он не всегда видел, но как-то чувствовал и поднимал голову, глядя в мою сторону своими волшебными, почти незрячими глазами, о чем я тогда не знал еще.
Со временем мы познакомились ближе, насколько это было возможно без языка, и однажды я пришел к нему с несколькими страничками древней Вишну-пураны в моем переводе. Речь в этих сказаниях идет о сотворении мира. Мы подбирали звук, меняя инструменты, пока не остановились на табле с глухим и гулким, как бы подводным звучанием. И уже начали потихоньку входить в ритм, когда в дверном проеме возникла девочка в длинном полупрозрачном платье из лунного света. Звали ее, как оказалось, Вина. Вина, дочь Брахмы и Сарасвати. Этим же именем Сарасвати, покровительница искусств, назвала и созданный ею музыкальный инструмент. А маму твою, случаем, не Сарасвати зовут? Да, сказала девочка, потупив взгляд. А могла бы ты, пока мы будем читать Вишну-пурану, что-нибудь негромко напевать, дальним фоном, без слов, что-то из давних мелодий, знаешь ли ты такие? Да, кивнула девочка, внучка этого старика. А потом вышел, пригнувшись в проеме, круглолицый усатый сын старика, отец девочки, и присел поодаль с фисгармонией, этим ручным пианино в виде ящика, где одной рукой играют на клавишах, а другой подкачивают воздух, отворяя и прижимая заднюю стенку. Солнце садилось за голубые горы, еще видимые из дворика, по переулку слонялись коровы, в небе кружили аисты-епископы, старик играл на табле, наклонив и чуть отвернув голову, прислушиваясь к звуку. Я читал:
Развертка Брахмы
как Ничто –
в основе мира.
Триединство:
благо, страсть и косность.
Потом самосознанье
приходит в чувства.
Они,
поскольку помнят о творенье,
рождают звук,
пространство создающий.
Пространство,
помня о творенье,
рождает осязанье;
так возникает воздух.
Воздух рождает образ.
Затем – вода и вкус.
Последним – запах,
он – вершина чувств.
Яйцо творенья,
растущее кругами по воде.
Внутри – гора, вокруг – огонь.
В нем – страсть, ведома Брахмой,
творит миры.
Создатель,
круг пройдя,
себя сжигает с миром.
И начинает с чистого листа.
Девочка, одетая в лунный свет, вела какую-то дивную мелодию. Ее отец, глядя на нее, перебирал аккорды. Я и не заметил, как уже давно в дворике, в его теневом углу, сидит Сарасвати. Я продолжал:
А еще сотворил он познавших поле,
это я уже говорил.
А еще – наделенных разумом,
но они – небожители – не размножались;
ни страстей, ни зависти,
ни творческого порыва.
Сдвинул брови:
в гирлянде огня Рудра возник.
И сказал ему Брахма: «Раздвоись
на женщину и мужчину»,
и скрыл себя.
Раздвоил, как сказано,
и еще на одиннадцать разделил
мужчину,
а женщину – не сосчитать.
Существуют четыре гибели:
промежуточная,
преходящая,
абсолютная
и непрестанная.
Яйцо творенья,
растущее кругами по воде.
Внутри – гора, вокруг – огонь.
В нем – страсть, ведома Брахмой,
творит миры.
Мы еще долго сидели в том дворике, пили чай, уже стемнело. С Таей был трудный день накануне, даже переселилась в соседний коттедж. Четыре гибели. Я перебирал, как четки, какая из них наша. Промежуточная. Непрестанная. И еще на одиннадцать разделил. А женщину – не сосчитать. И где она в этот час? Может, платьице шьет в деревне?
Уезжали и возвращались в эту заповедную деревушку Масинагуди, шли месяцы и уже годы. Старик все сидел в своем дворике и понемногу таял, исчезал. И исчез. Когда в очередной раз мы вернулись, его уже не было, дворик лежал пуст и тих. Где ж ты теперь, волшебный старик, настраиваешь инструменты в других мирах?
Место отца занял сын. Но уже не в дворике, а в мастерской, куда надо было подниматься по крутым ступеням между домами. Инструменты громоздились до потолка на стеллажах по периметру, многие были просто свалены на полу. Спросил его о самой древней фисгармонии. Он снял с полки четырехсотлетнюю, вытер пыль, сел на пол, проверил звучание, настроил и заиграл. И лицо у него было таким удивленно-лучезарным, и взгляд обращенный куда-то поверх и вдаль, будто там сейчас сбываются все его детские сны. И не только во время игры, так он и жил и с людьми разговаривал. И со мной, хотя слов английских у него было, как у ребенка.
Сидит, играет, и тут в двери появляется гость. Худощавый, высокий, в белом до пят облачении. Они знают друг друга. Он профессор музыки в Майсуре. Привез какую-то особую фисгармонию, что-то со звуком, надо наладить. Пьем чай. Я спрашиваю о древних народных песнях на тамильском языке. Гость обходит развал инструментов и берет простенький неказистый барабан, размером чуть больше ладони. Для игры одной рукой, так я думал. Пробует звук, поднеся к уху. Сын старика улыбается и кивает. Они садятся напротив друг друга. Один с фисгармонией, другой с этим детским барабанчиком. Они никогда прежде не играли вместе. Песня про Айяппана, говорят они и хотят пояснить мне, кто это. Я знаю, говорю. Бог Айяппан, рожденный двумя мужчинами – Шивой и Вишну. Они улыбаются, рады, что объяснять не надо, перешли на тамильский. А я сижу, вспоминаю, как в прошлом году мы с Таей тут жилье искали, и на какой-то завалинке с которым уж за эти дни домовладельцем разговариваем о том о сем, и как-то свернули в сторону этого чудесного ежегодного праздника в январе, когда десятки миллионов мужчин облачаются в черный с голубым шафран и уходят из дому, покидая своих жен и детей, и таким вот веселым кочевым братством отправляются на целый месяц в паломничество по святым местам, а потом возвращаются из странствий с сундуками историй и гостинцами для семьи и родственников. Это праздник Айяппана, или, как еще его называют, Айяппы. И вот мы пытаемся припомнить – чей же он сын? Шивы? Третий сын его? Потому что первых двух знаем. А напротив нас баньян растет, а вдали по улочке между мазанок идет женщина в полыхающем красном и зеленом, и он кричит ей на всю деревню: Амала, хэй, Амала, как их сына зовут, ты не помнишь? Какого сына, смеется она, твоего? Не, Амала, сына Шивы и Вишну, того сына, который демона зарубил, демона… черт, как же того демона звали, а, Амала? – и уже сам смеется. А та идет, приближаясь и рассказывая в голос во всю ивановскую эту историю про Айяппана, и заливается от смеха.
Да, великий демон… Черт, и я забыл его имя. Тот, с которым уже никто не мог справиться, сказал, что сокрушить его сможет лишь дитя. Но не обычное, а дитя, рожденное двумя богами мужского пола – Шивой и Вишну. То есть никогда этому не бывать, как он думал. Но они сделали это! Вишну принял облик прекрасной Мохини – иллюзорной богини-обольстительницы, и Шива воспылал к ней, и родили они Айяппана, который и сокрушил демона, и стал потом Параматмой, олицетворяющим гармонию мира. Айяппану поклоняются в основном на юге Индии, к его главному храму в Керале в дни праздника текут миллионы паломников.
И вот сидят они посреди всего этого рабочего развала – инструментов, банок с клеем, краски, ножей, струн, козлиной кожи, подноса с чаем, печенья. Входит девочка, не дочь, другая, странненькая, рослая, с коленями внутрь, в каком-то несуразном платье, больше похожем на выкройку, и заторможенным взглядом уставилась в какую-то точку над нашими головами. Сын старика, не глядя на клавиши, окунает в них ладонь так, будто ловит там скользкую рыбу в воде. Гость, держа на весу крохотный барабан в одной руке, кинулся к нему пальцами другой, и не сосчитать уже, сколько их – то два, то сорок, они трепещут, стелются, взлетают, когтят и, вдруг отшатываясь от себя, возвращаются в обычные пальцы. Сын запевает: Айяппа, Айяппа, – с ударением на последнем. Голос его – сильный, открытый, – казалось, оборачивался то птицей, то ножом, рисовал ночные дороги, где горели костры, всходили и нисходили боги, майя и лила играли в мужчин и женщин. Голова его чуть запрокинута, голос шел из улыбки, как из открытой раны. Было не больно, а невыносимо светло.
Двое мужей. Лотос мира и вселенский лингам. Равновесие и трансгрессия. И демон, сводящий их. Через Мохини, обольщение, майю. Ту, что живет в Вишну. И великий аскет признает себя побежденным. Любовью, влеченьем, иллюзией. И рождается дитя малое, и тигры перед ним мирно лежат с молодыми козами…
Год спустя Тая купила у сына настройщика чудес фисгармонию для своей дочери, учившейся в Гнесинке. Завернула в шаль, обвязала и полетели. В аэропорт вез Шаши, рассказывал, поглядывая на нас в зеркальце, о своем недавнем путешествии, как дни и ночи шел с тысячами паломников по джунглям к храму Айяппы, куда лесники открывают доступ лишь раз в году, как они спали вповалку на обочинах. Мы сидели на заднем сиденье, молча, с фисгармонией и незримой Мохини между нами.
Не было меня в той машине. Мы простились в деревне, она летела в Москву подавать документы на переезд в Испанию. Бог весть, увидимся ли.
Она уже в небе, наверно. А я шел с фонарем вечерними переулками и вспоминал, как возвращались с ней из Индии, летели до Стамбула, где у нее была пересадка в Мадрид и Севилью, а у меня в Мюнхен. Отношения закончены. Сидели в разных рядах. Ночь в иллюминаторе. Слова, мысли – бесчувственны, как под анестезией. Подошел к ней, она полулежала с закрытыми глазами, откинувшись в кресле. Живая посмертная маска. Присел на корточки рядом в проходе. Смотрел на ладонь, на дыханье груди под пледом, на уголок губ. Она не спала. Займите свое место, повторяла, проходя, стюардесса, мы в турбулентной зоне.
А потом в Стамбуле возле какого-то кафе вдруг обнаружили себя тихо покачивающимися в объятьях друг друга. Люди текли, огибая, спеша, а мы все покачивались в этом танце, почти на весу, чуть касаясь губами друг друга. Шли часы, незаметные. Самолет мой давно улетел. И ее, если бы не задержка. Так и остался на столике ею подаренный мне смартфон со всей нашей Индией номеров. Смартфон и две чашки кофе, нетронутых.
#26. Сарасвати
Изгородь, повилика, бегущая по ограде, горный цветок… Где ж это место?
да когда я приколола в волосы розу как делают андалузские девушки или алую мне приколоть да и как он целовал меня под Мавританской стеной и я подумала не все ли равно он или другой и тогда я сказала ему глазами чтобы он снова спросил да и тогда он спросил меня не хочу ли я да сказать да
Да. И горькие апельсины падают на мостовую. И цыгане идут из Индии на заре веков – туда, в Аль-Андалус, в Севилью, где все смешается – римляне, мавры, вестготы, цыгане, Магеллан и Веласкес, Жуан и цирюльник, горькие апельсины… Она – туда, а я здесь.
Можно выдохнуть. И потихоньку возвращаться в себя. Дни я проводил в джунглях, а к вечеру шел в едальню Сарасвати, находившуюся у деревенской площади возле автобусной станции. Жаровня, выходящая на улицу, несколько столов в глубине зала с мятыми обшарпанными стенами, ламповый телевизор, индийские боевики с кровью-любовью. Тая пишет, что уже в Москве, собирает документы для испанского консульства. Присел, заказал жареные кусочки курицы «чикен-65» и ги-досу. Простую, без начинки, на топленом масле. Принесли, свернув, как для меня, этот румяный хрустящий лист в конус. Красиво, светоносная пирамида на зеленом банановом листе. Налил стакан воды из кувшина, бог весть откуда набранной, но местные пьют, значит, можно.
Ел и думал. О Севилье. После развода Тая почти случайно оказалась там, одна, впервые, и как-то сразу сроднилась с этим городом. И по душе он был ей, и по телу – она и в самом деле похожа была на него, и волосы тогда у нее были еще темными. Не раз возвращаясь туда, снимала жилье и уже начала подумывать о переезде. Тем более, что, получив свою долю при разводе, могла там купить небольшой дом. В ту пору мы и встретились. И отправились в Индию.
Обычно досу подают свернутой в рулон. Делают ее из рисовой муки пополам с чечевичной, заливают водой, настаивают, взбивают, ставят в тепло на полдня и пекут, как русские блины, заливая тонким слоем на раскаленный противень. А когда подрумянится, в середину кладут готовую овощную начинку, но можно и без – девственницу, что и заказал. Подают с чатни – соусами в маленьких железных плошках. Сегодня кокосовый и луковый с кари.
И наконец купила. В тихом районе за рекой. Долго длилось. Я хотел помочь, чтобы вместе – выбирать, советоваться, решать. Но как-то все у нас с ней через полуприкрытую дверь. Вроде бы вот мы, вместе, но только здесь, на этом малом пространстве между нашими жизнями, между, а за спиной у каждого – своя. Не в прошлом своя, а сейчас. И оба хотели бы, чтобы не так это было. И делаем шаг, руку протягиваем – то она, то я, но или не вовремя, или не так, не в ту сторону.
Не надо бы это трогать сейчас. Лучше ешь свою досу. С нуриевским танцем пальцев в мирах подливки, чтоб задышала жизнь в этом… явлении досы народу. Чтобы между тобой и едой возникла драма рая ваших с ней отношений. Ей ведь, этой досе, несколько тысяч лет, чуть моложе тебя, но все же. Сколько ж она навидалась, пережила за свою жизнь, и вот вы сходитесь, это миры ведь сходятся с их историей встреч и утрат. Здесь, под пальцами, чтоб сроднились…
Вот именно. Одной рукой звала, чтобы помог, чтобы вместе, чтобы жить, а другой отстраняла: это мой выбор, мой дом, моя жизнь.
Ночью слон приходил под окна, ел фасоль в огороде, я на веранде стоял, с мамой разговаривал по телефону. Я здесь, она в Мюнхене, восемьдесят семь лет ей. Подожди-ка, говорю, тут слон пришел. Положил мобильный, свечу фонарем: ба, какие гости! Ходит по домам, как участковый врач, слушает деревья своим фонендоскопом, как тот доктор горящую от стыда и озноба Кити. А сосед, брат Прабы, в окно увидел, и уже бежит с факелом, хэй, хэй, кричит, гонит его, тут и Праба на помощь выскакивает из темноты, слон отступает и вдруг разворачивается и атакует их, я с верхней веранды фонарем свечу, а они так разогнались, не могут остановиться, брат поскальзывается и падает в ров. Ложная атака. Слон, не добежав до них несколько шагов, снова развернулся, бежит и исчезает во тьме. Вспомнил о телефоне, мама там ждет ни жива ни мертва. Спустился потом к дороге, сидят два брата в темноте. Тот, что свалился, весь в крови, стекло и проволока во рву были, надо в больничку его, рваные раны, зашить бы, но машет рукой – завтра, сейчас никого там нет.
Я не раз приезжал к ней в Севилью. Жили. Долго, недели. И когда шел ремонт и ютились в углу на циновке, и потом, когда обустроилась по образу и подобию, хотя несколько тревожно и неуверенно поглядывая на этот домик – маленький, полупустой, в зеркальных поверхностях, похожий на нору, которая заканчивалась тупиком, без окон. Домик, стиснутый с трех сторон соседями – стенка в стенку так, что слышны были вздохи. А с четвертой – маленькое патио с калиткой, голое, где ты отовсюду виден – с улицы и с боков. А на втором этаже – престарелая чета: Алиса со слепым Базилио, под руку выходящие из дома и одновременно входящие в него, будто не двое их, а бог весть. С ней по-испански, со мной по-немецки. И дни напролет праздно насвистывающий пенсионный Педро в соседнем патио. Район Франко, где осели тихие ветераны тех времен.
Муэдзин запел с минарета. Любят они меня – только сяду поесть, и начинается. Все вперемеж тут, тигры, медведи, Шива, Будда, Аллах, Айяппан… Разве что христиане несколько выпадают из этой картины. Повар у плиты готовит новую досу, она румянится, сворачивает в свиток. Свиток санскрита. С хрустящей звукописью, для внутреннего чтения.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































