Текст книги "Искусство жизни: Жизнь как предмет эстетического отношения в русской культуре XVI–XX веков"
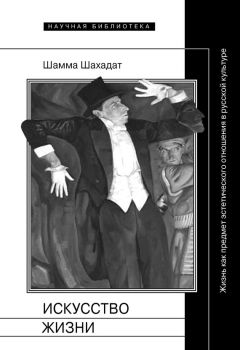
Автор книги: Шамма Шахадат
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Первым из символистов на преображающую силу театра обратил внимание Дмитрий Мережковский в своей речи 1902 года «О новом значении древней трагедии»[141]141
Подробнее см.: Stachorskij, 1995, 30.
[Закрыть]. Однако решающая роль в развитии символистской идеи жизнетворчества принадлежала Вячеславу Иванову, его статьям на тему дионисийства и античной трагедии[142]142
Мурашов (Murašov, 1999) рассматривает культ Диониса у Вячеслава Иванова как пример переосмысления мифа в эпоху модерна. Свою задачу исследователь видит в том, чтобы показать, как «на основе обращения к определенным дионисийским мотивам формируется отношение между дискурсом и нарративом, репрезентацией и коммуникацией, устным и письменным высказыванием» (Там же, 19). Взгляды Иванова на театр Мурашов верно характеризует как «воображаемый литературный проект с размытыми и неопределенными границами между археологическими и историческими размышлениями, между историей театра Нового времени и религиозно-утопическим визионерством» (Там же, 140).
[Закрыть], хотя дионисийская мистерия, о которой мечталось Иванову, никогда не была воплощена в художественной практике символизма.
Наиболее влиятельным из теоретических требований Иванова явилось устранение рампы, отчасти реализованное уже в условном театре Мейерхольда, а затем, еще решительнее, в массовых революционных спектаклях, благодаря которым искусство вышло на городские площади[143]143
Мейерхольд преследовал иную цель, чем Иванов – ему важен был зритель, сознательно участвующий в театральном творчестве: «Условный метод, наконец, полагает в театре четвертого творца, после автора, режиссера и актера – это зритель. Условный театр создает такую инсценировку, при которой зрителю приходится своим воображением творчески дорисовывать данные сценой намеки. Условный театр таков, что зритель “ни одной минуты не забывает, что перед ним актер, который играет, а актер – что перед ним зрительный зал, под ногами сцена, а по бокам – декорации”» (Мейерхольд, 1968, I, 141 и далее; выделено в оригинале. Мейерхольд цитирует из адресованному ему письма Леонида Андреева). В отличие от Мейерхольда, Иванов стремился к тому, чтобы погасить зрительское сознание, погрузить зрителя в состояние опьянения.
[Закрыть]. Требуя устранения рампы, Иванов нарушал непреложный закон театра, нуждающегося в зрителе; тем самым он сделал первый шаг к детеатрализации театра. Позднейшие авторы футуристической драмы и создатели революционного театра масс развили эту идею Иванова, но уже вне того мистико-теургического контекста, который был столь необходим их предшественнику.
Синтетическая драма, как называет Иванов пропагандируемый им «театр будущего», была призвана отменить дифференцию искусства и жизни путем эвокации дионисийского экстаза[144]144
Как показал Мурашов (Murašov, 1999, 141 – 150), важным элементом, способствующим подобному переживанию, является маска, которая «функционирует не столько как театральное средство переоблачения и перевоплощения, сколько как магический знак причастности, необходимый для установления контакта», о чем свидетельствует, в частности, связь маскарада с праздником почитания мертвых.
[Закрыть]. С 1904 года Иванов начинает регулярно размышлять и писать о театре будущего, сначала в эссе «Новые маски» (1904), где он отказывает современному театру в способности вызывать эффект преображения и впервые высказывает надежду на театр будущего[145]145
«Старая сцена почти уже не “заражает”, – и, главное, не преображает зрителя; а драма становящаяся ‹…› дала намеки на возможность театра как арены целостных и проникновенных душевных переживаний и кризисов ‹…› (Иванов, 1974, II, 76; выделено в оригинале).
[Закрыть], чуть позднее, но в том же 1904 году в статье «Ницше и Дионис». Дионисийским художником par excellence Иванов провозглашает здесь Вагнера, вписывая его в традицию, идущую от Ницше, что в дальнейшем вызывает дискуссию на страницах журнала «Весы». Макс Хохшюлер[146]146
Один из псевдонимов Блока. См.: Bartlett, 1994, 127 и далее.
[Закрыть], автор «Письма из Байрейта», подвергает сомнению дионисийский характер творчества как Вагнера, так и Ницше, предпочитая рассматривать то и другое в контексте аполлонической традиции[147]147
См.: Bartlett, 1994, 127 и далее.
[Закрыть]. Иванов отвечает ему статьей «Вагнер и Дионисово действо» (1905), где, во многом соглашаясь со своим оппонентом[148]148
См. письмо Иванова Брюсову от 19 октября 1904 года (Брюсов, 1976а, 463 и далее).
[Закрыть], модифицирует свой тезис в том смысле, что искусство Вагнера явилось лишь исходной точкой в движении к дионисийской драме как «синтетической мистерии»[149]149
«Но Вагнер был только зачинатель. Аполлоново зрительное и личное начало одержало верх в его творчестве, потому что хор был лишь первозданным и не мог действенно противопоставить самоутверждению героев-личностей свое еще темное и только страдательное самоутверждение» (Иванов, 1974, II, 84). Далее Иванов упрекает Вагнера в том, что он недостаточно вовлекал в свое синтетическое произведение речь и танец. См. дискуссию о Вагнере в журнале «Весы». См.: Bartlett, 1994, 126 – 130.
[Закрыть].
Продолжением этих раздумий явилась работа Иванова «Предчувствия и предвестия. Новая органическая эпоха и театр будущего» (1906), сочетающая в себе черты культур-философской утопии, эстетического манифеста и своего рода инструкции по претворению теоретических требований нового искусства. Повторяя ключевые концепты своих предшествующих эссе, Иванов обобщает их под девизом «театр будущего» и выдвигает фундаментальные принципы будущей синтетической драмы: катарсис, дионисийский миф, соборность, мифотворчество.
Предпосылкой театра будущего Иванов считает поэзию символизма, пророчески предвещающую переход от «критической» к «органической» эпохе в культуре человечества. Главный признак новой эпохи заключается, по Иванову, в ее цельности, предполагающей синтез искусства и жизни[150]150
Этот постулат связан с символистской критикой романтизма, которому ex negativo противопоставляется новое искусство, понимаемое как «пророчество»: «В миросозерцании романтика не жизнь, новая и неведомая, противостоит живой действительности, но жизни противостоят сновидения, “simulakra inania”» (Иванов, 1974, II, 88). Более точную формулировку принципа преодоления разрыва между искусством и жизнью Иванов дает со ссылкой на Ибсена: «Ибсен ‹…› пророчил, что красота вся станет жизнью и вся жизнь – красотой» (Там же, 89).
[Закрыть], индивидуальной свободы и общественной «соборности»[151]151
«Мистический сверхиндивидуализм перебрасывает мост от индивидуализма к принципу вселенской соборности» (Иванов, 1974, II, 103).
[Закрыть], искусства и общества[152]152
В разделе XVI эссе Иванова, где художественная функция хоровой драмы рассматривается в связи с ее общественной функцией, Иванов называет хоровую драму «внутренним делом общины» и продолжает: «И только тогда, прибавим, осуществится действительная политическая свобода, когда хоровой голос таких общин будет подлинным референдумом истинной воли народа» (Иванов, 1974, II, 103).
[Закрыть]. Целью нового искусства, активного и творческого, Иванов провозглашает преображение личности и народа:
Если постоянный помысел о том, что лежит за гранью непосредственного восприятия, за естественным кругом созерцаемого феномена, отличителен для современного символистического искусства, в особенности же если наше творчество сознает себя не только как отобразительное зеркало нового прозрения – ясно, что оно, столь отличное от самодовлеющего и внутреннего уравновешенного искусства классического, представляет собой один из динамических типов культурного энергетизма
(Иванов, 1974, II, 86 и далее).
Символизм понимается Ивановым как искусство, преступающее свои границы; оно призвано не отображать жизнь, а вести к ее изменению.
Жанр, в котором задачи и возможности символистского искусства достигают своей наиболее полной реализации, Иванов называет хоровой драмой (также синтетической, или дионисийской). Исходя из убеждения в том, что переживание, вызываемое произведением искусства, имеет не столько когнитивный и эстетический, сколько психологический, аффективный характер[153]153
Иванов называет формы современной драмы, обнаруживающие ту динамику, которой он требует для драмы хоровой, и упоминает, в частности, «реалистический театр»: «Цель зрелища не столько эстетическая, сколько психологическая; потребность сгустить всеми переживаемое внутреннее событие – “жизнь”; это уже почти дионисийский трепет и “упоение на краю бездны мрачной”» (1974, II, 95).
[Закрыть], Иванов сводит смысл театра к коллективному катарсису и требует, чтобы театр стал храмом[154]154
Концепция театр-храм, с наибольшей отчетливостью и наибольшим пафосом представленная Ивановым, получает в начале века широкое распространение. Мережковский пишет о возрождении религиозного театра в связи с премьерой в 1902 году трагедии Еврипида «Ипполит» в Александринском театре; Розанов также оценивает этот спектакль как литургию и возврат к античному богослужению (см.: Stachorskij, 1995, 30); Волошин проводит в своей книге «Лики творчества» различие между литературной драмой и «театром», имеющим задачу «творить сновидения своих современников и очищать их моральное существо посредством снов от избытка стихийной действительности» (Волошин, 1988, 116), то есть подменяет подчеркиваемое Ивановым религиозное значение театра значением психологическим (см.: Stachorskij, 1995, 33). У Георгия Чулкова концепция театра-храма переосмысляется в социальном плане: «Он представляет себе общество будущего в виде коммуны или общины, члены которой связаны между собой одним религиозно-эстетическим опытом. Средоточием общинной жизни является, по его мнению, театр-храм» (Stachorskij, 1995, 33). Все названные модели предусматривают «преобразование жизни» (Там же, 34).
[Закрыть]. Цель и назначение трагедии – вызывать катарсис:
Ведь еще древние говорили об «очищении» (катарсисе) души зрителей как о цели, преследуемой и достигаемой истинной трагедией
(Иванов, «Предчувствия и предвестия», 1974, II, 93).
Осмысление катарсиса как события жизнетворческого проистекает у Иванова из его трактовки античной трагедии. По мысли Иванова, она представляет высшую, идеальную форму искусства, ибо обладает способностью творить миф и творить жизнь. Преображающая сила присуща ей потому, что она родилась из дионисийского культа, сущностью которого является экстаз, экстатическое переживание, конвергирующее с христианским переживанием священной жертвы, страдания и смерти как условия воскресения[155]155
См.: Langer, 1990, 78.
[Закрыть].
Бога страдающего извечная жертва и восстание вечное – такова религиозная идея Дионисова оргиазма
(Иванов, «Ницше и Дионис», 1971, I, 718).
Но, по Иванову, Дионис не языческий антипод Христа, как было это у Ницше[156]156
На символистское переосмысление ницшеанства в свете христианства не раз указывалось в литературе вопроса (см., например: Дешарт, 1971, 61; Paperno, 1994, 18). Я опираюсь в основном на работу Лангера (Langer, 1990, 78), который указывает на то, что в «Ecce homo» Ницше «противопоставлял Диониса Распятому». Мурашов отмечает в связи с Вагнером и Ницше сходство Диониса с Эдипом, причем если в западноевропейской традиции толкование дионисийского мифа характеризуется, по мнению исследователя, «единством и внутренней идентичностью», то у Иванова он видит «удвоение нравственного существования» (Murašov, 1999, 182).
[Закрыть]; в образе страдающего Бога, созданном русским поэтом, языческие элементы вступают в сочетание с христианскими. Жизнетворчество мыслится Ивановым как акт imitatio Christi, и Дионис как предтеча Христа вносит в этот акт новый аспект – в дионисийском переживании смерть и воскресение бесконечно повторимы. Тем самым и искусство, прежде всего драматическое, и в особенности трагедия приобретают функцию постижения высшей реальности, realiora бытия; искусство обладает «преображающей силой нового прозрения» (Иванов, «Предчувствия и предвестия», 1974, II, 87):
Драма ‹…› представляет собой действующую энергию, направленную не к тому только, чтобы обогатить наше сознание вселением в него нового образа красоты как предмета безвольных созерцаний, но и к тому, чтобы стать активным фактором нашей душевной жизни, произвести в ней некоторое внутреннее событие
(Там же, 93).
В катарсическом переживании драма утрачивает свою знаковую природу. Концентрируя внимание на переживании смерти и воскресения, Иванов ставит перед театром задачу абсолютной соматизации театрального события по образцу литургии, где «каждый участник литургического хоровода – действенная молекула оргийной жизни Дионисова тела» (1974, II, 93). Литургия, на которую ссылается Иванов, не вполне соответствует православному канону, она смещена в сферу дионисийства. Согласно Иванову, театральный зритель, становясь участником трагического хора, причащается божественного тела, совершает обряд евхаристии. Лик божества просвечивает сквозь тело, точнее сквозь маску зрителя, вовлеченного в дионисийскую оргию (Там же, 94).
Как указывает Райнер Грюбель, различие между первичным архаическим ритуалом и вторичной по отношению к нему церковной литургией заключается в том, что в последнем случае полнота телесного и духовного присутствия замещается воспоминанием и воображением (Grübel, 1994, 114). Именно так соотносятся между собой ритуал и богослужение в трактовке Иванова. Древний ритуал – историческая модель синтетической драмы – не знает еще разрыва между сигнификантом и сигнификатом, словом и вещью[157]157
Эта ретроспективная утопия семиотического рая, в котором вещи и слова тождественны, представляет собой типически символистскую фантазию; она встречается не только у Иванова, но и у Блока, в особенности в его статье «Поэзия заговоров и заклинаний» (1906), где народной поэзии приписывается единство слова и вещи и перформативность речи, делавшей излишним само действие. К статье Блока в связи с метафорой ткани и ткачества в его стихах см.: Erika Greber, 2002, 232 – 235.
[Закрыть]. Участник древнего дионисийского хоровода является частицей божественного тела. Но в ходе дальнейшего развития театра, по мере перехода от драмы к зрелищу наступает некий переломный момент, когда маска становится плотью, то есть Бог сходит со сцены и его место занимает человек[158]158
«Маска актера уплотняется, так что через нее уже и не сквозит лик бога оргий, ипостасью которого некогда был трагический герой: “маска” сгущается в “характер”» (Иванов, 1974, II, 94).
[Закрыть]. Хоровая драма отличается от зрелища именно тем, что маска еще не отсылает здесь к другому, она лишь маскирует присутствие божества, являющего себя в коллективном теле актеров. Отсюда следует, что после того, как изначальное единство Бога и участника ритуального действа было утрачено и божественное присутствие перестало ощущаться непосредственно, наступает час возрождения хоровой драмы – вторичной жанровой формы, предназначенной, подобно церковной литургии, воссоздать в памяти человека образ и чувство утраченного единства с Богом[159]159
Значение литургии в рамках концепта Gesamtkunstwerk, т. е. эстетический аспект литургии у Гоголя, Федорова, Соловьева и Флоренского, отмечает Грюбель (Grübel, 1994, 107 – 125). Подробнее о литургии у Гоголя см.: Susi Frank, 1999, 294 – 326, указывающую на два толкования литургии, которые могли служить претекстами для Гоголя, – «Новую скрижаль» (1803) патриарха Вениамина и «Историческое догматическое и таинственное изъяснение на Литургию», сочиненное коллежским асессором Иваном Дмитревским в 1804 году. Вениамин исходит из того, что литургия призвана вызывать воспоминание о пути Христовом, Дмитревский, напротив, делает акцент на аспекте communio, выдвигает в центр литургии евхаристию. Гоголь, кажется, склоняется к первому из этих толкований, однако его собственные «Размышления о божественной литургии» представляют собой квазилитургический, то есть перформативный текст (298). У Грюбеля толкованию, опирающемуся на идею воспоминания, соответствует вторичная религиозная литургия, тогда как толкованию, основанному на принципе communio, – литургия первичная, архаическая. У Иванова обе линии сливаются в одну: толкование по принципу communio, предполагающее всю полноту присутствия божества в мире, мыслится Ивановым как утраченный идеал, а путь воспоминания – как возможность его возрождения.
[Закрыть].
Наряду с катарсисом – ключевым понятием концепции хоровой драмы – театр будущего нуждается, по мнению Иванова, в опоре на миф и на символ как на ядро, из которого произрастает миф[160]160
Известное высказывание Иванова гласит: «К символу же миф относится, как дуб к желудю» («Поэт и чернь», 1971, I, 714).
[Закрыть]. Понятия «символ», «миф» и «драма» рассматриваются Ивановым в неразрывном единстве. Символ является для него ядром мифа, представляющего сверхиндивидуальное выражение народной души и находящего свое воплощение в синтетическом искусстве хоровой драмы. Под мифотворчеством Иванов подразумевает «адекватное воссоздание единства, тайно пронизывающего множество явлений» (Langer, 1990, 107). В этом единстве заключена тайна мира, его подлинная сущность, и задача драмы состоит в том, чтобы сделать возможным ее постижение. Постигается же она в образах всенародного коллективного мифа, который Иванов резко противопоставляет ложному индивидуальному личному мифу поэта. Мифотворчество, как и катарсис, мыслится у Иванова как акт коллективный. Эту утопию он развивает в статье «Поэт и чернь» (1904), в которой призывает преодолеть современный разрыв между поэтом и толпой. Осуществить эту задачу призвана поэзия символизма; она должна вернуть забытый миф народу и заново пробудить в нем способность к мифотворчеству[161]161
Позднее, в статье «Две стихии в современном символе» (1908), он, однако, переоценивает роль художника в этом процессе: художник ведет за собой народ к постижению мифа, и его функция – функция избранного. Но в контексте наших рассуждений важнее аспект коллективности. Следует лишь подчеркнуть, что приблизительно с 1908/1909 годов драма приобретает у Иванова новое значение: это уже не модель художественного творчества, а воплощение женственного начала в мире (см. подробнее: Langer, 1990, 108 и далее). Как начало женственности драма включает мотив рождения, и в эссе «О существе трагедии» (1912) Иванов формулирует новую оппозиию – монада vs. диада. Если Аполлон, бог формы, структуры и единства (Иванов, 1974, II, 191), представляет искусство монады, то Дионис, бог экстаза и разрыва, приносит единство в жертву двойственности, принципу диады. Трагедия, искусство дионисийское, по Иванову, женственно. В его двойственности и в его женственности оно есть искусство становления и преодоления смерти: «Целью искусства диады будет показать нам тезу и антитезу в воплощении; перед нашими глазами развернется то, что Гегель назвал “становлением” ‹…› Разрешение изображаемого процесса должно заключиться в снятии, или упразднении, диады. Поскольку последняя будет представлена в искусстве живыми силами, воплощена в личностях, – упразднению подлежат, следовательно, они сами: им надлежит совлечься с себя самих, стать по существу иными, чем прежде, – или погибнуть» (Там же, 192).
[Закрыть].
Отвергая индивидуалистическую концепцию раннего символизма[162]162
См.: Hansen-Löve, 1989, 103 – 132.
[Закрыть], Иванов призывает к «большому, всенародному искусству» (1974, II, 90), воплощением которого должна стать хоровая драма или трагедия (91). Театр будущего рассматривается Ивановым как «орудие мифотворчества» (100), а поскольку трагедия несет в себе силу преображающего воздействия, мифотворчество означает у Иванова одновременно и творчество жизни, жизнетворчество.
Детеатрализация театра осуществляется Ивановым двумя путями; во-первых, путем снятия границы между зрителем и сценой[163]163
О детеатрализации театра у Иванова пишет Клеберг: «The fact that the elimination of the border between stage and audience, in principle, implied the elimination of theater as such did not occupy Ivanov» (Kleberg, 1984, 60).
[Закрыть], во-вторых, путем отрицания в театральном искусстве его знакового характера, то есть на основе его десемиотизации, означающей вместе с тем его соматизацию (или, с точки зрения самого Иванова, его ресоматизацию)[164]164
Противоположным путем идет Mейерхольд с его идеей ретеатрализации. К сопоставлению этих противоположных проектов (упразднение театра у Иванова и перевод литературных текстов в сферу театра у Мейерхольда) (см.: Мораньяк, 1955; о ресемиотизации театрального знака в театре Мейерхольда см. главу II, 2 настоящей работы).
[Закрыть]. Театральный знак характеризуется тем, что он не только отображает, но и предполагает момент рефлексивной дистанции; Иванов же противопоставляет отражению воссоздание, рефлексии – оргиастический экстаз. Выстраивая театральную модель жизнетворчества, Иванов разрабатывает эстетику воздействия, обращается к тем формам репрезентации значений, которые направлены на возбуждение аффектов, – к синтетической драме Вагнера, дионисийской мистерии Ницше и церковной литургии[165]165
Западноевропейским аналогом (хотя уже в ином, не символистском контексте) ритуального, обращенного к аффектам театра, о котором писал Иванов, является театральная программа Антонена Арто, который также подчеркивает момент воздействия на зрителя. По мнению Арто, театр призван «перемалывать и гипнотизировать душу зрителя, вовлекая его в ураган высших сил, возбуждать его чувства посредством картин жестокости и насилия. ‹…› Повергать его в состояние транса, как пляска дервишей» (Artaud, 1978, 80). Транс, о котором пишет Арто, имеет ту же функцию, что и катарсис у Иванова; в том и другом случае речь идет о стратегии спасения человека эпохи кризиса культуры, в том и другом случае эта стратегия предполагает обращение к архаике – Иванов обращается к дионисийским обрядам, Арто – к «магическому высвобождению реальной энергии» по образцу «Манаса» (217). О ритуальной магии в понимании Арто см.: Fischer-Lichte, 1997, 189 – 204.
[Закрыть].
В отличие от Иванова, Блок выдвигает в центр своих размышлений о театре не коллектив, а отдельное лицо, представителя интеллигенции, чей духовный мир подлежит преображению. И если Иванов оперирует понятиями и образами, ведущими свое происхождение от античной классики (катарсис, страдающий бог и т. д.), то Блок опирается на символистскую метафорику любви.
В трактате «Опера и драма» Вагнер указывал на свойство драмы переключать субъективный опыт индивида в область объективного и всеобщего:
Лишь в самом совершенном из произведений искусства, в драме, созерцание и выражение опыта достигают абсолютного успеха, именно потому, что драма, объединяющая в себе все возможности художественного самовыражения человека, наиболее совершенным образом переводит замысел поэта из сферы рассудка в сферу органов непосредственного чувственного восприятия
(Wagner, 1994, 215; выделено автором).
В лексике Вагнера (рассудок, чувство, органы чувственного восприятия) дает о себе знать естественно-научный оптимизм XIX века с его верой в объективную реальность. Тем не менее его трактат может рассматриваться как один из претекстов критической прозы Блока на тему театра. Позитивистские формулировки Вагнера Блок переводит на язык мистико-мифологического сознания. Вагнеровская дихотомия «субъективное – объективное», как и «опыт – восприятие», возвращается у Блока в форме противопоставления внутреннего внешнему, слова – плоти. Выступая в обрамлении метафорических образов зачатия и рождения, эти оппозиции подводят нас к самому существу театральной проблематики Блока – к вопросу о преображающей власти театра, способного внутреннее обратить во внешнее, сделать слово плотью, совершить акт рождения и творчества[166]166
«Ибо театр – это сама плоть искусства, та высокая область, в которой “слово становится плотью”‹…› Именно в театре искусству надлежит столкнуться с самою жизнью» (Блок, 1960, V, 270).
[Закрыть].
Объектом и целью преображения является человек. По мысли Андрея Белого, ближайшего друга и интимнейшего врага Блока, таков прежде всего человек-художник. В статье 1907 года «Будущее искусство» Белый писал:
Мы должны забыть настоящее, мы должны все снова пересоздать: для этого мы должны создать самих себя ‹…›. Вот ответ для художника: если он хочет остаться художником, не переставая быть человеком, он должен стать своей собственной художественной формой. Только эта форма творчества еще служит нам спасением. Тут и лежит путь будущего искусства
(Белый, 1994, I, 248).
Лишь в таком случае художник может, по мысли Белого, оказать влияние на людей, не обладающих поэтическим даром. У Блока та же идея нового человека получает несколько иную трактовку. С его точки зрения, преображение должен испытать не художник, а публика. Именно это рассматривается им как ключ к тайне театра[167]167
«Вопрос о современной театральной публике и есть, по моему мнению, тот магический ключ, которым отпирается заколдованный ларчик» (Блок, 1960, V, 265).
[Закрыть]. В эссе 1908 года «О театре» Блок провозглашает необходимость театра больших чувств и ярких страстей, который не довольствовался бы развлечением и разбудил публику от летаргического сна. Театр представляется Блоку искусством, способным перевернуть мир.
В этом отношении Блок выступает участником театральной дискуссии своего времени в одном ряду с Мейерхольдом, Георгом Фуксом, позднее Платоном Керженцевым, которые также видели задачу театра в преодолении зрительской пассивности. Фишер-Лихте пишет в этой связи о «смене парадигмы, заключавшейся в переходе от интернальной к экстернальной коммуникации в искусстве театра» (Fischer-Lichte, 1997, 11).
Блок впервые формулирует свои взгляды на театральное искусство в статье «О Театре Комиссаржевской» (1906): «внутренняя борьба повсюду выплескивается наружу»[168]168
Блок, 1960, V, 95.
[Закрыть], «все мы оживаем, приветствуем свою обновляющуюся плоть и свой пробуждающийся лик»[169]169
Блок, 1960, V, 95.
[Закрыть]. В эпоху «кризиса индивидуализма» (V, 95) именно театру предстоит, по мнению Блока, стать «колыбелью страсти земной», ибо «зал и сцена должны стать как жених и невеста»[170]170
Блок, 1960, V, 96.
[Закрыть]. Статья Блока изобилует словами «рождение»[171]171
«рождается любовь» и «театр – колыбель страсти земной» (Блок, 1960, V, 96).
[Закрыть], «обручение»[172]172
«Искусство страстно обручается с тайной» (Блок, 1960,V, 96).
[Закрыть], «влюбленность»[173]173
«Пусть каждый уходит из театра влюбленным» (Блок, 1960, V, 96).
[Закрыть].
Поддерживая требование Иванова об уничтожении границы между сценой и зрительным залом, Блок уделяет главное внимание роли театральной публики, ее влиянию как на автора, так и на актера. Именно публика должна стать творцом нового театра, способного установить связь между народом и интеллигенцией (Блок, 1960, V, 274 – 276)[174]174
Приблизительно с 1907 по 1908 год оппозиция земного и трансцендентного миров сменяется в мировоззрении Блока оппозицией народа и интеллигенции, всецело лежащей в горизонтальной плоскости посюсторонних отношений.
[Закрыть].
В основе взглядов Блока на театр лежит выдвинутая им в 1907 – 1908 годах мифологема о народе и интеллигенции, представляющая собой вариацию на тему преодоления дуализма слова и плоти[175]175
В генеалогии блоковских дуализмов первое по времени место занимает оппозиция слово – плоть, встречающаяся, например, в предисловии к лирическим драмам 1906 года. Оппозиция народ – интеллигенция приобретает значение несколько позднее – в статьях «Народ и интеллигенция» (1908), «Стихия и культура» (1908) и «Интеллигенция и революция» (1918).
[Закрыть].
Народу, воплощению стихийной мощи России, Блок отводит роль poeta vates, визионера и пророка. Тем самым по-новому осмысляется и эстетика воздействия, ибо, по Блоку, не пьеса или спектакль воздействует на публику, а публика (жизнь) воздействует на театр (искусство).
В условиях революции 1905 года, когда главным героем лирики и поэтики Блока становится народ, поэт заново осмысляет оппозицию «жизнь – искусство», перенося центр тяжести на понятие жизни. Первый шаг к созданию «нового театра действия и страстей» (V, 273) Блок видит в развитии народного театра и мелодрамы как основы репертуара.
Двумя годами позже, развивая свои взгляды в статье «О театре» (1908), Блок требует провести резкую разграничительную линию между театром и развлечением:
Тот, кому нужны развлечения и только развлечения, пусть уйдет из театра, куда ему угодно – в кафе-шантан и оперетку. Я думаю, что простой гражданский долг обязывает не смешивать эти два совершенно различных ремесла
Театральные взгляды Блока нашли свое отражение в его драматургии. В предисловии к сборнику «Лирические драмы» (1907) Блок возвращается к высказанной им уже ранее идее о том, что драма призвана вывести наружу содержание внутреннего мира, дать ему воплощение, телесную, пластическую форму. Он пишет, что три его драмы («Балаганчик», «Король на площади», «Незнакомка») явились попыткой соединить лирику как жанр, раскрывающий внутренние «переживания души», с драмой, которую Блок воспринимал, очевидно, как жанр объективирующий, овнешняющий внутреннее переживание в образах действующих лиц.
Три маленькие драмы, предлагаемые вниманию читателя, суть драмы лирические, то есть такие, в которых переживания отдельной души, сомнения, страсти, неудачи, падения, только представлены в драматической форме
(Блок, 1960, IV, 434).
В отличие от Иванова, Блок связывает театр будущего не с возрождением дионисийской мистерии и религиозно окрашенного коллективного переживания, а с развитием жанра, представляющего собой своего рода alter ego мистерии. В своей первой драме «Балаганчик» он обращается к традициям народного ярмарочного театра, который, по мнению Уорнера (Warner, 1977, 233), занимает промежуточное место между ритуалом и театром литературным. Именно таково место «Балаганчика». Если, с одной стороны, его автор опирается на традицию commedia dell’arte, преломленную в опыте французского символизма (Пьеро как образ поэта, педалирование любовной коллизии), то, с другой – в пьесе явно просматриваются приметы русского народного балагана и всей карнавальной традиции, коренящейся в религиозном ритуале. Подменяя серьезность жизни игровым миром народно-кукольного представления, Блок добивается двух целей: во-первых, нейтрализует власть грозной реальности, во-вторых, преодолевает разрыв между театром и публикой.
Традиция площадного театра и народного карнавала подчинена в «Балаганчике» задаче жизнетворчества[177]177
Более подробный анализ этой драмы в моей диссертации (Schahadat, 1995).
[Закрыть]. Балаганная игра уничтожает страх смерти. Идея дионисийского очищения и возрождения (как у Иванова) замещается переключением философской проблематики (синтез искусства и жизни, тождество жизни и смерти) в игровой план. Сказочный мир не страшен. Кукла становится метафорой человека, балаганная игра – метафорой жизни.
З.Г. Минц (1988) указывала на тот факт, что интерес русских писателей к искусству балагана имел в ряде случаев биографическую основу, например посещение ярмарок. Примечателен в этом отношении эпизод, о котором вспоминает А. Бенуа, видевший, как на сцене ярмарочного театра Пьеро расправляется с Арлекином, сначала разрубая того на части, а затем соединяя их, чтобы снова вернуть Арлекина к жизни:
Принявшись каждый за свою работу, Пьеро и Арлекин скоро начинают ссориться, мешать друг другу, они вступают в драку, и – о ужас! – нелепый, неуклюжий Пьеро убивает Арлекина. Мало того, он тут же разрубает своего покойного товарища на части, играет, как в кегли, с ногами и руками (я недоумеваю, почему не течет кровь). В конце же концов пугается своего преступления и пробует вернуть к жизни загубленную жертву. Он ставит одни члены на другие, прислонив их к косяку двери, сам же предпочитает удрать. И тут же происходит первое чудо чудесное. Из ставшего прозрачным холма выступает вся сверкающая золотом и драгоценностями фея; она подходит к сложенному трупу Арлекина, касается его, и в один миг все члены срастаются. Арлекин оживает: мало того, под новым касанием феиной палочки тусклый наряд Арлекина спадает, и он предстает, к великому моему восторгу, в виде изумительно прекрасного, сверкающего блестками юноши
(Бенуа, 1980, 294 и далее).
Бескровное расчленение тела напоминает о клюквенном соке, вытекающем из раны паяца в «Балаганчике», а превращение Смерти в Коломбину и потом в картонную невесту демонстрирует тот же механизм трансформаций, что и чудесное возрождение к жизни мертвого Арлекина. Расчленение и срастание его тела свидетельствуют о связи балаганного представления с ритуалами, имеющими своим содержанием смерть и возрождение бога. Балаган нужен Блоку потому, что им отменяются законы реальной жизни. Это отличает пьесы Блока, с одной стороны, от драм Андрея Белого, у которого под каждой маской зияет трагическая пустота[178]178
Например, в статье «Окно в будущее» (1904): «Трагическая маска, глядящая на нас с улыбкой Медузы, возбуждает недоумение. Что глядит на нас из-под нее? Не пустота ли уставилась на нас?» (Белый, 1904, 4).
[Закрыть], с другой – от сочинений Метерлинка с его метафизической трактовкой смерти.
Другой аспект, определяющий связь «Балаганчика» с философией жизнетворчества, – это тема публики, театрального зрителя и контакта между театром и жизнью вне театра. В этом отношении в качестве образца также выступает балаган, претекстом же, тематизировавшим воздействие народного представления на публику, служил Блоку фрагмент «Записок из Мертвого дома», в котором Достоевский описывал арестантский спектакль. «Арестанты как дети радовались малейшему успеху», – писал Достоевский (1972, 117), и именно эта перспектива детского взгляда на вещи служит предпосылкой для эмоциональной активизации зрительного зала у Блока. Зрители народного театра так же подобны детям, как и участники архаического ритуала. Те и другие теряют дистанцию по отношению к зрелищу, испытывают чувство причастности к нему совершенно по-иному, чем «взрослый» зритель, воспринимающий театральную игру как иллюзию[179]179
C м. работу Лотмана о культурном значении куклы, где проводится различие между двумя типами публики, взрослой и детской (1992d, 378).
[Закрыть].
Изображая каторжников, смотрящих спектакль, Достоевский пишет:
На всех лицах выражалось самое наивное ожидание ‹…› Что за странный отблеск детской радости, милого, чистого удовольствия сиял на этих изборожденных, клейменых лбах и щеках, в этих взглядах ‹…›
(Там же, 122).
Преображение во внешнем облике зрителей и актеров неразрывно связано у Достоевского с преображением внутренним: «Человек нравственно меняется, хотя на несколько только минут» (Там же, 130). Причина этой перемены – участие в театральном действии, будь то в качестве зрителя или актера.
Дети или участники архаической церемонии воспринимают театр принципиально иначе, полярно противоположным образом, чем взрослая публика, способная сохранять дистанцию по отношению к зрелищу. В «Балаганчике» идеал «театра действия и страстей» реализован Блоком в форме кукольного представления, втягивающего в себя публику.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































