Текст книги "Искусство жизни: Жизнь как предмет эстетического отношения в русской культуре XVI–XX веков"
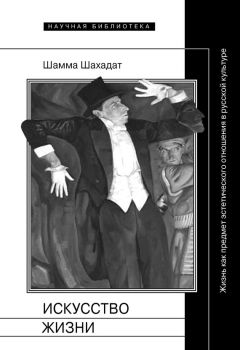
Автор книги: Шамма Шахадат
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
В годы революции и Гражданской войны культурная деятельность в области театра продолжалась с нарастающей активностью. Казалось, что революция позволит осуществить самые невероятные мечты о новом человеке и новом обществе, реализовать те утопические проекты, которые до революции существовали лишь в умах и теориях их создателей.
Отношения между революцией и театром становятся одной из главных тем эссеистики Евреинова. Такова, в частности, его статья «Театрализация жизни», утверждающая, что именно революция решит задачу театрализации, так же как это некогда произошло во Франции XVIII века, когда роли и костюмы революционеров были подчинены принципу театрального эгалитаризма и сама революция стала театральным спектаклем:
Страсть к театральности проявилась даже на трупах обезглавленных: их размещали в живописном порядке, в позах беседы друг с другом, ухаживанья, патетических или порнографических; заигрывали с ними, пели им, танцевали, смеялись и очень потешались нелепым видом этих актеров, так плохо исполнявших «забавные» роли. Дамы настолько вошли во вкус представлений на эшафоте (Grand Guignol!), что стали даже носить серьги в [sic!] виде крошечных стальных гильотинок с рубинами вместо капелек крови. Словом, Великая Революция была столько же политической, сколько и театральной
(Евреинов, 1923, 51).
Когда мертвецов рассматривают как актеров, а гильотину как декорацию, революция перестает внушать чувство ужаса и кажется лишь спектаклем, подвластным исполнителям. Эпоха революции, кризиса культуры, по мысли Евреинова, выявляет в людях театральный инстинкт.
В революционную эпоху театр представлялся средой жизнетворчества и жизнестроительства уже по соображениям практическим, ибо театральные постановки были призваны формировать нового человека посредством агитации и дидактики. К тому же в стране, где безграмотность была серьезной проблемой, театр служил заменой книжной культуре и мог произвести на массы более яркое, более непосредственное впечатление. Самодеятельные театры служили «живой газетой» (Mailand-Hansen, 1980, 40).
Театральными проектами занимались различные организации, прежде всего Пролеткульт как инициатива, шедшая снизу, и театральный отдел Наркомпроса, возглавленный Мейерхольдом. В их ведении находились массовые революционные спектакли и субботники, проводившиеся при активной поддержке литераторов – авторов революционных драм, к числу которых относилась, например, «Мистерия-буфф» Маяковского. Организация театрализованных праздников, массовых спектаклей и уличных театров, осуществляемая сверху, как и инициированные снизу театральные кружки при заводских клубах и в армии, – все это продолжало традицию, заложенную Евреиновым и Ивановым. Театральные кружки стремились оказывать влияние на жизнь своих участников через исполнение ролей положительных героев, массовые спектакли имели своей целью воссоздание исторических событий революции и Гражданской войны в коллективном переживании актеров в своего рода ритуальном воспроизведении, по ходу которого участники и зрители действа должны были выйти за грани своей индивидуальности, раствориться в коллективном теле народа[205]205
Дискуссия о массовых спектаклях тематизировала вопрос об их влиянии в качестве коллективного переживания. Например, Адриан Пиотровский, пропагандировавший самодеятельный театр, упрекал массовые спектакли в излишнем профессионализме, который затрудняет контакт со зрителями (Пиотровский, 1925, 10). Другой его аргумент, направленный против массовых театральных представлений, заключался в том, что экстатическое растворение индивидуальности в коллективном теле препятствует сознательному творчеству нового человека (Там же, 17).
[Закрыть].
Утопия театрального преображения ярко воплотилась в форме субботников, введенных с 1919 года. Они симулировали несуществующую реальность: работа должна была стать игрой, праздник – повседневностью, так, чтобы обыденная жизнь приобрела характер светлого, радостного творчества.
На фоне театральных кружков, массовых спектаклей и субботников по-новому осмыслялось отношение между театром, мифом, обрядом, праздником и бытом, делающимся тем материалом, который подлежит преображению при помощи театра. Темой инсценировок и спектаклей служил миф о происхождении нового государства, события революции и Гражданской войны. Ритуальные обряды с их твердо установленным порядком, ритмическими повторами и коллективным характером[206]206
Ср. дефиницию ритуала у Джейн Харрисон: «a thing re-done and / or pre-done, and done collectively at regular intervals» (Jane E. Harrison. «Ancient Art and Ritual». London, 1913, 43. Цит. по: Friedrich, 1983, 162). К вопросу о ритуале см. также выше, I, 1.
[Закрыть], с одной стороны, задавали строй и становились основой массовых спектаклей, с другой – способствовали усвоению ролевого поведения, утверждавшего новые формы общественной жизни[207]207
В этом случае важен аспект мимезиса: ритуал имитирует и репрезентирует заданное действие или роль. К отношению ритуала и мимезиса см.: Friedrich, 1983, 162 и далее, 178 – 181.
[Закрыть].
В качестве регулятора ее временной организации функционировали праздники, которые в то же время служили утопическим воплощением идеала, чаемого по ту сторону пространственно-временной действительности, создавали иллюзию его присутствия и достижимости. Театру придавалось значение модели и образца, он воспринимался не как род искусства, а как парадигма обновляемой жизни[208]208
К вопросу о противопоставлении театра и драматургии см.: Schmid, 1975, 19 и далее.
[Закрыть].
Театрализация жизни осуществлялась при помощи самодеятельных театров, революционных массовых зрелищ и субботников.
Самодеятельные театры создавались в форме театральных кружков. Культурная политика периода революции и Гражданской войны характеризовалась соперничеством между Наркомпросом и самодеятельными театрами при рабочих клубах (Paech, 1974, 114 – 119)[209]209
К числу жанровых форм самодеятельного театра относились «живая газета», судебные игры и массовые празднества (Paech, 1974, 119 – 129). Последние отличались от массовых спектаклей, организуемых «сверху», но также ориентировались на праздники «красного календаря». Их организаторами были предприятия и рабочие клубы, позднее при участии Пролеткульта (до тех пор, пока вся деятельность в области культуры не была централизована) (Там же, 128).
[Закрыть]. Последние пользовались поддержкой Пролеткульта, стремившегося развивать формы художественного творчества, направленные на изображение и осмысление той новой реальности, которая возникла в результате революции и Гражданской войны. Напротив, Наркомпрос исходил в своей театральной политике из задачи сохранения и актуализации культурного наследия прошлого (Mailand-Hansen, 1980, 39 – 40). Несмотря на резкую критику в свой адрес, Наркомпрос вначале не возражал против существования самодеятельных театров, которые активно поддерживались Пролеткультом, так как соответствовали его теоретическим установкам, особенно учению Богданова об «организационном процессе»: культура не есть только искусство, но планирование повседневной жизни, морали, педагогики, науки и т. д.[210]210
См.: Günther, 1973.
[Закрыть]. Тесная связь искусства с бытом во взглядах пролеткультовцев напоминает концепцию театрализации жизни Евреинова, но отличается от нее тем, что театру отводится функция прежде всего идеологическая и политическая, а соответственно, и ролевые игры признаются лишь те, которые способствуют формированию облика революционного рабочего, крестьянина и солдата[211]211
Конфликт между Пролеткультом с его самодеятельными театрами и Наркомпросом закончился лишь тогда, когда Мейерхольд стал в 1920 году руководителем театрального отдела (ТЕО). Вопреки Луначарскому Мейерхольд сделал ставку на самодеятельный пролетарский театр и сформулировал следующие положения программы театрального Октября: 1. создание сети активистов, ведущих театральную работу по всей стране; 2. политизация театральной работы; 3. создание новых образовательных учреждений для разработки революционных форм театра (Mailand-Hansen, 1980, 57). После спорных спектаклей Мейерхольда по пьесе Верхарна «Зори» («Les Aubes») и Маяковского «Мистерия-буфф», не соответствовавших требованию политического воспитания публики, программа театральной революции как наследницы революции политической быстро сошла на нет, и Наркомпрос с его политикой централизации одержал верх (Rudnitzky, 1988, 64).
[Закрыть].
Жанр праздничных торжеств и массовых спектаклей определяется «поэтикой революции» (Stites, 1989, 4), предполагающей свои особые идеи и чувства, язык и пафос, формы и декорации. Эпоха революции знала и свою риторику, выразившуюся в декретах, протоколах разного рода заседаний, в газетных статьях, на плакатах, в агитационных лозунгах. Эта специфическая риторика оперирует, как правило, несколькими простыми клише, среди которых концепт пространства, обозначенный устремленной вперед прямой линией («вперед!»); концепт времени, предполагающий новое летоисчисление, которое ведется с момента революции («новый»); глагол, передающий динамику активного, целеустремленного созидания («строить»); простая, однозначная семантика цвета («красный»).
Риторика революции оказала решающее влияние на эстетику нового театра, в котором актер мыслился как новый человек, как созданный революцией строитель новой жизни. Место действия, где протекала эта новая жизнь, представляло собой не личное пространство, а улицу или площадь. Публичный характер сценического пространства придавал городу значение сцены, и герои, на этой сцене действовавшие, были не частными лицами, а также публичными – они были именно актерами. С особой очевидностью принцип театрализации жизни проявился в организации праздничных торжеств.
Представление о том, как выглядели эти праздники, дают декреты и газетные статьи, в которых моменты коллективного переживания, объединявшего участников, зафиксированы в письменной форме. Переодевание, преображение, перерождение – вот понятия, которыми изобилуют эти тексты. Слово «преображение» встречается уже в первом декрете о подготовке майских праздников 1918 года под заглавием «Декрет Совета Народных Комиссаров о памятниках Республики»: «В ознаменование великого переворота, преобразившего Россию, Совет Народных Комиссаров постановляет ‹…›». Газетные статьи, посвященные описанию майских торжеств, описывают как будто бы театральную декорацию:
С самого раннего утра 30 апреля в Кремле необычайное оживление ‹…› Подъезды украшивают зеленью и растениями. Здания, пострадавшие во время Октябрьской революции, драпируются с таким расчетом, чтобы скрыть разрушенные части ‹…›. Целый день в Кремль приезжают и уезжают художники, архитекторы, скульпторы, принимавшие участие в организации работ по украшению Кремля и города
(Известия ВЦИК 87, 1 мая 1918 года; цит. по: В. Толстой, 1984, 45).
И далее:
Вся Лубянская площадь залита красным. Рябит в глазах от множества шелковых, бархатных и иных знамен, расшитых блестками и стеклярусом. Обращает на себя внимание автомобиль текстильщиков, задрапированный красной материей, с огромным глобусом, на котором изображен портрет Маркса. ‹…› Красивое зрелище представляет и автомобиль Сокольнического района, убранный сверху донизу цветами. ‹…› Артисты в костюмах всех национальностей, крестьянка со снопом ржи в руках, мальчики с граблями и серпами, а рядом с красными знаменами мужественные фигуры воинов. А над ними Россия, возвещающая мир всем народам
(Известия ВЦИК 88, 3 мая 1918 года; цит. по: В. Толстой, 1984, 49).
Слова «зрелище», «артисты», «украшение» создают образ театрального пространства, в котором празднуется это торжество, имеющее как свой сакральный центр (Кремль), так и свою революционную иконографию (Маркс, Россия с пальмовой ветвью), свою символику (красный цвет, аллегорические фигуры крестьянки, крестьянского мальчика, солдата). Режиссеры перформанса сидят в Кремле, но их представителем является Маркс на портрете; главные роли поручены крестьянам и солдатам. Художники исполняют роли оформителей сцены, творцов новой революционной эстетики. О зарождении этой монументальной эстетики, которая получает затем, в эпоху социалистического реализма, формы еще более совершенные, писал мирискусник Мстислав Добужинский в диалоге «Бомба и хлопушка. Беседа двух художников». Художники, один – представитель младшего поколения, другой – старшего, ведут следующий спор:
ПЕРВЫЙ: Ну разве не были мы свидетелями рождения новой эры в искусстве: 1 Мая художники наконец вынесли на улицу свои революционные знамена, и смотри, как весело украсился город творениями новой кисти! ‹…› Разве ты не видишь, как нога в ногу с передовым пролетарским движением двинулись наконец и творцы-художники, и подобно тому, как сметаются буржуазные устои в государстве, и в искусстве поднято восстание против этого «строгого, стройного вида» ‹…›
ВТОРОЙ: Не знаю, с чего начать тебе холодный душ. Прежде всего мне совсем не весело от приветствуемой тобой новой «красоты», которою вы облепили город. ‹…› Я вижу, что действительно объявлена война, или, вернее, презрение к архитектуре. Но тогда рази смелее, уничтожай то, что не отвечает твоим требованиям прекрасного, укрой сплошь, замаскируй, преобрази. Но не думаю, что путем заплат и пластырей, что навешены как попало ‹…› на объявленных вами «вне закона» зданиях, можно победить эти последние
(Новая жизнь 83, 4 мая 1918 года; цит. по: В. Толстой, 1984, 52 и далее).
В то время как первый художник, представитель нового революционного искусства, пользуется метафорами рождения, присущими риторике жизнетворчества («рождение», «творение»), второй критически отмечает непоследовательность перемен: вместо разрушения старого он видит лишь его маскировку, вместо преображения – «заплаты» и «пластыри». Этот спор отражает центральный конфликт культурной политики в первые годы после революции – использованию и переосмыслению старой культуры противопоставлялось тогда полное ее разрушение и создание искусства абсолютно нового[212]212
В первые годы после революции альтернатива сохранения или замены старого явилась камнем преткновения в споре между различными политическими и художественными группировками, о чем свидетельствует, в частности, различное отношение партии к новаторам-футуристам и консерваторам-попутчикам; первые состояли под критическим контролем, поскольку претендовали на роль единственных представителей революционного искусства, вторых партия стремилась подчинить своим целям (по меньшей мере до 1923 года). См.: Eimermacher, 1972, 24 и далее.
[Закрыть].
Целью массовых спектаклей являлась, однако, не столько декоративная перелицовка памятников старой культуры, сколько преображение личности; участие в (инсценированной) революции должно было способствовать становлению нового человека. В отчете о подготовке к празднованию первой годовщины Октябрьской революции читаем:
В открытых по этому поводу прениях было высказано мнение о том, что дни годовщины должны явиться повторением переживаний Октябрьской революции ‹…› Комиссия пришла к заключению, что празднества отнюдь не должны носить официального характера, как 1 мая, а должны иметь глубокий внутренний смысл: массы должны вновь пережить революционный порыв
(Известия ВЦИК 208, 25 сентября 1918 года; цит. по: В. Толстой, 1984, 56).
Акцент был сделан, следовательно, на переживании, на его повторении и возобновлении революционного порыва. Массовый спектакль виделся как театральное представление, способное возродить реальность, и как реальное событие, инсценированное в форме театрального представления. Граница между публикой и актерами, как физическая, так и эмоциональная, должна была быть максимально ослаблена, настолько, чтобы каждый зритель мог почувствовать себя одновременно и актером, участником изображаемой революции. В исторических условиях революционного времени лозунг Евреинова о театрализации жизни совпал с задачей ее революционного преобразования, которое, как ожидалось, явится результатом спектакля, подобно тому как на самодеятельные театры возлагалась задача революционного преобразования театра.
Массовые спектакли прошли несколько этапов своего развития, его кульминацией стало поставленное под руководством Евреинова «Взятие Зимнего дворца», разыгранное по поводу третьей годовщины революции. Все такие спектакли были теснейшим образом связаны с революционными праздниками[213]213
Отмечались следующие праздники Красного календаря: «9 января – в память “кровавого воскресенья”, 17 января – в память об убийстве Розы Люксембург и Карла Либкнехта, 23 февраля – День Красной армии, 8 марта – Международный женский день, 18 марта – День Парижской коммуны, 16 апреля – День прибытия Ленина в Петроград, 2 декабря – День памяти о рабочем восстании 1905 года» (Schlögel, 1988, 356 и далее). Многие из них вскоре перестали отмечаться, в отличие от двух главных: 1 мая – Дня солидарности трудящихся и 7 ноября – годовщины Октябрьской революции.
[Закрыть] и, являясь откликом на исторические события, с одной стороны, утверждали их значение, а с другой – им противоречили, поскольку отвечали на войну и голод праздничными театральными зрелищами[214]214
Можно сказать, что они были в известном смысле бегством. Шкловский иронически сравнивает театральную манию с психозом: «Жизнь тяжела, ее тяжесть от себя не скрыть ‹…› Человек поневоле рад бы туда, где все было мягче, где били не иначе, как мягкими подушками, а топили непременно в теплой воде. Но дорога во вчерашний день, конечно, заперта. И вот человек бежит в театр, в актеры – так, по мысли Фрейда, при психозе мы прячемся в какую-нибудь манию, как в монастырь, то есть создаем себе иллюзорную жизнь, иллюзорную действительность вместо трудной действительности действительной» («Ход коня», 1990, 86). Шкловский описывает здесь театр иронически, как «страну с молочными реками и кисельными берегами», социалистическую утопию. Этому соответствует тезис И.П. Смирнова о том, что символизм – эпоха истерии, для которой характерна театрализация культуры (Смирнов, 1994, 133 – 160).
[Закрыть]. Уже в октябрьских торжествах 1918 года участвовали более 60 театральных трупп (Schlögel, 1988, 357); в последующие годы было осуществлено множество постановок на открытом воздухе, темой которых были восстания, революции и победа рабочего класса над его угнетателями («Действо o III Интернационале», поставленное в 1919 году в Петрограде; «Мистерия освобожденного труда»[215]215
См.: Schlögel, 1988, 358 – 360.
[Закрыть], разыгранная там же на майские праздники 1920 года; массовая инсценировка на тему мировой коммуны, осуществленная в 1920 году в Петрограде для делегатов Второго конгресса III Интернационала[216]216
См.: Schlögel, 1988, 360 – 362; Rudnitzky, 1988, 44.
[Закрыть]).
Взятие Зимнего дворца означало кульминацию в развитии этого жанра, потому что этот спектакль отличался гигантским масштабом и наиболее точно соответствовал задаче возрождения революционных переживаний в народных массах. Ближайшими помощниками Евреинова были режиссер Николай Петров и театральный критик Александр Кугель (Рудницкий, 1988, 44). Оформление «сцены» было поручено Юрию Анненкову: на Дворцовой площади были установлены две платформы, на одной размещались «красные», на другой «белые», между платформами был перекинут мост. Третьей сценической площадкой был сам Зимний дворец. Десять тысяч солдат и матросов воспроизводили события штурма, около ста тысяч зрителей находились на площади. В одном из интервью Евреинов говорил о том, что ему хотелось и саму сцену, место действия, вовлечь в тот процесс преображения, который произвела революция:
В действие вовлечен и сам Зимний дворец, как своего рода актер, как грандиозное действующее лицо, которое выражает в мимике свою внутреннюю жизнь. Режиссеру следует позаботиться о том, чтобы и камни заговорили, чтобы зритель почувствовал, что происходит там, за этими холодными, красными стенами
(Интервью для журнала «Жизнь искусства», цит. по: Schlögel, 1988, 363).
События «за стенами» дворца были сделаны доступными зрителю с помощью освещения и использования игры теней. Стремясь превратить в актера сам Зимний дворец, заставить говорить камни, Евреинов шел еще дальше, чем того требовал его лозунг театрализации жизни: не только зрители должны были заново пережить события штурма, оживить следовало и место действия. «Автобиореконструктивное представление» (Schlögel, 1988, 522), как назвал этот спектакль Евреинов, предусматривало максимально достоверное изображение событий, благодаря которому они должны были не только снова всплыть в коллективной памяти, но и произвести впечатление физической реальности.
Массовые инсценировки питались памятью о праздниках эпохи Французской революции. Одним из претекстов для русских массовых спектаклей явилась статья Р. Роллана о народном театре («Théâtre du peuple», 1913; см.: Мазаев, 1978, 127). В главе «Народные празднества» («Les Fêtes du peuple») Роллан приходит к выводу о том, что профессиональный театр всегда остается иллюзией и только празднество может установить связь искусства с народом: «Свободному и счастливому народу больше нужны празднества, чем театр; и самым прекрасным зрелищем для народа всегда будет сам народ» (Rolland, 1913, 154). Подобно Иванову, Роллан прослеживает процесс детеатрализации театрального искусства, показывая, как театральные элементы встраиваются в структуру праздника. Празднуя, пишет Роллан, народ заново переживает обретенную им свободу и братство (Там же, 162).
Связь с мифом, ритуалом и праздником – неотъемлемая черта массовых спектаклей. С одной стороны, они отвечали тенденции к мифологизации революционных событий, отразившейся в художественных произведениях и культурософских текстах эпохи; с другой – воскрешение и возобновленное переживание революции служили ее оправданием, ее санкционировали. Основу массовых спектаклей составлял миф о рождении новой жизни, началом которой явился штурм Зимнего дворца, причем воспоминание о генезисе новой власти, воспроизведение обстоятельств, при которых она одержала победу, служили ее утверждению и укреплению. Инсценируя миф, массовые спектакли подтверждали и выдвинутую Ивановым трактовку мифа как народной памяти, оживающей в театре-храме. Но в период революции символическое пространство храма подверглось демократизации, им стали улица и городская площадь, отчего театр-храм сблизился с театром-балаганом.
Представление мифа происходило в формах ритуала: миф о происхождении новой жизни инсценировался как rite de passage, как переход от старого к новому строю, в результате чего участники этого процесса вновь переживали свое превращение из угнетенных в победителей; их первоначальный статус подвергался ревизии[217]217
Шехнер именует этот процесс «Transformances». На примере перформативных обрядов племени курумугль он показывает, как перемена статуса вначале подвергается символизации, а затем актуализации. Так, например, должник меняется местами с заимодавцем: «В курумугле превращение должника в заимодавца означает нечто большее, чем просто повод для праздника (по типу дня рождения, когда празднуется переход от одного возраста к другому). Представление включает в себя и то, от чего оно уводит. Оно предоставляет достаточно времени и места для того, чтобы показать, как перемена, которая должна произойти, становится возможной. Оно представляет собой своего рода порог, динамическое средоточие между двумя определенными структурами. Это средоточие возникает в тот краткий промежуток времени, когда обе группы танцующих соединяются в хороводе. На этой границе становится возможной communitas, стирание всех различий в состоянии всеобщего экстаза, которое так часто присуще таким представлениям ‹…› После этого, и только после этого, возможна перемена» (Schechner, 1990, 66 и далее). В отличие от подлинного ритуала, объединяющего символическое событие с фактическим, эстетика театра предполагает лишь символический акт. Но в массовых театрализованных зрелищах в эту эстетику вновь вторгается фактическое, реальное событие.
[Закрыть]. Так же как в ритуалах, связанных со сменой времен года, здесь воспроизводилось вечно возвращающееся (в годовщину революции) событие. Праздник не столько был развлечением, сколько выполнял дидактическую и жизнетворческую функцию, как писал об этом в 1920 году Луначарский: всякая подлинная демократия «устремляется естественно к народному празднеству», ибо празднество воплощает в себе «свободную жизнь масс» («О народных празднествах»; см.: В. Толстой, 1984, 106)[218]218
Толстой цитирует отрывки из статьи Луначарского, например: «Вообще всякая подлинная демократия устремляется естественно к народному празднеству. Демократия предполагает свободную жизнь масс» (Толстой, 1984, 106).
[Закрыть].
Связь массовых спектаклей с праздниками столь важна потому, что именно праздники предназначены были реализовать идеал. Всякий праздник характеризуется следующими признаками:
– Праздник отмечается наперекор истории, он возвращает к событиям прошлого (Мазаев, 1978, 31).
– Праздник функционирует как род коллективной памяти, ему присущ автоматизм, заставляющий забывать происхождение праздника и не замечать его механизмов; празднующий воспринимает торжество как нечто квазиестественное и не предается рефлексии (Там же, 77).
– Праздник противопоставлен повседневному быту (Там же, 89); он представляет собой бегство в утопию, выход из привычного порядка жизни. Праздник может утверждать антипорядок (таков карнавал) или порядок альтернативный. Последнее относится прежде всего к праздникам официальным, которые регулируются не менее строгими правилами, чем повседневная жизнь.
– Праздник выполняет социальный заказ, интегрирует индивидов в коллективное целое.
– Праздник революционный направлен не на утверждение уже существующих форм жизни, а на создание новых. Он имеет двойную структуру, празднуется в точке пересечения прошлого и будущего и зовет не только в прошлое, но и вперед, в те будущие времена, когда революционные события недавнего прошлого обретут прочный статус истории[219]219
Мазаев указывает на то, что традиционный хронотоп праздника, объемлющий настоящее и прошлое, в революционных праздниках видоизменяется, объединяя настоящее с будущим, тогда как прошлое из него исключается (Мазаев, 1978, 258).
[Закрыть]. Праздники революции только еще создают коллективную память; их социальная роль в том, чтобы скрепить индивидов с новой властью.
Все эти характерные признаки относятся и к третьей форме существования революционного театра – к субботникам. Субботник – это праздник труда, рабочий день и праздник одновременно. Особенность субботника в том, что праздник узурпируется трудом, подчиняется трудовому пафосу построения утопии. Тем самым отношение между праздником и повседневной жизнью оказывается перевернутым: праздник начинает восприниматься как пространство утопии, иллюзорное воплощение грядущего идеального состояния мира; социалистическое будущее инсценируется так, как будто оно уже достигнуто. Субботник выводит повседневность на сцену вечно длящегося праздника, отменяет различие между праздником и работой.
Майским праздникам 1920 года предшествовали два субботника, два предпраздничных трудовых дня, которые Пиотровский характеризовал как «величественные, подлинно-массовые действа» (1926, 74). На первом субботнике участники, несколько тысяч человек, под звуки оркестра, словно разрушая прошлое, «убирали» сад Зимнего дворца (Там же). Вторая, еще более грандиозная акция состоялась на Марсовом поле: 16 тысяч человек собрались для того, чтобы превратить в сад мощенную камнем площадь. Работа сопровождалась оркестровой музыкой, театральными постановками и чтением стихов; вся площадь была украшена флагами (Там же). Разрушение одного сада и создание другого оказались одинаково безрезультатными, но, как замечает Пиотровский, акция имела «чисто символический, зрелищный характер» (Там же). На субботнике выходной день превращается в рабочий, но работа маскируется под праздник, во время которого новый человек будущего проявляет себе в действии – как радостный творец нового мира, участвующий в создании синтетического произведения искусства под именем «Сталин» – в «Gesamtkunstwerk Сталин».
В России начала XX века театр был поставлен на службу созданию нового человека и преображению старого. Преображение, трансформация (Евреинов употребляет иногда слово «трансфигурация») – ключевое понятие театрального дискурса этой эпохи. Объект трансформации менялся в зависимости от того или иного подхода.
Иванов и Блок, а также массовое искусство революции делали ставку на аффекты: яркое эмоциональное переживание должно было перенести человека в другое время и другое пространство и хотя бы временно преобразить его самого. Ритуальный театр Иванова и массовые спектакли ориентируются на народный коллектив, на коллективный экстаз, тогда как у Блока субъектом переживания является зритель.
Евреинов выступает в этом смысле как антипод Блока, ибо для него преображение переживает прежде всего актер. Поскольку, однако, актерами должны стать все люди, различие между актером и зрителем, по существу, исчезает и фигурой, символизирующей их синтез, становится Арлекин.
Футуристы, разделяя идею трансформации личности под влиянием театра, представляют особую позицию, так как смещают акцент с творчества жизни на словотворчество, отождествляемое с созданием мира. Их представление о слове как мире подготовило эстетику революционного театра и вошло в эстетическую концепцию «Gesamtkunstwerk Сталин».
Общим для всех этих подходов явилось использование театральной модели и тем самым подрыв театра как явления эстетического, как особого вида художественного творчества[220]220
Число примеров деэстетизации театра может быть увеличено. Укажем еще лишь на одну форму, которая после революции пользовалась особой популярностью: агитсуды, которые курировал Пролеткульт. Театр перенимал в этом случае функции суда, что приводило «к смешению категорий эстетического и юридического суждения» (Sasse, 2003a, 126). C м. также: Cassiday, 2000; Sasse, 2003a.
[Закрыть]. Зритель утрачивал свое значение и особую функцию, независимо от того, шла ли речь о коллективном катарсисе или об эстетизации быта, в котором все становились актерами и зрители оказывались излишними.
Специфика театральности связывается в трудах по теории театра не со зрителем, а с актером. Граница между видимостью и бытием, иллюзией и реальностью, между семой и сомой трактовалась при этом по-разному. Иванов стремился ее уничтожить, растворив иллюзию в бытии. Напротив, Евреинов на этой границе настаивал, старался ее выявить: Арлекин был призван демонстрировать способность человека властвовать над своим телом, над бытием, пребывая в царстве иллюзии. После революции та и другая тенденции сливаются. С одной стороны, ролевые игры подчеркивают возможность изменять жизнь, трансформировать тело, воспринимаемое как знак. С другой – возникает стремление к аутентичности, театр рассматривается как средство для симуляции состояния, еще не достигнутого.
Утрата зрителя характеризует и позицию Блока, хотя Блок теряет его иначе, чем Иванов, Евреинов или создатели революционного театра. Выдвигая зрителя в центр внимания, Блок интерпретирует его тем не менее лишь как часть дуальной мифологемы, репрезентирующей народ в мифологической оппозиции народ – интеллигенция. Блоку важна не зрительская дистанция, а, напротив, синтез противоположностей, их «обручение».
Чем объясняется возрастание роли театра в русской культуре начала ХХ века? Во-первых, если исходить из того, что театральное искусство отражает и осмысляет общее состояние культуры, то взрыв интереса к театру и театральным экспериментам следует считать следствием культурного кризиса. Символизм, футуризм и революционный авангардизм – все эти направления вобрали в себя опыт кризиса культуры, представляли собой варианты его осмысления и преодоления. Во-вторых, особенностью русской культуры на рубеже веков явился выход художника на сцену общественной жизни; проблема искусства будущего потребовала решения в широком социокультурном контексте. Символистские кружки, как и литературные группы эпохи романтизма, еще характеризовались элитарной замкнутостью, но уже у символистов возникают явственные мессианские настроения, стремление обрести связь с народом. Поэт больше не отворачивается от толпы, как в поэзии Пушкина. Блок и Иванов рассматривают искусство как путь к народной правде. В особенности это относится к искусству сцены, ибо театральная публика воплощает отчетливее, чем абстрактный читатель письменного текста, «миф о коллективе» (Kleberg, 1984, 45), который творит поэт. Несмотря на «камерный характер» символистской эстетики (Никольская, 1988, 90), театральные утопии символистов уже несут в себе ядро тех начинаний, которые футуристы и деятели революционного искусства воплощают затем на улицах и площадях. Именно эволюция символизма, переход символистов от сосредоточенности на внутреннем мире личности к большим общественным темам[221]221
«Von der Innerlichkeit zur Öffentlichkeit» (см.: Graevenitz, 1975).
[Закрыть] обусловили театрализацию русской культуры в последующие годы. Ее предвестием явились театральные проекты, которые вынашивались на «башне» Иванова.
Начиная с 1900-х годов театр занимает центральное место в культурологическом дискурсе. «Создавалось впечатление, будто историческая судьба России зависела от решения проблем театра», – писал Константин Рудницкий (Rudnitzky, 1988, 9). Как общественный институт театр далеко не исчерпывался интерпретацией произведений драматической литературы; опробуя интерактивные отношения между сценой и публикой, реализуя концепты преображения и ролевой игры, определяя характер народных празднеств и инсценировок исторических событий, театральное искусство являлось той сферой культуры, в которой искусство встречалось с жизнью, становилось жизнетворчеством.
Впоследствии театр был узурпирован политической властью, и его социальная функция подверглась извращению. К 1930-м годам массовые народные спектакли деградировали, превратившись в показательные процессы над врагами народа, в грандиозные театрализованные самоинсценировки политической власти. Уже в 1918 году Евреинов произнес доклад под названием «Театр и эшафот», где наметил общие исторические истоки театра и казни, присутствующие как в языческих, так и в христианских обрядах жертвоприношения. По Евреинову, они представляли собой грандиозное «публичное зрелище», отвечавшее инстинктивной потребности людей в жестокости и ее созерцании (Евреинов, 1996, 24)[222]222
В статье «Театр и эшафот» Евреинов говорит о прирожденном «эшафотном духе» детей и описывает замещение подлинного наказания наказанием символическим, эстетическим как результат развития культуры (36). К проблеме взаимосвязи наказания и спектакля см.: М. Фуко. «Надзирать и наказывать». Примечательно, что книга Фуко, посвященная проблеме общественного контроля над телом и взглядом, открывается сценой, в которой телесные мучения выставляются напоказ.
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































