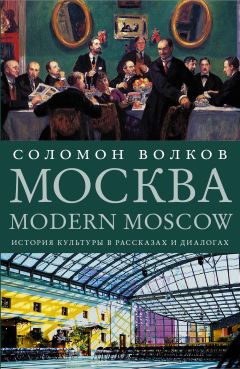
Автор книги: Соломон Волков
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Но когда Чехов весной 1899 года увидел, наконец, спектакль (правда, без декораций, в чужом помещении – спецпоказ только для автора), ему многое в нем не понравилось: и Заречная, и в особенности Тригорин – Станиславский, похожий на “безнадежного импотента” и произведший на Чехова самое мрачное впечатление. Вдобавок МХТ играл “Чайку” как драму, в то время как автор считал ее комедией.
Станиславскому он сказал, что его герой должен появляться на сцене в брюках в клетку и в дырявых башмаках. Артист был в недоумении: он играл модного писателя, любимца женщин, облаченного в элегантный белый костюм! Правоту Чехова он, по собственному признанию, понял только годы спустя…
Парадокс заключался в том, что в 1896 году в Петербурге Комиссаржевская сыграла Заречную потрясающе, но “Чайка” провалилась. В МХТ же две важнейшие роли явно не удались, зато спектакль постепенно стал культовым. На глазах у удивленных и озадаченных критиков и театральных профессионалов происходила смена культурной парадигмы.
Режиссер сменил актера в качестве главенствующей фигуры на театре. Но культурные изменения оказались еще более значительными, затронув общественную ситуацию.
* * *
Москвичи и раньше были заядлыми театралами. Они неизменно заполняли свой любимый Малый театр, от души хохотали на тамошних комедиях и обливались слезами на мелодрамах, восхищаясь своими артистическими кумирами – Ермоловой, Александром Южиным, Александром Ленским. В Малом театре публика чувствовала себя как дома. Это было место отдыха и развлечения.
С появлением МХТ представление о театре у москвичей решительно изменилось. Об этом написал Осип Мандельштам: “Сходить в «Художественный» для интеллигента значило почти причаститься, сходить в церковь”.
Да, в МХТ входили тихо, как в церковь, в антрактах исчезло привычное веселое оживление, после спектакля не спешили расходиться, с просветленными лицами обсуждали увиденное… И смех, и слезы теперь переживались как некий душевный катарсис.
Постановки МХТ заставляли задуматься о главном: о смысле жизни. Это была невиданная до сих пор коллективная исповедь. У зрителей возникало ощущение общности их судеб. Борис Алперс превосходно описал этот квазирелигиозный экстаз: “Мир раздвигается на твоих глазах. Твое личное горе, твоя личная неудавшаяся жизнь оказываются горем всеобщим, неудачами всеобщими. И из этого ощущения рождается чувство освобожденности от тяжести, нависшей над тобой… Тогда-то и появляется надежда, что эта трагическая тяжесть когда-то исчезнет, когда-то будет сдвинута общими усилиями”[16]16
Алперс Б.В. Искания новой сцены. М., 1985. С. 239.
[Закрыть].
Чехова-прозаика в идеологизированной атмосфере российской общественной жизни постоянно упрекали в безыдейности, “индифферентизме”. О Чехове с раздражением писали, что ему “все едино – что человек, что его тень, что колокольчик, что самоубийца”. Это отношение переменилось лишь после неожиданного успеха у публики – сначала в Москве, а затем в Петербурге и по всей России – чеховских пьес.
Став внезапно культовым автором русского студенчества, да и всей “мыслящей” интеллигенции, Чехов не без удивления и даже некоторого раздражения взирал на то, как он становится популярной фигурой также и на страницах чуткой к общественному мнению массовой прессы. “Чехову не нравился его успех. Он боялся своей славы, боялся стать «модным писателем»”, – подтверждает Бунин.
Чехов жаловался: “Переписки у меня очень много, моя комната похожа на почтовое отделение, а люди ходят то и дело; часа нет свободного, хоть беги вон из Ялты”. На ялтинской набережной писателя теперь обступали поклонницы, которых местные жители прозвали “антоновками”.
* * *
Как стало ясно после постперестроечных публикаций чеховской эпистолярии, подвергавшейся прежде жестокой цензуре, он вовсе не был аскетом, каковым его настойчиво пытались изображать на протяжении почти ста лет. Оказывается, Чехов в своих письмах весьма подробно описывал, как он “тараканил” (московский эвфемизм!) проституток во время путешествий на Цейлон и в Японию и не без удовлетворения заключал: “Распутных женщин я видывал и сам грешил многократно”[17]17
Цит. по: Литературное обозрение. 1991. № 11. С. 55.
[Закрыть].
После обострения болезни от посещения борделей и многочисленных романов пришлось отказаться, хотя встречи с “антоновками” (теперь уже большей частью платонические) и игривая переписка с бывшими возлюбленными продолжались.
Но новая популярность принесла Чехову другой важнейший бенефит: солидную материальную обеспеченность. Этот аспект тоже замалчивался в советской литературе о Чехове – ведь почти все без исключения титаны русской дореволюционной культуры в СССР считались “жертвами царизма”, а значит, должны были жить в нужде и лишениях (по контрасту с достатком творцов социалистической эпохи).
Издатель Адольф Маркс, смекнув, что Чехов стал национальным брендом, купил у него права на публикацию собрания его сочинений за семьдесят пять тысяч рублей – сумму по тем временам огромную и вызвавшую большой шум в прессе. (Он окупил ее меньше чем за год!)
Чехову эти деньги действительно были нужны: в ту пору он оплачивал большое имение (и школу) в Мелихове, московскую квартиру, строительство крымской дачи, а также дома на приобретенном им земельном участке в Ялте да еще содержал многочисленную родню.
Большим финансовым подспорьем стали поспектакльные отчисления за постановки его пьес – “Чайки”, “Дяди Вани”, “Трех сестер” – по всей России, но в особенности в МХТ, где автору причиталось десять процентов с валового сбора (и где Чехов числился одним из главных пайщиков – тоже источник постоянного дохода).
Вроде все складывалось благополучно и даже более того. Все, кроме здоровья. Чехов знал, что умирает. Как врач он понимал, что его чахотку не вылечить, не остановить. Это усиливало присущий Чехову дуализм.
С одной стороны, он впадал в ипохондрию и говорил Горькому (сухо покашливая и вертя термометр): “Жить для того, чтобы умереть, вообще не забавно, но жить, зная, что умрешь преждевременно, – уж совсем глупо…” В такие минуты Чехов, как вспоминал Горький, превращался в сущего мизантропа.
К тому же ему все труднее становилось сочинять. Смертельно усталый, он жаловался в одном из писем: “Не видно писать, вечереет”. И еще: “…ухожу куда-то без остановки, бесповоротно, как воздушный шар”.
С другой стороны, у писателя обострилось желание выжать из остатка своей жизни еще хоть каплю радости и счастья. Именно этим во многом можно объяснить наделавшую столько шума и по сию пору контроверзную женитьбу писателя весной 1901 года на ведущей актрисе МХТ Ольге Книппер.
* * *
Отношение Чехова к актерской братии нам уже известно: будучи профессиональным драматургом, он оценивал ее не без брезгливости как необходимое зло. Когда-то он пошутил, что ему не везет настолько, что от его брака с актрисой непременно родится орангутанг. Но Книппер эти чеховские страхи сумела преодолеть: она была талантлива, обаятельна, умна и настойчива. И блистала именно в чеховских пьесах – обстоятельство, немаловажное для них обоих.
Это был странный, но очень “чеховский” союз. Чехов всегда говорил, что, женившись, хотел бы с женой жить раздельно. Причины такой позиции можно анализировать бесконечно, но они, по сути, сводятся к двум основным: желанию сохранить свой “круг одиночества” и свою творческую свободу.
Чеховский дуализм в данном случае обострен до предела: ему хотелось и общения, и одиночества. Хотелось любить, но и экономить силы для работы. Книппер удивительным образом соответствовала этим противоречивым пожеланиям Чехова.
Она жила в Москве, он – в Крыму; виделись они урывками. Их любовная жизнь осуществлялась скорее в интенсивной переписке, чем в реальности, – и это, вероятно, удовлетворяло обоих (хотя трезвый Бунин характеризовал брак Чехова и Книппер как “медленное самоубийство” писателя).
В одной из чеховских записных книжек, куда он заносил наброски к возможным будущим работам, находим строку пронзительно автобиографическую: “Как я буду лежать в могиле один, так, в сущности, я и живу один”.
Чеховский дуализм, закованный в панцирь ледяного одиночества, – вот что, по моему убеждению, сделало его одним из любимейших русских авторов в Европе и Америке. На Западе его чтут наравне с Достоевским и Толстым, и он далеко обходит Пушкина – обстоятельство, которое самого Чехова наверняка удивило бы.
Необычайно высоко оценивают Чехова в Англии, где, согласно авторитетному свидетельству Святополк-Мирского, “Вишневый сад” уже в первые десятилетия ХХ века характеризовали как лучшую пьесу после Шекспира, а “Три сестры” – как лучшую пьесу нового времени.
Из Англии это преклонение перед Чеховым перекочевало в США. Там его тоже без оговорок сравнивают с Шекспиром, указывая на сходство “драматургической стратегии”: у Чехова, как и у английского гения, персонажи предпочитают диалогу монологи; им присущ, по выражению американца Гарольда Блума, “великолепный солипсизм”.
Блум также выдвинул любопытный тезис о сходстве иронии у Шекспира и Чехова. Для англосаксонского отношения к Чехову типично замечание Блума, что Шекспира “Три сестры” восхитили бы.
* * *
Для нас особенно важно, что Чехов завоевал мировую сцену с помощью МХТ. Чехов и Художественный театр неотделимы, несмотря на то что в 1932 году, по указанию Сталина, театру присвоили имя Горького, главного в то время “социалистического” писателя.
Благодаря гастролям Художественного театра на Западе там поняли, как надо играть Чехова, чтобы он пользовался успехом у современной публики. Большое значение имели выступления МХАТа в 1923 году в США, побившие рекорды посещаемости, несмотря на то что спектакли шли на русском языке.
Театральное учение Станиславского, его знаменитая система, которую в США приняли как мантру нового театра, адаптировав ее под названием “метод”, послужило путеводной звездой для многих знаменитых американских режиссеров и актеров – Элиа Казана, Ли Страсберга, Генри Фонды, Джеймса Стюарта, Марлона Брандо, Пола Ньюмена. Я свидетель тому, что и сейчас система Станиславского в США популярна и влиятельна.
На Чехова ориентировались почти все ведущие американские драматурги ХХ века – от Юджина О’Нила до Теннесси Уильямса и Артура Миллера. В одном нашем памятном долгом разговоре Миллер даже признался мне, что немаловажным импульсом для его сенсационной женитьбы на Мэрилин Монро стал прецедент союза Чехова с Ольгой Книппер. (Монро, кстати, не раз называла себя последовательницей системы Станиславского.)
Так Москва в начале ХХ века оказалась мощнейшим трамплином для трансформации и модернизации мирового театра – и в репертуарном плане, и в плане приемов сценического воплощения этого нового, удивительного явления – чеховских пьес. “Московский след” в западном театре приметен и по нынешнюю пору.
* * *
В современной России МХАТ утратил свою монополию на интерпретацию драматургии Чехова. Ничего подобного легендарным мхатовским “Трем сестрам”, поставленным Немировичем-Данченко в 1940 году и продержавшимся в репертуаре четыре десятилетия, сейчас невозможно даже вообразить.
Чехова ставили практически все значительные режиссеры, от маститого Эймунтаса Някрошюса до молодого скандального Константина Богомолова. Их разительно несхожие истолкования объединяет, пожалуй, одно: почти все они деконструируют Чехова, решительно отметая традиционную чеховщину. Абсурдистские элементы чеховских пьес выходят на первый план, они трактуются как трагифарсы. Станиславский от этих представлений пришел бы в ужас.
А Чехов? Вспомним, что и “Чайку”, и “Вишневый сад” он определил как комедии и был недоволен тем, что МХТ преподносил их в качестве драм. Абсурдность бытия Чехов ощущал неизмеримо острее, чем Станиславский и Немирович. Деятели театра, они по определению были бо́льшими оптимистами, чем их автор. Знаменитая эмблема чайки на занавесе МХТ стала своеобразным символом этого специфического оптимизма: ведь театральный занавес должен, несмотря ни на что, раздвигаться каждый вечер. В театре не бывает посмертного успеха…
Театр – абсолютно алогичное искусство
Диалог с Григорием Заславским
Соломон Волков. Книга эта задумывалась как попытка выяснить, что такое московская культурная традиция, “московский стиль”, и постепенно расширилась, но мы, если вы не возражаете, давайте начнем с Художественного театра, его истории от смерти основоположников и до наших дней. Особенно я интересуюсь постсоветским периодом, конечно.
Григорий Заславский. Давайте. Единственное, если вы позволите, я все-таки немножечко ввинчусь вглубь истории Художественного театра, чтобы проартикулировать очень важную для меня деталь. Дело в том, что сама идея Художественного театра зародилась в стенах ГИТИСа. Но не в этих конкретно, потому что ГИТИС в этот особняк и на эту территорию въехал в 1902 году[18]18
С 1902 года ГИТИС находится в Малом Кисловском переулке, 6.
[Закрыть], когда один добрый купец просто подарил Московскому филармоническому училищу землю и свой дом. А в начале 1890-х в ГИТИС пришел преподавать Владимир Иванович Немирович-Данченко. И когда на курсе одновременно оказались Мейерхольд и Книппер (тогда еще не Чехова, естественно), то он понял, что с этими ребятами надо что-то делать новое, новый театр. Поскольку он был бедным армянином, он начал искать какого-нибудь богатого русского купца. И нашел его, знаете, как неосознанно дальнего себе. Неосознанно, а вернее, вполне осознанно, наметил он Константина Сергеевича Алексеева и написал ему ту самую записку. И после встречи пригласил Станиславского на одну из репетиций. Станиславский пришел, посмотрел репетицию спектакля “Трактирщица” Гольдони и согласился делать новый театр. Еще к этому добавился предыдущий выпускник Немировича-Данченко Москвин, сыгравший, как известно, главную роль в спектакле “Царь Федор Иоаннович”, которым открылся новый театр. То есть идея Художественного театра зародилась в ГИТИСе в 1897 году.
С. В. Это замечательно, первые шаги ведь плохо исследованы… У меня в книжке есть и чеховский театр, и булгаковский. Но что было после этого, если так можно сказать, героического периода? Послевоенная история МХАТа – как она вам представляется, какая была линия, какие взлеты и падения, может быть?
Г. З. Это очень непростая история. Потому что, с одной стороны, мы знаем об этом времени в отраженном свете недовольства тех людей, которые, в протесте против этого театра, как им казалось, замшелого, абсолютно ушедшего от идеи как Станиславского, так и Немировича-Данченко, создали в 1956 году театр “Современник”; но с другой стороны, еще до этого Олег Павлович Табаков, приехавший в 1948-м тринадцатилетним пионером в Москву, смотрит спектакль “Три сестры” Немировича-Данченко, умершего пять лет назад. И он до конца дней утверждает, что это самое сильное его театральное впечатление. А про диалог без слов Маши и Вершинина в третьем акте, когда она произносит “трам-там-там”, а он “тра-та-та”, Табаков говорил, что ничего более сильного в плане эротизма он в своей жизни ни в одном спектакле, ни в одном театре больше никогда не видел.
С. В. Как интересно!
Г. З. Да. И это был театр, где шел спектакль “Милый лжец”, например, где играли Степанова и Кторов, актеры второго поколения Художественного театра. Табаков, судя по всем воспоминаниям, считал этот спектакль выдающимся, да, но у нас все равно есть ощущение, что к 1970 году, когда театром по-прежнему руководила какая-то там коллегия, он был уже в серьезнейшем упадке…
С. В. То есть МХАТ после войны, после смерти Немировича-Данченко сейчас рассматривается как театр в упадке?
Г. З. Да. Но понимаете, к этому так банально, так просто нельзя подходить. Потому что начало 1950-х годов – это триумфальные гастроли Художественного театра в Японии, вызвавшие абсолютный восторг; именно после этих гастролей начинается невероятный всплеск интереса к европейской театральной традиции… Собственно, весь европейский театр, который существует сегодня в Японии, начался после тех спектаклей. Театр привез туда, скажем, “Три сестры” с введенными в спектакль Маргаритой Юрьевой, другими актерами первого выпуска Школы-студии МХАТ. Первый выпуск Школы-студии МХАТ 1947 года – это третье поколение Художественного театра. Можно, конечно, предположить, что японцы, ничего не смыслящие в европейской традиции, были восхищены чем-то не таким уж замечательным с точки зрения искусства, но именно эти актрисы, эти актеры – Георгиевская, Кошукова, Стриженова, Коркошко, Юрьева, Градополов, Зимин, Губанов, Калиновская и другие, кого при разделении труппы в 1987 году Ефремов не взял в свою часть Художественного театра, оказались теми, чей авторитет и чей действительно выдающийся талант не позволили Дорониной принять приглашение Ефремова и остаться с ним в его, так сказать, демократической половине, и наоборот принять этот вызов самой себе и остаться с ними. Другое дело – дальше мы будем говорить об этом, – что, к сожалению, никому из этих актеров она не дала ничего серьезного, но первый порыв ее был связан именно с тем, чтобы не бросить этих по-настоящему крупных артистов.
С. В. Давайте вернемся к истории. Почему, по вашему мнению, Ефремов решил в 1970 году оставить “Современник” и, взяв своих актеров, все-таки возглавить Художественный театр? Зачем это ему нужно было?
Г. З. Тут очень важно сказать, что он никого с собой не смог взять, потому что первоначально “Современник” проголосовал за то, чтобы отказаться от приглашения Ефремова… Понимаете, “Современник” воспринимал уход Ефремова во МХАТ как предательство. А Ефремов воспринимал их отказ как предательство, потому что он был абсолютно человеком Художественного театра, он как бы по следам Станиславского ушел в студию, чтобы потом этой студией оживить Художественный театр, поэтому для него приглашение Фурцевой было абсолютно естественным, логичным и единственно возможным. То есть он не видел для себя никакого иного варианта, кроме того, что “Современник” вдохнет жизнь в тело умирающего, заглохшего Художественного театра. И он абсолютно был уверен, что они сейчас с “Современником” придут и эту самую жизнь, и эту самую новую кровь вольют – в старые мехи новое молодое вино, – и театр оживет.
А театр отказался от этого счастья. В результате трех, по-моему, многочасовых ночных собраний актеры отказались, заявив, что это невозможно. Один из артистов сказал ему: “Олег, когда-нибудь, когда ты умрешь, в энциклопедии будет статья о тебе, где будет сказано: «Олег Николаевич Ефремов, создатель театра “Современник”, в последние годы жизни руководил Московским Художественным театром им. Горького»”.
С. В. А почему власть решила, что нужно приглашать именно Ефремова?
Г. З. Ну, Фурцева, во-первых, была действительно выдающимся руководителем, а кроме того, вероятно, она как женщина по-настоящему любила Ефремова. Нет, у них никаких связей не было, но Ефремова она любила просто как мужчину. Кроме того, несмотря на всю фронду, Ефремов был для власти своим. Он сын рабочего, хотя на самом деле отец Ефремова не был рабочим, там очень сложная история, как я понимаю, он был водителем, да еще и не просто водителем, а в системе исполнения наказаний, как говорят. Ефремов скрывал, во всяком случае, эти подробности. И было решено, что этот человек, свой одновременно и для власти, и для Художественного театра, сможет вывести театр из кризиса. И он это смог, да. Тут Фурцева не ошиблась, потому что первые годы Художественного театра при Ефремове – это были годы довольно серьезного обновления. И все-таки одного за другим он выдергивал актеров из “Современника” и приводил в свой театр – и Калягина, и Евстигнеева, и Лаврову, и Мягкова, и Вознесенскую, и так далее. Плюс еще у Ефремова, конечно, было невероятное чутье и на режиссеров, и на актеров, причем в этом было что-то, можно сказать, воро́нье, потому что он хватал все, что блестит, нес и приносил к себе в гнездо, но как этим пользоваться, он по-настоящему не понимал. То есть он, например, принял Смоктуновского, но, конечно, это был актер не его манеры. Он позвал Олега Ивановича Борисова, но Борисов ему был совсем не нужен. И все это заканчивалось довольно печально, потому что Борисов от него ушел, проведя немало лет практически на безрыбье. Единственная интересная роль, которую он сыграл, был Астров в “Дяде Ване”, очень малоудачном спектакле, хотя там играл фантастический состав – Смоктуновский, и Вертинская, и Калягин… Нет, Калягин там не играл, Калягин играл в “Чайке” Тригорина. Но понимаете, Ефремову и Калягин был не особо нужен. Да и Смоктуновский сыграл, наверное, свою лучшую роль в спектакле, который поставил не Ефремов, а Додин, это были “Господа Головлевы”. В Олеге Николаевиче было очень много по-человечески прекрасного, однако была и невероятная бесчеловечная режиссерская жестокость. Например, он пригласил безработного Хейфеца и дал ему поставить спектакль по пьесе Арро “Колея”, а потом ничего не давал. И Хейфец однажды пришел к нему, а Ефремов сидел, судя по всему, не очень трезвый за столом. Хейфец постоял-постоял и говорит: “Олег, я ухожу”. Тот отвечает: “Ну и уходи! И правильно делаешь, что уходишь!” И Хейфец ушел. И точно так же ушел Борисов. И потом Ефремов еще уволил Евстигнеева – сам уволил! Это, конечно, трагические сюжеты, потому что ведь у актера как? Жизнь проходит, значит, больше он чего-то уже не сыграет. Или вообще ничего не сыграет, если нет ролей особых… Конечно, и Евстигнеев, и Борисов, и Смоктуновский могли более интересно провести эти годы, в том числе в Московском Художественном театре.
Но все по-человечески прекрасное в Ефремове способствовало тому, что он приглашал безработных режиссеров и режиссеров, которым просто нигде бы в другом месте работать не дали, потому что это были диссидентствующие фигуры, и они находили спасение под крылом Олега Николаевича Ефремова… Среди них был и Кама Гинкас, да и Борисов покидал Ленинград не очень просто. Преследовали его сына, как я понимаю, по 121 статье, ему нужно было убежать. И Васильев, которому Ефремов дал работу, и Додин, потом из следующего поколения Михаил Мокеев. В результате он собрал в Московском Художественном театре лучших режиссеров времени. И ревности к другим режиссерам, в отличие от своих коллег, Ефремов был начисто лишен. Он, казалось, даже получал удовольствие, что, безжалостный в других местах и вне Художественного театра, вот так выручает, спасает людей, неугодных советской власти…
С. В. А скажите, как, по вашему мнению, произошла драматическая история раскола?
Г. З. Поскольку я говорил на эту тему с самим Олегом Николаевичем Ефремовым, и с Татьяной Васильевной Дорониной, и со многими другими людьми, например, с Квашой и с замечательным театральным критиком Верой Анатольевной Максимовой, я в результате сделал вывод, что Ефремов был человеком, которому всегда нужно было, что называется, взвинчивать ситуацию до предела. Более того, он жил с постоянным ощущением кризиса дела, которым занимается. И в этом он был абсолютным наследником, продолжателем и, я бы даже сказал, еще и единокровным родственником Станиславского и Немировича-Данченко, потому что уже в 1902 году, то есть задолго до появления многих и многих шедевров, им первый раз пришло в голову, что эту лавочку пора прикрывать и расходиться. Вот Ефремов, когда я с ним беседовал накануне столетия Художественного театра, в 1997-м, перед Новым годом, – это было одно из самых больших интервью последних лет его жизни, а может, и самое большое… Я его спросил: когда вы делили театр, в труппе было сто двадцать человек, а сейчас, по-моему, девяносто пять. У вас нет ощущения кризиса? Он печально улыбнулся и ответил: “Да ты понимаешь, театр – такая штука… в театре, понимаешь, всегда кризис”. И это слова, которые именно так, с той же искренностью, той же печалью, с тем же ощущением неизбежности точно мог произнести и Станиславский, и Немирович-Данченко. И это, повторяю, было очень искреннее ощущение. И поэтому Ефремов все время жил с желанием что-то изменить. Идея раздела была его идеей, и все же раздела бы, наверное, никогда в жизни не произошло, если бы не появился такой человек, как Анатолий Миронович Смелянский…
Вот сейчас вышла книжка Сергея Николае́вича “Театральные люди”, где он совершенно справедливо рассказывает, что Виталий Яковлевич Вульф считал Смелянского злым гением Ефремова и злым гением Художественного театра, и утверждал, что без Анатолия Смелянского никакого бы раздела не было. Я тоже так считаю, так считала и считает и Доронина, и Ангелина Степанова, многие так считали. И конечно, это была трагедия, но трагедия такая, что… Понимаете, никто, разумеется, не заставлял Ефремова это делать. Идея, повторяю, была его. И актеров, тех, которых он не взял, не взял именно он. И Георгиевскую не взял именно он, и Маргариту Юдину, и Луизу Кошукову и других прекрасных актрис и актеров. А взял он тех, кто от него довольно скоро ушел. И Калягин ушел, и Вертинская ушла, и Борисов. Все эти артисты оказались ему не нужны… Ну, а другие уже умерли. В итоге эта труппа, лучшая труппа, которую он собрал в Московском Художественном театре, не особо где и блеснула. Потому что первый важный для Ефремова спектакль после раздела, “Перламутровая Зинаида”, где играли и Ефремов, и Калягин, и Невинный, и многие другие, по пьесе Михаила Рощина, которую Ефремов заставлял переписывать семь, а то и больше раз, – это был вымученный, очень неудачный спектакль. И так и пошло… Эти выдающиеся актеры уходили от Ефремова, потому что невозможно было существовать в неудачном театре. Они пришли, чтобы существовать в главном театре страны, а оказались в театре, где все удачи пришлись на время до раздела, до их прихода. Это и “Господа Головлевы”, и “Кроткая”, и “Иванов”, и многие другие спектакли. А после раздела пошли один за другим точно такие же вымученные спектакли, где были выдающиеся роли, в том числе и у самого Ефремова. Например, был потрясающий в его исполнении Борис в очень неудачном спектакле “Борис Годунов”. Ефремова часто называют “горбачевцем”, и в этом спектакле во второй половине 1990-х он сыграл собственную версию трагедии народной нелюбви к власти в России. И в первую очередь к либеральной власти. Именно этим мучился ефремовский Годунов, об этом твердил в своих монологах: он никого не убивал, а страна, тем не менее, его отвергла и в ответ совсем не любит. Для него это трагическое открытие, как и для Горбачева было.
Нет, были какие-то еще спектакли, хорошие спектакли. Но больше было печальных анекдотических историй вроде поездки Художественного театра в Америку на, так сказать, исторические гастроли по следам легендарных гастролей 1920-х годов… Театр прилетел играть “Три сестры”. Это был, наверное, единственный по-настоящему великий спектакль, прощальный спектакль Ефремова 1997 года. Спектакль, где не было ни одной крупной удачи в главных ролях, но зато прекрасно играла Пилявская няньку, прекрасно играл Владлен Давыдов Ферапонта, Невинный гениально играл Чебутыкина. И были какие-то очень сильные сцены, скажем, у Майоровой – прощание с Вершининым, уход Тузенбаха (Гвоздицкого) на дуэль, и потрясающей красоты и трагизма декорации Левенталя. И вот труппа летит в Америку, садится самолет, и выносят совершенно пьяного артиста, по иронии судьбы фамилия его была Алексеев. Он играл то ли Федотика, то ли Родэ. Ему, значит, дали проспаться и отправили обратно в Москву. В Москве за ним приехала замдиректора театра Ирина Корчевникова, но Алексеев уже и на обратном пути успел напиться. И забирали его из отделения милиции, он совершенно был не транспортабелен. Такая была по-своему смешная и одновременно грустная история…
Так что когда Табаков пришел и заявил, что для работы театра первым делом он будет вытаскивать, выковыривать окурки из батарей и выносить стеклотару из гримерок, коридоров и курилок… В этом доля правды была, хотя и в “Табакерке” у Табакова тоже неплохо принимали на грудь актеры, особенно когда Табаков с ними на гастроли не ездил… хорошо тоже выпивали. Ну, дело-то не в этом, а в том, что, например, на последнем спектакле ефремовского МХАТа, – очень интересной постановке Вячеслава Долгачева по автобиографической пьесе Толстого “И свет во тьме светит”, где ну просто предвосхищает Толстой свою собственную дальнейшую жизнь со всеми этими переживаниями, нравственными метаниями и исканиями, хорошем спектакле, где замечательно играл Щербаков, например, и другие актеры, – был полупустой зал. Может быть, половина, может, шестьдесят процентов зала было заполнено. Потому не зря Табаков говорил, что очень важно вернуть зрителей в театр. Это то, что ему удалось сделать, и то, что не удавалось в последние годы Ефремову. Театр тех лет был, знаете, как в стихотворении известном:
Качался старый дом, в хорал слагая скрипы,
и нас, как отпевал, отскрипывал хорал.
Он чуял, дом-скрипун, что медленно и скрытно
в нем умирала ты и я в нем умирал.
Вот в Художественном театре последних лет умирал Ефремов и вместе с ним умирал театр. В том последнем интервью что-то такое он говорил про кризис… Я спрашиваю: какие-то старые, известные нам диагнозы? Он говорит: да не-е-ет, для этого диагноза уж здоровья нету…
С. В. То есть Табакову удалось, по-вашему, добиться выхода из этого кризиса?
Г. З. Творчески нет, конечно, а как фабрике по производству спектаклей – да. Табаков был выдающимся менеджером, но он был совершенно лишен, скажем так, большой художественной идеи. У него не было великого замысла художественного. Того, что было, конечно, у Ефремова. Олег Павлович превратил театр в такую производственную мощность по выпуску качественного театрального продукта…
С. В. А как же “Табакерка”?
Г. З. …и одновременно он забросил “Табакерку”. Я считаю, это была просто трагедия для театра с выдающимися актерами, потому что поначалу Табаков вроде бы занимал их в спектаклях МХТ, и Хомякова привлекал, и Смолякова, но чем дальше, тем меньше… Чувствовалось, что театр выпал из сферы табаковских интересов, а кому-то передоверить его он не то чтобы побоялся – он не боялся никогда искать преемника, в отличие от других режиссеров. Но это тоже, наверное, было его бедой: поскольку сам он постоянно публично декларировал финансовый успех как кредо, как одну из главных (а может, и главную) цель и своей жизни, и жизни театра, то его собственные ученики тоже организовывали свой бизнес актерский, как Владимир Машков, или свой театр, как Женя Миронов и Безруков, – то есть они в итоге от него отпочковывались и уходили в свое собственное театральное приключение, а не работали на славу учителя вместе с ним. И все это обернулось, на мой взгляд, довольно жестоко, когда Евгений Миронов возглавил Театр Наций, который располагается в бывшем филиале Художественного театра, который, в свою очередь, Табаков вот-вот надеялся вернуть в Художественный театр. Для него было шоком, что Миронов ушел в этот театр и фактически закрыл Табакову дорогу к этому самому возвращению, и он остался без филиала. И другая история, уже под конец жизни, когда была странная затея со стройкой на Коломенской, которая до сих пор не завершена.









































