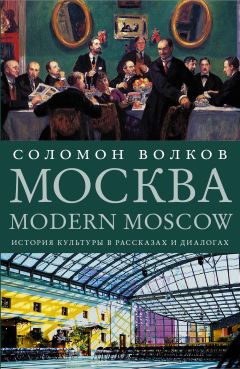
Автор книги: Соломон Волков
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Драгоценную икону подвергали реставрации еще дважды – в 1918-м и 1926 годах. Окончательно “раскрыта” она была только в 1929 году, после помещения в Третьяковскую галерею. Предание определяло живописную манеру Рублева словами “дымом писано”. После реставраций “Святая Троица” засияла золотом и лазурью. Именно такой знают ее и восторгаются ею в наши дни. И неважно, что перед нами – сочетание разновременных слоев живописи… Как сформулировал еще в 1915 году Пунин: “Не все ли равно, кто написал икону Святой Троицы? Не все ли равно, что написал А. Рублев? Важно лишь то, что существовал Рублев и что икона Святой Троицы была написана…”[30]30
Там же. С. 47.
[Закрыть]
* * *
Уже тогда, в предреволюционные годы, зародилось особое отношение к “Святой Троице”: ее воспринимали как национальный символ. Сейчас появилась тенденция рассматривать начало века как некую райскую эпоху. Однако такой она отнюдь не была. Мыслящие люди ощущали неизбежность перемен, близость сейсмических потрясений. Кто-то ждал их с нетерпением, а кто-то и с ужасом. Философ Николай Бердяев вспоминал: “Ничего устойчивого более не было. Исторические тела расплавились. Не только Россия, но и весь мир переходил в жидкое состояние”[31]31
Бердяев Н.А. Самопознание. М., 1990. С. 154.
[Закрыть].
Общее для русской прогрессивной элиты ощущение катастрофичности бытия питало ее эсхатологические настроения. Позитивизм, еще сравнительно недавно модный, подвергался осмеянию. Вячеслав Иванов, гуру символизма, определял новые настроения как “религиозную реакцию нашего национального гения против иконоборческого материализма”. Ему вторил Белый: “Искусство не имеет никакого собственного смысла, кроме религиозного…”[32]32
Белый А. Символизм. Книга статей. М., 1910. С. 223.
[Закрыть]
Неудивительно, что отношение к “Святой Троице” Рублева в продвинутых художественных кругах сделалось теперь почти экстатическим. Чтобы полнее восчувствовать эту атмосферу, вновь обратимся к Пунину. Он был трезвым критиком и человеком ироничным, в чем-то даже циничным, но о рублевской иконе писал как о произведении “такой вдохновенной красоты, что мы, как цветы к солнцу, возносим к ней свою душу. <…> Ее нежная грация, ее вдохновенная мистическая сила не перестают волновать воображение; можно приподнять слой за слоем черты ее стиля; можно раскрыть ее содержание, но и после долгого и тщательного анализа остается еще нечто, что придает этому памятнику очарование, по-видимому, неисчерпаемое; словно жизнь продолжает питать эти линии, эти лики, и каждый новый день ложится на них светом своих лучей, горестью своих забот и тоскою своего умирания”[33]33
Пунин Н.Н. Русское и советское искусство. М., 1976. С. 45.
[Закрыть].
И этот исполненный экзальтации дифирамб иконе появился в журнале “Аполлон”, самом влиятельном художественном издании предреволюционной поры, где прокламировался переход от дионисийского буйства прошлых лет к новой аполлонической ясности!
Большие выставки древнерусского искусства шли одна за другой, стали издаваться сборники “Русская икона”. Об иконах писали и в высоколобом журнале “София”, и в популярных газетах. И, как полагается, сей иконный ренессанс вызвал ожесточенную полемику. Не желая отдать монополию на древнерусское искусство символистам и акмеистам, со своей интерпретацией иконописи выступили московские художники-авангардисты.
* * *
Это было время мощного расцвета московского авангарда. В декабре 1910 года газеты оповестили об открытии на Большой Дмитровке “выставки живописи – «Бубновый валет»”. Это сочетание уже звучало как вызов! “Выставка живописи” – это нечто высококультурное, даже духовное… А “Бубновый валет” ассоциировался не только с игорным притоном, но и с “бубновым тузом” (так называли тогда ромбовидную нашивку на спине робы каторжанина).
Идея окрестить себя “бубновыми валетами” принадлежала Михаилу Ларионову, одному из лидеров группы молодых московских художников, в которую входили также Наталья Гончарова (верная спутница и соратница Ларионова), Аристарх Лентулов, Петр Кончаловский, Илья Машков и другие. Все мужчины в этой группе были как на подбор дюжими широкогрудыми русскими молодцами, но высокий, белобрысый, светлоглазый Ларионов особенно выделялся своей шумливостью и веселым напором. А стройная узкобедрая Гончарова, с ненакрашенным, гладким, почти иконописным лицом, когда начинала, поразмыслив, рассуждать об искусстве, то, словно по контрасту, говорила медленно и серьезно. Гончарова и Ларионов были неразлучны, но упаси боже назвать Гончарову при Ларионове его женой – он тогда лез в драку.
Как вспоминал Лентулов, всем им претили и скучные анонсы “Товарищества передвижных художественных выставок” или “Союза русских художников”, и претенциозные названия символистских выставок вроде “Золотого руна” или “Голубой розы”. Когда Ларионов предложил свой эпатажный вариант – “Бубновый валет”, то даже дерзкий Лентулов поначалу заколебался. Но потом было решено: “Чем хуже – тем лучше!”[34]34
Лентулова М.А. Художник Аристарх Лентулов. Воспоминания. М., 1969. С. 32.
[Закрыть]
Расчет был на скандал, и он полностью оправдался. Посетителей вернисажа встречала афиша над входом, на которой, как на картах, были изображены два бубновых валета, один вверх головой, а другой – вниз. Гвоздем выставки было огромное, написанное за несколько дней полотно Машкова “Автопортрет и портрет Петра Кончаловского”: у одного художника в руках скрипка, у другого – ноты (слева раскрытое пианино, на крышке которого красуются толстые книги с надписями “Библия”, “Сезанн”). Но при этом, кроме спортивных трусов, на них ничего нет, на полу стоят гири и штанга, а справа на столе – откупоренная бутылка бенедиктина. Эта работа ошарашила даже Лентулова и Ларионова, который поначалу отказывался ее выставить и уступил только после долгих препирательств с Машковым.
Пресса набросилась на выставку “Бубнового валета” с остервенением. Наиболее типичным было ее сравнение с сумасшедшим домом: “Это какой-то кошмар, сплошной горячечный бред, галлюцинация безумных… Преподносится разноцветный бедлам – продукт разлагающегося человеческого мозга, насыщенного ядовитыми микробами… «Бубновому валету» настоятельно необходим психиатр. Необходима «смирительная рубашка»…”[35]35
Крусанов А.В. Русский авангард 1907–1932. (Исторический обзор). В 3 т. М., 2010. Т. 1, кн. 1. С. 257, 262.
[Закрыть]
Те репортеры, что были пограмотнее, пытались уязвить молодых художников сходством с модными французами: “Наши новокрещеные Матиссы… бездарные эпигоны… подражатели-дилетанты…”
Когда Матисс через десять месяцев приехал в Москву, то ему, разумеется, устроили встречу с этими молодыми и задорными русскими авангардистами, которых репортер охарактеризовал как “целую группу русских Матиссов… из компании «Бубновых валетов»”. Среди них были Ларионов, а также Кончаловский и Машков. Их французский мэтр пообещал навестить особо (но так этого, видимо, и не сделал).
В разговоре с “бубнововалетцами” Матисс вновь выразил свое восхищение древними иконами: “Это примитив, это доподлинное народное искусство. Здесь первоисточник художественных исканий. Современный художник должен черпать свое вдохновение в этих примитивах”.
Именно это “валеты” и хотели услышать! Большинство из них находилось тогда под сильным впечатлением от народного искусства: старинных лубков, вывесок, расписных подносов. И, конечно, икон! Восприняв (во многом благодаря знакомству с коллекцией Щукина) новейшие достижения европейской живописи, “валеты” жаждали создать свой национальный неопримитивистский стиль: яркий, вызывающе грубый, выражающий сильные чувства.
Матисс их поощрял: “Я жду многого от русского искусства, потому что я чувствую, что в душе русского народа хранятся несметные богатства; русский народ еще молод, он не успел еще растратить жара своей души”[36]36
Там же. С. 325.
[Закрыть]. И мэтр еще и еще раз настойчиво напоминал о мистической мощи старинных икон…
* * *
Эти мистические чувства – на свой, разумеется, лад – надеялись передать в своих работах и Лентулов, и Ларионов, и особенно Гончарова. Она меньше всех из группы стремилась эпатировать публику. На публичных диспутах, которые устраивались авангардистами, они вели себя вызывающе, оскорбляя оппонентов, публику и даже друг друга. Их лексика была такой, что даже бульварные газеты, со смаком описывавшие эти поединки, предпочитали не воспроизводить ее дословно. Публика в ответ свистела, топала ногами, гомерически хохотала. Но когда на кафедру всходила Гончарова, тихо и вдумчиво вещая о смысле и целях современного искусства, смех стихал. Ее слушали внимательно и даже провожали аплодисментами.
Лентулов, щеголявший на вернисаже “Бубнового валета” с деревянной ложкой в петлице сюртука, мог выставить автопортрет под названием “Великий художник”, на котором он представил себя в ухарской позе в желтом кафтане, с лиловыми ногтями и, самое кощунственное, с нимбом вокруг головы. Гончарова ничего подобного себе никогда не позволяла. Она выставляла “Богоматерь с младенцем”, “Бегство на пути в Египет”, “Ангела”, “Бога-Отца с семью свечами” – все это без малейшего эпатажа.
Вершиной религиозной живописи Гончаровой можно считать тетраптих “Евангелисты”: они изображены на узких холстах, еле вмещающих их мощные неуклюжие фигуры, с сосредоточенно опущенными либо страстно вознесенными головами, тяжелыми руками и ногами. Влияние древнерусской иконы здесь особенно очевидно, да Гончарова и не стремилась его скрывать.
Православная церковь к подобным работам Гончаровой относилась враждебно, подозревая в них некое богохульство. Не раз и не два их пытались снимать с выставок. И это при том, что к различным формам “богоискательства”, столь популярным в среде московского символизма, наиболее просвещенные церковные иерархи особой неприязни не выказывали. Но, видимо, символисты представлялись им – по сравнению с буйными авангардистами – приемлемыми собеседниками, хотя среди них можно было найти немало откровенных “еретиков”: оккультистов, адептов спиритизма и даже сатанистов.
И здесь таится любопытный парадокс, на который, как мне кажется, до сих пор не обращали должного внимания. Пресса, публика и большинство художественных авторитетов обвиняли “бубновых валетов” во всех смертных грехах. Их обзывали бездарями, шарлатанами, убогими эпигонами. Все эти нападки, как давно уже стало ясно, были абсолютно беспочвенными и вздорными. О выставках “Бубнового валета” (как и о показах других авангардистов) часто писали как о балагане. Это было немного ближе к истине: сами “валеты” не скрывали, что эстетика народного балагана им по нраву.
А парадокс заключается вот в чем. “Валетов” в прессе именовали еще и юродивыми – походя, в пейоративном смысле. Но между тем именно это внешне обидное сравнение было бы наиболее содержательным и справедливым. Для меня глубинная связь молодых московских авангардистов с древнерусскими юродивыми очевидна.
Как мы знаем, юродивые в большинстве своем вовсе не были сумасшедшими. Маску безумия они надевали на людях. Только перед народом юродивые начинали “баловать”, лицедействовать. Их даже сравнивали с профессиональными актерами, хотя средневековая Москва не имела театра в нынешнем понимании этого слова. Тогдашними актерами были скоморохи.
Скоморошеское начало в творчестве “бубновых валетов” чувствовалось очень сильно. Но они, как и древнерусские юродивые, своим скоморошеством не просто развлекали аудиторию – они ее учили. Их “шаловство” было преднамеренным, их “безобразие” – нарочитым. Маска балаганного глумления скрывала высокие дидактические цели, столь типичные для русского авангарда. Внешне издеваясь над публикой, “валеты” стремились вывести ее на путь духовного возвышения и в конечном счете спасения. Их можно считать “новыми юродивыми” русской культуры.
* * *
Примечательно, что разговоры с Матиссом в октябре 1911 года послужили московским авангардистам существенным катализатором в их эстетических исканиях. Лестные слова французского мэтра об особой миссии русской культуры, которой нечему больше учиться у Запада, ибо она еще не растратила “жара своей души”, были мгновенно апроприированы.
Уже в декабре того же года друг Пастернака, молодой поэт и теоретик Сергей Бобров, выступая с докладом на Всероссийском съезде художников от имени московских авангардистов (он окрестил их русскими пуристами), самоуверенно провозгласил: “В настоящее время, как мы полагаем, русские пуристы перестали учиться во Франции. Преодолев французов, русские пуристы увидели, что на их родине так много еще нетронутого и неразработанного. Наши изумительные иконы – это мировые венцы христианского религиозного искусства, наши старые лубки, северные вышивки, каменные бабы, барельефы на просфорах, на крестах и наши старые вывески. Здесь столько нового, никем не тронутого. Теперь, кажется, любят старину художники, занимаются ею, но почему-то сами они не идут далее дешевой и пошловатой стилизации, не понимая, не чувствуя громадной живописной ценности бесхитростных этих шедевров. Но русские пуристы, приглядев все эти ценности, сжились с ними, вошли в самую душу их. Отныне наша родная старина, наш архаизм ведет нас в неизведанные дали”[37]37
Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX – начала ХХ века. М., 1993. С. 180–181.
[Закрыть].
* * *
В 1915 году Гончарова и Ларионов уехали из России в Париж – и получилось, что навсегда. Там их творческая деятельность оказалась тесно связанной с легендарной антрепризой Сергея Дягилева “Русские сезоны”. Эти годы – до внезапной смерти Дягилева в 1929 году – стали временем шумной международной известности обоих художников. Их декорации и костюмы к спектаклям на музыку Римского-Корсакова, Стравинского, Прокофьева поражали яркостью, пышностью, экзотизмом – европейская элита ими восхищалась.
Потом пришли трудные времена. Как вспоминала Татьяна Яковлева-Либерман (та самая, адресат любовных стихов Маяковского), с которой я познакомился в 1970-е годы в Нью-Йорке, в довоенную эпоху картины художников-иностранцев в Париже продавались плохо. Даже самые значительные из них зарабатывали на жизнь иллюстрированием книг, росписью тканей, разного рода оформительской работой.
Этим занялись и Гончарова с Ларионовым, поселившись в двухкомнатной квартирке на пятом этаже (без лифта) по улице Жака Калло. В каждой комнате, рассказывала Яковлева, было по одному окошку. Квартира была забита эскизами, рукописями, книгами – даже постель Гончаровой была обустроена на них.
В конце их долгой жизни (Гончарова умерла в 1962 году, Ларионов – в 1964-м) распродажа этих сокровищ редко наведывавшимся коллекционерам стала для художников главным источником дохода. Жили они, по словам Яковлевой, скудно, но никогда не жаловались. О России вспоминали с ностальгией, иногда встречались с гостями из Советского Союза, но приехать в Москву так и не собрались. Да никто их туда и не звал, хотя ни в каких враждебных политических акциях они замечены не были (Гончарова приняла французское гражданство лишь после того, как прожила в Париже двадцать пять лет).
Один из советских визитеров, прозаик Владимир Лидин, описал Гончарову, какой увидел ее в 1961 году: “Ее бедные, некогда широко владевшие декоративной кистью руки были скрючены от ревматизма, и вся она была высохшая, как бы еле существующая”[38]38
Лидин Вл. Г. У художников. М., 1972. С. 76.
[Закрыть]. Но Гончарова гордо сказала Лидину: “Я ведь продолжаю работать. Конечно, писать картины я уже не могу, но я беру карандаш в обе руки и рисую…”
У Кончаловского, который после выхода Гончаровой и Ларионова из “Бубнового валета” стал (вместе с Лентуловым) ведущим участником этого художественного объединения, тоже была возможность поселиться в Париже. В 1924 году у него там прошла весьма успешная выставка; Кончаловского приметили, работы его начали продаваться.
В отличие от Гончаровой и Ларионова, Кончаловский блестяще говорил по-французски. В начале века он жил в Провансе, обожал Сезанна, любил французскую кухню. Но вернулся в Советский Союз, чтобы всю оставшуюся жизнь тосковать по Франции. Почему он так поступил? Его внук, кинорежиссер Андрон Кончаловский, считал, что художник был европейцем, которому жить надо было в России.
Да, так бывает. В Советской России Кончаловский обустроился на зависть многим другим бывшим авангардистам, стал народным художником РСФСР, действительным членом Академии художеств. В 1943 году, в разгар войны с Гитлером, был удостоен Сталинской премии первой степени – “за многолетние выдающиеся заслуги”.
У Кончаловского имелась роскошная мастерская в Москве, на Садовом кольце. Но жил он в собственном поместье в ста километрах от столицы. Трудоголик по натуре, Кончаловский с увлечением писал с утра до вечера – портреты, пейзажи, натюрморты. Все покупалось музеями или частными заказчиками и коллекционерами: работы мастера ценились высоко.
В своем “советском” поместье Кончаловский наладил крепкое хозяйство: разводил коров, свиней, баранов. В батраках у него были местные колхозники. А художник самолично окапывал яблоневый сад, собирал мед из ульев. Построил коптильню, где изготовлял любимый им хамон. Копченые окорока, связки лука и перцев висели в обширной кладовой, там же стояли мед в банках и стройные ряды бутылок с вином.
Все это не только шло на стол, но и использовалось в постановке натуры для знаменитых “голландских” натюрмортов художника, живописавших “советское благоденствие”. Анахронистическая “барская жизнь” Кончаловского много позднее была отражена в талантливых ностальгических кинофильмах его внуков Андрона Кончаловского и Никиты Михалкова – “Дворянское гнездо”, “Дядя Ваня”, “Обломов”.
При этом в кругу ближних Кончаловский комментировал советские порядки и нравы весьма иронично. Позволил себе однажды и более опасную публичную шутку. Когда в конце 1930-х годов Кончаловскому, прославленному портретисту, власти заказали портрет Иосифа Сталина (а от такого предложения вряд ли кто в те жестокие времена посмел бы отказаться), художник поинтересовался: “А Сталин будет мне позировать?” Ему ответили: “У товарища Сталина на это времени нет! Делайте по фотографии”. И услышали от Кончаловского буквально следующее: “А я реалист и не могу писать портрет по фотографии! Я пишу только тех, кто может мне позировать!”[39]39
Михалков С.В. От и до… М., 1998. С. 208.
[Закрыть]
Этот смелый жест сошел художнику с рук еще и потому, что он – вероятно, не без умысла – явно культивировал эксцентричность своего образа, унаследованную от давней маски “секулярного юродивого” эпохи “Бубнового валета”. Только теперь, в коллективистское советское время, это была маска “дикого барина”, живущего на отшибе, без электричества, водопровода, телефона и радио, потому что “живопись лучше смотреть при свечах или при свете керосиновой лампы”, а без новостей “жить спокойнее”…
Феномен московского коллекционерства
Диалог с Мариной Лошак
Соломон Волков. Для меня большая честь, что вы нашли время для разговора со мной. Книга моя начинается 1897 годом, встречей Станиславского и Немировича-Данченко и открытием Чехова как драматурга – успехом его “Чайки”. Следующая за ней глава рассказывает о знаменательном событии, которое связано с “прямотекущей” программой Пушкинского музея. Это визит Матисса в Москву по приглашению Сергея Ивановича Щукина и тот сногсшибательный эффект, который Матисс произвел на Москву и москвичей. Я был очень взволнован, когда узнал, что Пушкинский музей готовит грандиозную выставку, посвященную Сергею Ивановичу Щукину и всей его семье.
Марина Лошак. Да, выставка “Щукин. Биография коллекции” откроется 17 июня.
С. В. Как я понимаю, выставка расскажет о роли Щукина и его братьев в налаживании чрезвычайно важных мостов между авангардной Москвой и авангардным Парижем? О расцвете московской художественной жизни?
М. Л. Именно, причем в Париже эта выставка уже проходила. Она открылась в 2016-м, в Фонде Louis Vuitton. Мы предполагали, что она станет важным событием, но не думали, что побьет все существующие рекорды этого богатого на выставки города: ее посетили один миллион двести пятьдесят тысяч человек. До этого миллион зрителей собрала лишь выставка сокровища Тутанхамона, проходившая в середине 1960-х. Выставка Щукина поразила французов тем (я-то думала, что они об этом знают), что такое количество шедевров французских импрессионистов находится за пределами Франции. А ведь они еще не видели Морозова! Выставка, посвященная второму нашему великому коллекционеру с работами из собраний Пушкинского музея и Эрмитажа, откроется в Париже в октябре 2020 года.
Наша версия выставки Сергея Щукина ставит перед собой совершенно другие задачи. Судьба этого коллекционера связана с историей XX века, с судьбой нашего музея, с коллегами, нашими предшественниками в этом музее. Мы знаем о Щукине много подробностей, у нас хранится весь его архив. Мы стали практически частью его семьи – таковыми себя ощущаем. Долгое время имени этого коллекционера, как и имени Морозова, словно не существовало вовсе. Собранные ими вещи прятались, сохранялись, потом Музей их впервые показал, но долгие годы широкая публика не знала, чьи это вещи и откуда они. И буквально на моей памяти возникло понимание, что вообще-то за этими коллекциями стоят конкретные люди и конкретная история. История глубоко трагическая. Сегодня наша задача не просто показать энное количество фантастических шедевров – хотя, конечно, собранные воедино, они производит необычайное впечатление, – но пойти глубже: рассказать историю Коллекционера. Выставка называется “Щукин. Биография коллекции”. Биография коллекции как биография человека – в данном случае коллекция и человек неразделимы. И это также важно понимать, исследуя феномен московского коллекционерства. Страстность – есть главное в понимании того, кто такой московский коллекционер. Любыми путями он стремится реализовать себя как личность, оттого каждая московская коллекция – это образ человека, который ее создает. Она очень субъективна, но очень мощна, потому что амбиции диктуют собирательский перфекционизм. Абрам Эфрос ярко, наглядно описывает все то, что входило в понятие московского коллекционирования. И Щукин – история, действительно, не петербургская, а московская, которая продолжена и в сегодняшнем коллекционерстве.
Невозможно представить образ Сергея Щукина без понимания того, кем были его братья. Все братья были энергичны, прекрасно образованны, обучались в Германии, Франции, Финляндии. Абсолютные европейцы, при этом по-азиатски страстные. И, что важно помнить, старообрядцы, то есть люди строгих нравственных принципов.
Каждый из них был страстным коллекционером: широкий и бессистемный Петр, по-немецки собранный Дмитрий, европеец Иван. А Сергей вобрал все качества братьев. Он стал успешным предпринимателем (ни Петр, ни Иван, ни Дмитрий не хотели заниматься коммерческой деятельностью), человек системный и в бизнесе, и в собирательстве, как коллекционер Сергей Щукин, конечно, вырастает из бизнеса, которым он занимался. Он привык видеть декоративные ткани, часто с ярким экзотическим рисунком или, наоборот, строгим французским. В его профессии надо искать истоки его коллекционерского вкуса… Мы пытаемся как-то транскрибировать историю превращения Сергея Щукина в мецената-собирателя, главного коллекционера среди братьев. И его жизненный путь – это ярчайший пример того, каким может быть московский коллекционер.
В старшем брате Сергея – Петре Щукине, я чувствую родственную душу: если вижу вещь, в которую готова влюбиться, буду пытаться любым способом ее заполучить, чтобы эту любовь продлить. Петр покупал все, что ему казалось важным. Коллекция его была чрезвычайно разнообразна. На фотографиях, которые есть у нас, видно, что дом его был наполнен разнообразной красотой: древнерусским искусством, историческими портретами, экзотическими тканями, коллекциями каких-то гвоздей, крючков и неожиданно – там же – импрессионисты. Это образ Зевса – собирателя мира. Фантастический персонаж. Это видно по всему: по коллекции, которую он создал, по его отношению к этой коллекции, по ее подробному описанию. В результате она была подарена Историческому музею. Все братья Щукины были истинными русскими меценатами.
Что касается Дмитрия… Дмитрий – тихий человек, который ненавидел предпринимательство, мечтал от всех скрыться и заниматься лишь тем, что любит. Жил в квартире, напоминавшей своей атмосферой любимых им “малых голландцев”, с таким же сереньким светом, такой же упорядоченностью и такой же поэтичностью. На выставке мы создадим образ каждого из братьев Щукиных в отдельности, и зал Дмитрия сделаем именно таким, “вермееровским”. Кстати, у Дмитрия был Вермеер, который находится сейчас в Музее Метрополитен, а чудесный ранний Рембрандт из его коллекции входит в состав постоянной коллекции амстердамского Рейксмюсеума. Остальная же коллекция им была завещана Румянцевскому музею, собрание которого, как вы знаете, перешло в состав Пушкинского музея. Произведения из коллекции Дмитрия украшают наши залы и сейчас. Поэтому мы считаем Дмитрия Щукина своим, так же как Исторический музей считает своим Петра Щукина. Вот сейчас, складывая экспозицию, обращаемся за экспонатами к нашим коллегам из Исторического музея – у них множество прекрасных вещей. И прямо говорим: “Петр же ваш, а ваш должен быть не хуже нашего, поэтому давайте все, что только можете”.
Ну и, наконец, брат Иван – это мой любимый персонаж, человек, который открыл для Сергея французское искусство, был его проводником в парижской жизни.
Очевидно, становление Сергея Щукина было связано с преодолением: третий ребенок в семье, он был очень болезненным, страдал заиканием. Он ежедневно боролся со своими недугами, выстроил себя физически крепким. И точно так же он преодолевал свое непонимание нового в искусстве. Мы знаем историю, как, впервые увидев работы Пикассо, Щукин перестраивал себя. Он любил Моне и Гогена, но с кубистическим Пикассо не сразу примирился. Покупая первую кубистическую работу – “Женщина с веером”, Сергей Щукин понимал, что картина ему необходима (сам он пишет, что покупает то, что его возбуждает). Он купил работу, которая его взволновала, но при этом была ему отвратительна. Он не мог даже повесить ее в комнате, где находились любимые вещи, а поместил в коридоре. Каждое утро Щукин проходил мимо картины, пытался привыкнуть. Затем привык, полюбил, перевесил и уже не мог без нее жить. Вот покажите мне другого коллекционера, который готов заставить себя полюбить чуждое ему искусство! Так же было с “Танцем” и “Музыкой” Матисса. Он заказал художнику два панно для своего особняка, а увидев, понял, что не может, не хочет вешать их у себя в доме. Щукин осознавал, что сделал немало рискованных шагов, но, приобретая эти авангардные полотна, переступает важную черту. И он нашел в себе силы, заставил себя не отказаться от предложенного Матиссом.
Сергей Щукин – это мой, наш герой. Делая выставку, мы рассказываем обо всем: о начале его увлечения, о моменте расцвета, о радости открытия, которое может изменить все представления общества об искусстве. Рассказываем о его общении с молодыми художниками, благодаря которому и появился русский авангард.
Очень важна последняя часть выставки, то, что мы называем “жизнь после жизни”. Щукин уехал в Париж, жил в отличие от многих безбедно (у него оставались деньги в европейских банках). Но, в общем-то, жизни уже не было, потому что не происходило ничего, что могло бы его взволновать. Все, что он любил, осталось в России. Жизнь застыла. Он пытался что-то коллекционировать, купил Дюфи, но по сравнению с тем, что осталось в России, это были слабые вещи. Ушел нерв, исчезло то, что диктует радость жизни, необходимость совершать смелые шаги. Он даже не общался с Матиссом: ему было нечего взять у художника, и тот почувствовал себя свободным… Для нас невозможно забыть последние двадцать лет жизни Щукина без коллекции, без России.
В России остался его дом, и мы должны о нем рассказать. Особняк в Большом Знаменском переулке, наполненный удивительными работами, энергией, – он и был Щукиным, это вполне одушевленная вещь. После 1946 года дом перешел в ведение Министерства обороны. Выставкой мы хотим подать сигнал миру о том, что особняк Щукина должен вернуться в культурный оборот. Когда были экспроприированы великие коллекции московских собирателей, в том числе Щукина и Морозова, был создан музей ГМНЗИ, Музей нового западного искусства. Но этот музей родился как следствие революции, коллекции не были добровольно ему пожертвованы. Необходимо эту часть нашей драматической истории постараться исправить. Да, это был музей, поражающий воображение. Музей, трагически разрушенный в 1948 году, в годы борьбы с формализмом. Разве можно забыть, как величайшие шедевры модернистской живописи стояли в Итальянском дворике Пушкинского музея и два директора, Меркуров и Орбели, резали пополам уникальнейшее в мире собрание! И это еще одна до сих пор не зажившая рана. Поэтому соединение на нашей выставке двух частей коллекции – попытка признать весь ужас той ситуации, еще раз ее пережить. Не просто продемонстрировать набор шедевров, чтобы все опять осталось за скобками, за стенами музея. Нет, мы хотим, чтобы эта история ощущалась как наш очень личный драматический рассказ.
С. В. Я хотел вот что уточнить: вы упомянули о старообрядческих истоках страсти к собирательству и меценатству. Для меня это всегда был парадокс. С одной стороны, эта страстность, имевшая, вероятно, религиозные корни. С другой – присущий старообрядцам, о чем многие пишут, расчет, аккуратность, основательность в ведении дел. Как это сочетается? Мне кажется, московское старообрядчество – это одна из важнейших сил, которая привела к необычайному расцвету российской дореволюционной культуры.
М. Л. Это правда. Безусловно, это весьма серьезная тема, и речь тут не только о Щукине, а шире: Морозов, Третьяков – тоже старообрядцы. Люди целостные, с принципами, прежде всего. Принципы – это всегда система, всегда стержень. Какими бы разными они ни казались – вспоминается Петр Щукин, артистичный и на первый взгляд бессистемный в своих собирательских пристрастиях, – но у них всегда есть стержень. И речь идет не только о коллекционировании: эти люди во всем являли образец социокультурной сознательности. Благодаря им появились больницы для бедных, школы для неимущих и прочие социальные институты.
С. В. Хотел бы спросить, а сохранилась ли эта старообрядческая традиция, этот дух меценатства, рассчитанного на десятилетия, а, может, и на больший срок? Щукины и Морозов работали, как мы сейчас видим, на будущее, да и Художественный театр, основанный также на старообрядческие деньги, стоит до сих пор. Большой театр обязан частным вложениям Мамонтова и Зимина.
М. Л. История русского меценатства, не только старообрядческого, имеет непосредственное отношение к становлению нашего музея, который был построен почти исключительно на частные деньги. Например, Нечаев-Мальцов, которого Цветаев заразил своей идеей, – богатейший человек своего времени, миллиардер, владевший, в частности, Гусевским хрустальным заводом. Поначалу он участвовал в создании музея осторожно, а потом так страстно увлекся, что в конце жизни, потратив на строительство огромные деньги, оказался на грани разорения.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































