Текст книги "Смерть во фронтовом Киеве"
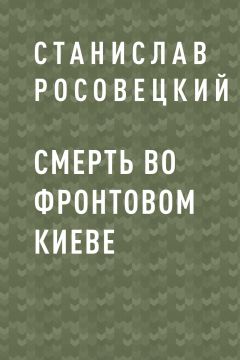
Автор книги: Станислав Росовецкий
Жанр: Героическая фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Глава 1
Были тучи густы,
гибель лилась ливнем.
«Эпос о Гильгамеше».
Ночь выдалась спокойная. Далекие хлопки перестрелки у моста Патона, днем скользящие поверх сознания как рутинный городской шум, сейчас, понятно, слышнее, однако и они только подчеркивают тишину, нависшую над скатом древней Горы, над домом, что напротив Золотых ворот средневекового города. Откуда тогда оно выползло, чувство, нет, скорее ощущение опасности, отравляющее Сураеву наслаждение дружеским застольем? Комендантский час, вот…
– И всё-таки – как эти мулькы у вас начались, рэбята? – акцент у Генки Флоридиса явно усилился, но слова подбирает с прежней легкостью.
Неужто не наслушался ещё об этом за две-то недели? Вопрос Генкин, ко всей компании обращенный, Сураев проигнорировал. Сидит, заставляя себя не смотреть на часы, однако спиной чувствует движение стрелок по кляксе стенных часов – модерновых, с чёрной лоснящейся физиономией неизвестного Сураеву поп-идола. Тени его однокурсников мечутся по стене, оклеенной весёленькой клеенкой, и, на тени только глядя, можно подумать, что друзья-приятели не изменились за эти двадцать с довеском лет. Друзья-приятели? Шамаш подумал, что из собравшихся так можно назвать разве что их с Генкой. Между прочими отношения не то что сложнее, однако уж более холодные. Лишь сейчас, когда встречу пора бы и заканчивать, задался он вопросом: почему Пашка посадил их на кухне? Комнаты свободны, ведь Танька с детьми давно в Москве у родственников. Она, что ли, наперед запретила? Вот так навела дисциплинку… Быстро оглянулся. Мало того, что на два часа пересидели комендантский час, установленный в «дэржавной» зоне, – на восемь уже минут погрузились в ту глухую пору, когда патрули умоновцев палят без предупреждения, а обыватель, досматривая спугнутый сон, перебарывает инстинктивное стремление скатиться с дивана под подоконник: выручай, стена-матушка!
– Кто начал стрэлять? Из прэссы ни черта не разберёшь! – Генка сочувственно блеснул идеально белыми, едва ли настоящими зубами. Сураев попытался вспомнить, какими они, зубы, были у Генки-студента, но не смог. В чём – в чём, а в зубах у них тогда нехватки не наблюдалось. Беспечность Генкина понятна: что ему, с его удостоверением чиновника ООН и с греческим паспортом, комендантский час? Да патруль под белы руки проводит до гостиницы. Смешно это – бояться комендантского часа, когда три года прожили, каждую секунду ожидая прямого попадания. Столько раз наперёд умирали, что теперь уж комендантский час страшнее. Хотя… Сураев невольно поежился, вспомнив, как беззвучно сверкнуло на тихой Рейтарской прямо у него под носом, но осколки и булыжники, вывороченные из древней мостовой, чудом обошли. Ну стукнуло, не без того, вроде как стенкой из твердого воздуха, с ног сбило, однако… Такое везенье не повторяется, а с ним повторилось. В первый раз – на настоящей войне, в пустыне, где разрывы размётывают песок, вылизывая в нём воронки, и после артналета вечно отплевываешься… Что?
– И не перебивай меня, Павлик, лукавый ты лицедей! – наморщил мощный лоб Толик Басаман. Бог мой, остатки волос совсем седые… Что ж, он и на курсе был старше всех: пришел тридцатилетним, да ещё после академотпуска. Тогда они не знали, что тот год Толян провел в Павловке. С тех пор попадал в психушку, по меньшей мере, ещё дважды, и теперь Сураев побаивается, что выпитое за этим кухонным столом не пойдет Толяну на пользу…
– Как началось, спрашиваешь? Ну задрались с нашими, васильковскими казаками эти чубатые, луганские у Верховной Рады…
– Нет, нет! – стрельнула глазами на него и одновременно на всех Милка, единственная (но какая!) дама за их столом. – Все ведь знают, что началось с надписей на почтовых ящиках…
– С философской точки зрения… – всё тем же, на школьной, видать, ещё скамье выработанным небрежно-гаерским тоном протянул Пашка и вдруг заткнулся. Никто, кроме Генки, не смотрел на него, потом и Генка, ухмыльнувшись, отвёл глаза. Все они тут закончили философский, но едва ли кто – и восточный человек Юрка О Дай в данном случае не составит исключения – рискнул бы назвать себя философом.
Милка, на время превратившаяся снова в доцента Людмилу Федоровну, замяла неловкость, принявшись с профессиональным апломбом пересказывать самую популярную, оскомину всем набившую версию повода для распри, разделившей два с половиною года назад славный город на три враждующие общины. Радуясь поводу потаращиться на Милку, Сураев лениво припомнил: сегодня только она одна не поддержала разговора об их специальности, точнее о записи в их дипломах. Ведь никакие они не философы и в лучшем случае могли бы стать, вон вроде Милки, «катедер-философами» – так у немцев, народа точного, называются профессора философии, зарабатывающие на хлеб изложением чужих мыслей. Ей, впрочем, и горя мало… А завёл тот разговор Пашка, заявивший, что все, кто успел при Советах защитить кандидатскую, выиграли ещё больше, чем сами думают: у людей в дипломах значится вполне пристойное «Кандидат философских наук», а у нас, не остепененных, хоть никому не показывай – «Марксистско-ленинская философия».
– А что оно такое, «философские науки»? – пробормотал тогда Сураев. Никто его и не расслышал, потому что Генка вперил в Пашку грозный взор и прорычал:
– Тэбе что, советская власть не нравится?
И захохотал. Прочих шутка не рассмешила. А сейчас уже Милка, похоже, сама первая разволновалась.
– …объяснениям уже не верил. Виданное ли дело – писать белой краской на почтовом ящике «рэ» для того только, чтобы знать, кому совать «Вечерку» на русском? Дураков нет: это русские квартиры вырезать! И вдруг телефонные звонки евреям: ждите, такие сякие, погромов! Народ давай вооружаться. А националисты тут как тут: свастики, тризубы, шествия по Крещатику с автоматами, с факелами – и вроде бы так и надо!
– Классическая фашистская провокация, – безмятежно произнес Юрка О Дай. Толян зыркнул на Ошку исподлобья, но промолчал.
– Ну а вы, рэбята, сами-то как определились? – Генка, воплощение сочувствия и благожелательности, окончательно, кажется, принял на себя роль заезжего интервьюера. Где ему, собиравшемуся сюда, словно в африканские джунгли, понять, что на третий год войны обывателю уже не до политики – лишь бы всё хоть как-то утряслось! В Сирии вон, говорят, уже и разминирование начали… «А ты с каких пор числишься в обывателях?» – спросил себя Шамаш. И ответил: «Тоже мне Робин Гуд нашелся».
Ошка благопристойно, словно на отчётно-выборном комсомольском собрании, поднял руку. Жёлтое, нелепо молодое в тусклом свете лицо невозмутимо, глаза-щёлки нацелены в узел Генкиного галстука. Медленно, с непривычной здесь, на Юге, правильностью русской речи, изрекает:
– Если Флоридису и впрямь интересно, я расскажу, хотя мы и договорились, когда созванивались перед встречей, что не будем касаться этого вопроса…
Пашка явно собирается с духом, вот-вот вмешается. Зная его много лет, Сураев ценит их дружбу (теперь, правда, уже скорее знакомство) и давно отучился делить Пашкины качества на положительные и те, что похуже. И одно, по меньшей мере, из них великолепно: Пашка Золотарёв не терпит конфликтов и, чтобы смягчить ситуацию, готов, известный жмот, поступиться даже своим. Что сделает сейчас? Заначку выставит, что ж ещё…
– … но ты же помнишь, Флоридис, какой в нашей компании интернационал. Я вот, к примеру, кореец, говорю на русском. Вон наш Саша, да ты знаешь и сам, вообще аркадец…
– Во загнул – аркадец! Аккадец я… Потомок извечных чистильщиков сапог.
– Я и говорю. Что ты, Сураев, право…? Просматривал я тут одну передачу, вот даже записал себе, – Ошка достал блокнот, чёрной кожи, с калькулятором. Раскрыл сразу на нужной странице. – Вот. Еще в IX веке тюрк Шамси Башту написал в нашем городе поэму «Сказание о дочери Шана». Между прочим, за триста лет до твоего, Басаман, «Слова о полку Игореве». Вот…
– Ну даешь – моего. Нашего! А при чем тут Сашок?
– Воистину, пресветлой Иштар клянусь: ни сном, ни духом…
– Корейцы разве к тюркам относятся?
– Родственники. Да не сбивай меня, Басаман, чего ты… А наша вон Смирнова…
– Бураго! Теперь и, боюсь, надолго Бураго я, Юрочка.
– Ну извини, помню тебя Смирновой. У нашей Смирновой отец русский, а мать зато…
– Да, Юрочка, мою покойную маму угораздило родиться еврейкой!
– И напрасно сердишься, право. В наше время…
– Х‑ха, дор-р-огая! Сколько раз говорил тебе: папа слишком севэрный, мама слишком южная – в среднем выходишь ты типичной прекрасной киев..
– Штраф! Егупец! Штраф!
Ангелос Флоридис поднял брови, в милой растерянности улыбнулся и похлопал себя по карманам. Помедлив, сделал вид, будто снимает с руки часы.
– Простите, рэбята, запамятовал. Прэкрасной, м‑м‑м, егуптянкой. Так годится?
– Египтянкой? – скорчила Милка свою гримаску, победительную, как прежде.
– Скорее уж цыганкой. – галантно склонился перед нею Толян. – Иван Иванович Дмитриев так про цыганку, Милочка, написал: «Жги, египтянка…», ну и дальше там…
– Принимается, – смилостивилась Милка. – Теперь мне что – на столе сплясать?
Стол для того годится. Стаканы, тарелка с остатком жалкой закуси. И пустые бутылки не пришлось бы Милке смахивать длинной своей ногой: убраны по студенческой ещё привычке на пол. А ноги у женщин с возрастом не меняются. У Милки уж точно… Как её дразнили-то?
Пароход плывет по Волге,
У Смирновой ноги долги!
А ведь народная эстетика победила: коротышке легче укрыться за мусорной урной, если… Что? Генка продолжает шутку.
– Да, здорово. Спрячь, Гена, свои золотые. Не такой штраф мы имели в виду.
– Я пуст, Сашок. Честно. Привык в питейном деле к европейскому стандарту.
Общий вздох разочарования. Надеялись в глубине души, что у Генки в «кейсе» кое-чего припасено. Иначе и не вспомнили бы, наверное, о запрете называть город его настоящим именем. Нет, только Егупец, как у Шолома Алейхема. Табу пошло с давней той поры, когда всей компанией полтора семестра играли в еврейскую семью: каждый получил еврейское имя, у каждого прорезался свой образ. Сураев был там недотепой Изей Рабиновичем, а Милка – его тетушкой Фаней, для неё с вечеринки тащит Изя кусочек торта. Допрыгались тогда до разбора личных дел на курсовом бюро, где одна надежда оставалась на его члена Ошку, он же Соломончик Меерович, человечек деловой…
– Ах Гена, Геночка, Генуля, – протянул, лучась всеми своими морщинами, Толян. – Вон у тебя квартира своя собственная, подзабыл уже, на сколько комнат, в Афинах, дача, ты говорил, на Олимпе, фирма у тебя своя. А почему? Живешь ты в своей стране, в самостийной Греции. Ведь помним, как в одной черненькой рубашечке бегал, когда с нами учился. Вот и мы хотим, чтобы здесь стало так же, как у тебя в Афинах.
– Не так всё просто, Толик, – пробормотал Генка, повёртывая свой «Роллекс» в коротких, обросших за эти годы чёрным волосом пальцах. – Если б оно всё так просто…
Сураев непроизвольно кивнул. Оказалось, что Ошка снова стоит. Или так и не садился. Держит, словно для тоста, пустой стакан. Костюмчик на нем аккуратненький, как и в тот далёкий день, когда заявился он вместе с Генкой в их аудиторию и угодил, бедолага, прямо на семинар по истории КПСС. Было это после Ташкентского землетрясения, когда студентов тамошнего университета, превратившегося в груду бетонных блоков, развезли по другим вузам СССР. А Генка с Ошкой отбыли ещё и двухмесячный карантин в санитарном поезде, в тупике каком-то: на развалинах случилась эпидемия. Ореол участника столь захватывающих событий померк над коротко остриженной головой юного корейца, как только выяснилась его ординарность, впечатляющая даже на сером фоне тогдашнего философского: малый не только с забавной серьезностью сам напросился на комсомольскую работу, но и невозмутимо признавался, что песни типа «Юность – это Манжерок» (или как оно там), «Мой адрес – не дом и не улица…» нравятся ему больше гремевших тогда «Битлов».
– Итак, слово представителю среднего бизнеса, молодой акуле нашей юной капиталистической экономики! – Пашка выпрыгнул со своего места и, опрокинув табурет, сделал с поднятыми вверх руками несколько антраша. Явное подражание противному молодому человеку из рекламы «Кока-колы». Завидев её первые кадры, Сураев сразу вырубает звук, однако видеоряд созерцает с удовлетворением: автопародия какая-то, прямо бизнес-стриптиз…
– Так уж и акуле, – скупо улыбнулся Ошка, а Сураев, приглядевшись, установил, что костюм на нем не только выглажен, но и по моде. А новый костюмчик сейчас – это ого! Ещё немного покрасовавшись, Ошка готов продолжать.
– В сравнении с присутствующим среди нас президентом компании… – достал из кармана бумажник, из бумажника карточку и по слогам прочёл и в самом деле труднопроизносимое название. – А мы здесь что? Мы рыбки маленькие, ну вроде…
– …пираний, – быстро подсказала Милка. Народ радостно заржал. Определить по лицу оратора, известно ли ему, что такое пираньи, оказалось невозможным.
– А я хотел сказать: пескарей. И нечему смеяться! Бизнесом занимаются теперь очень уважаемые люди, и если бы не мы, нишу заполнили бы другие – уголовный элемент. Я поддерживаю сказанное Басаманом. Если нам, таким, как Флоридис и я, перестанут вставлять палки в колеса, начнём и мы жить, как в Греции: Басаман будет получать настоящие гонорары, Смирнова зашибать бабки в частном университете, а Золотарёв станет совладельцем телестудии. За Ангелоса Флоридиса, указавшего нам правильный путь!
Ошка поднял стакан на уровень пробора и сел. Сураев не обиделся, когда новоявленный учитель жизни позабыл о нем. Он и сам весьма туманно видит свое место в прекрасном капиталистическом будущем.
– Значит, мои денежки лежали на улице, и должен же был их кто-то подобрать? – медленно выговорил Пашка. И виновато огляделся. Нагнулся, вытащил, не вставая, из какого-то закутка бутылку и стукнул ею об стол.
Сураев не испытал радостного оживления, которое предчувствовал. Потому, быть может, что перевыполнил свою ежевечернюю норму. Ошка, нацепив очки, внимательно изучает этикетку.
– Не бойся, Юрка, это вторая. Первую такую сам выпил – и, как видишь, жив. Всё ещё жив! Вы хоть цените, ребята, что мы всё ещё живы? Давайте сюда свою посуду! За нашу дружбу, которую нельзя похерить, и национальный вопрос против неё – ничто! И кстати, я не понял, Толик… Неужто ты стоишь за Киев для своих только, для «дэржавных»? Да это же отец городов русских! Да мой дед…
– Противный! Ведь договаривались же…
Толян, безмятежно улыбаясь (вот кто уж точно счастлив добавить), поднял толстые руки, сдается:
– Как не покориться тебе, Милочка, хороший ты наш человечек? Тихо! А задрались всё же чубатые… О! Слово Великому молчуну!
– Просим, Саша! – это Милка и, кажется, впервые за этот вечер улыбается лично ему, персонально. «Пустячок, а приятно», – успевает отметить Сураев, с досадным треском расправляя коленные суставы. Вперёд!
– Друзья мои, истина относительна. Кто там виноват, решат историки победителей. За нашу абсолютную дружбу!
– А Сашок у нас по-прежнему молодец! – Генка через стол потянулся к Сураеву, чокнулся. Не пьет, собственно – пригубливает только. Мода такая на Западе пошла, или заболел, не дай Бог? Здесь-то пьют теперь все, не обращая внимания ни на моду, ни на болезни, ни на качество напитка.
– У Флоридиса было два инфаркта, – склонилась Милка к уху Сураева. Горячее её дыхание, случайное полуприкосновение жаркого бедра мгновенно взметнули в нём волну ревности. Ненужное это чувствование заглушая, Сураев примерился разом хлопнуть свою посудину. Каждый тут приударял в свое время за Милкой, а за Генку она на несколько лет сходила замуж, но всё давно быльем поросло. Вон даже Толян, который прежде, чуть подопьёт, неукоснительно атаковал любую бабу, оказавшуюся на тот момент в пределах досягаемости, сидит себе тихо и вместе со всеми зачарованно наблюдает, как их дама, скорчив свою гримаску, несет ко рту последнюю дольку соленого огурца. Однако же и сивуха! Хоть рукавом занюхивай… Эх, настоящее удовольствие от выпивки осталось в прошлом. А что вообще хорошее там, спрашивается, не осталось? В гнусном, рабском советском прошлом… Или он до того приобвык к своим одиноким, строго перед сном, ста пятидесяти граммам, что не способен уже поймать кайф от выпивки нормальной – в компании доброй, а можно сказать, что и весёлой? Вон Пашка снова собрался анекдотец рассказать.
– … как разбогатеть? А украсть цветной ксерокс и напечатать баксы.
– Э, послюшай! – Генка хочет, видимо, подсказать, какой ксерокс для этого лучше подходит.
– Тихо! Если боязно печатать баксы, продать цветной ксерокс. Ну, как?
– О! Я много тут выслюшиваю анекдотов, но всё такая пошлятина… Не при Миле пересказывать.
– Закономерно. Животный солдатский юмор – на что ещё способны вы, мужики, в такое время?
Застучали табуретками, сгрудились возле Милки, наперебой угощая куревом, а Толян, протискиваясь мимо Сураева на выход, больно проехался по его бедру твердой штуковиной в кармане. Так, так… В кармане пиджака. Свой «Макаров» Сураев оставил дома, да и вообще уж года полтора как не доставал из тайника. Сегодня к тому же предчувствовал, что в комендантский час их вечеринка не впишется.
Ну вот, опять накатило! Откуда постыдный страх? До дома рукой подать. А нарвёмся на патруль – зачем им палить? Пьяная компания, приличные люди, дама. Чего бояться – ночёвки в отделении? Документы с собой, а после выпитого, глядишь, отрубимся и на нарах.
Рядом стукнуло. Генка открывает форточку.
– Не идешь курить, Гена?
– На сегодня хватит. Достаточно и дыма из коридора, Сашок.
– Я заметил: ты и не пьёшь почти.
– Вынужден… как это…? Ограничить себе эти удовольствия.
– Потребности. В такое время это потребности.
– Ну, пускай потрэбности. Хуже, что и не радует меня спиртной продукт – не то, что в молодые годы. Ты помнишь ли, Сашок, наш «Биомицин»?
– «Билэ мицнэ»? Как его забыть?
– Да-а‑а… Теперь-то понимаю: дрянь дрянью, а тогда… Сколько чистой радости приносило!
– Чистой? Гм…
– Знаешь, Сашок, тогда чистой всё-таки… Недавно то вино вспоминал. Зато другие удовольствия остались. А дэвушки! Ваши дэвушки… Я помнил про них все эти пятнадцать лет. Э, послюшай, они сейчас ещё прекраснее, – знаешь, такой отчаянной красотой!
«И доступнее» – мысленно продолжил Сураев. Его кольнуло таки. Умом-то давно, ещё в студентах, понял, что глупо злиться на девушек, вешающихся на шею иностранцам. Если патриотизм такой, он нелеп. Если ревность племенного быка, она нелепа вдвойне. К тому же на носатеньких, поведения серьёзного, ассириек никто, насколько ему известно, и не покушается. А остальные – потому-то и хороши, что здесь столетиями кипят, смешиваясь, расы и культуры. Генка, значит, как был бабником, так им и остался. Вот только болтовни этакой за ним раньше не наблюдалось.
– Ты напрасно открыл форточку. Теперь весь дым вытянет сюда.
– А я прикрою дверь. Вот так. Послюшай, а ты бросил курить?
– Да. Когда началась наша свистопляска. Зарплату сожрала инфляция, сигареты исчезли. Потом появились у спекулянтов, и надо было ещё бегать, где-то доставать…
– Но ведь все были в таком же… в ситуации.
– Мне унизительна была именно ситуация. Да и давно хотел бросить.
Громовой хохот Толяна за дверью, потом хихиканье Ошки. Солдатские анекдоты имеют успех.
– А тепэрь, когда этого добра хватает?
– Так бросил же. Вот во сне иногда курю и злюсь на себя, что не выдержал характера.
– И что ты куришь?
– Как что?
– Какие сигареты, мне интерэсно, ты куришь во сне?
– Знаешь, мне и самому стало интерэсно… Прости, Ген, я нечаянно собезьянничал… А курю мои любимые, «Родопи». Бывает, что и «Ту‑144», но тогда сержусь, что во рту кисло.
– Следовательно, эпоха американских сигарэт прошла мимо тебя.
– Не совсем. Помнишь, в самом конце шестидесятых, «Мальборо» за тридцать пять копеек?
– Ну, я курил «Приму», это вы, пижоны… Похоже, ты не разбогател за эту заварушку, Сашок.
– По мне, что ли, не видно?
– Не сэрдись, среди ваших ассирийских миллионеров модно ходить в калошах, привязанных веревкой.
– Сейчас уже не модно, говорят.
– Ваши теперь контролируют половину Крещатика.
– Ту, что больше пострадала. Развалины. Но ко мне это не имеет отношения, Гена. Я худая овца в жирном ассирийском стаде. Вот так.
– Выходит, Сашок, что на дядю ты не работаешь?
– Бог миловал… И не нужно мне на ночь страшилок, Гена.
Над головами бухнуло. Неужели шальная ракета и попадание неподалеку, в квартале? Нет, можно расслабиться: наверху танцуют, с позволения сказать.
– Как там, Сашок, у … э… у Хармса? Вот, кажется:
Тра-та-та…
Созвездья форму изменили,
А сверху слышен крик весёлый…
– …И топот ног, и звон бутылок.
– Недооцениваете вы свою культуру.
– Чью, Гена?
– Русскую!
Сураев подумал, что скорее всегда переоценивали, однако возражать не стал.
– Э, послюшай, как ты думаешь, почему за эти годы я так мало жил в Грэции? Ницца, Лондон и даже Аляска. Да, полгода на Аляске… А ларчик просто открывается, Сашок. Греки очень скучные люди – вот почему. У каждого куча детей – ну, это скорее плюс, согласен… Ходят в церковь, пьют, как птички. После обеда поголовно спят! С их точки зрэния мы с тобой, Сашок, гм… развратники и пьяницы. Но я развлекаюсь, нашел себе так-у-у‑ю игру…
– А помнишь, как я спёр для тебя на военке боевой устав «Взвод, отделение, танк» и мы с тобой мечтали высадиться в Греции прогонять «чёрных полковников»?
– Да ну! Ей-Богу, не помню… Но никогда не забуду, как меня попросили из общежития и мы с тобой жили в твоей комнатке на Чкалова. За мной должок – помню, помню…
Неужели он не помнит и грустного финала той идиллии? Тогда Генкиной памяти можно только позавидовать… Что? Для чего это Генке?
– Да, кандидат, защитился по социологии. По-прежнему в той же лаборатории, маракую потихоньку со статистикой.
– В унивэрситете то бишь. Нужный ты человек, Сашок. И ещё хотел спросить, и лучше, пока эти черти не вэрнулись… Почему не написал мне в Грэцию, ведь Мила передала тебе адрес?
– Верно, передала, – Сураев взглянул прямо в карие глаза, окруженные мудрыми морщинками. – Вначале, помнится, всё руки не доходили. А потом уже, как лондонский твой адрес получил, просто побоялся. Стоял тогда уже на очереди в совете, защита на носу. А ты в русской редакции «Би-би-си»…
– Однако же не в «Свободе».
– Отсюда большой разницы не видели.
– Спасибо, Сашок, что честно сказал. И ещё вот о чём хотел я тебя спросить. В каких, Сашок, ты отношениях с вашим ректором? С академиком Сокирко, я имею в виду?
Сураев расхохотался.
– Ну, ты, Гена, и забурел! Это у тебя отношения с разными ректорами, а я своего только видел издалёка пару раз. Правда, в первый раз в интересной ситуации, могу рассказать, коли хочешь.
– Валяй, Сашок.
– Это когда у нас тут объявили первые демократические выборы в Раду, на конкурсной основе. Подходит ко мне профорг, говорит: «Распишись напротив своей фамилии». Оказывается, наш ректор выдвинул себя в депутаты и проводит предвыборное собрание в бывшем музее Ленина…
– Губа не дура! До революции – Педагогический музей, в революцию – Центральная Рада.
– Ну да. И всю вторую смену, студентов, и преподавателей, согнали в круглый зал. Сокирко рассказал о своём босоногом крестьянском детстве, а потом стал на сцене в позе древнегреческого кулачного бойца, только руки опустил. Ждёт вопросов. И тут протягивает мне профорг полоску бумаги с напечатанной на ней строчкой и шепчет: «Давай, Сураев, задай вопрос». Я послал его, тогда профорг сам, с пафосом, будто Ленин с броневика, прочитал.
– Ого! Дэмократия на марше!
– Но он пролетел, ректор. Баллотировался по округу, где наши студенческие общежития, думал, что все студенты, ему подчинённые, автоматически за него проголосуют. Не на тех напал.
– Здорово! Вот моя карточка, там телефон в номере «Ярославны». Есть у меня сотовый, но не хочу, чтобы ты платил за звонок.
– Да уже давал ты телефоны… Напиши мне лучше, в каком номере живёшь. Телефоны нынче…
– В «325». Х‑ха! Помнишь?
– А… Москвичка Света? Что для обмена опытом приезжала? Это когда у тебя очко заиграло и ты помчался проверяться?
– А ты, подлец, бродил вокруг и завывал:
Пойми, что хуже
Печальной правды неизвестность.
Сураев почувствовал, что краснеет – и неизвестно отчего.
– Я больше хорошее вспоминаю, Сашок. Обмен опытом – это было хорошо, х‑ха! Тепэрь-то опыта достаточно, правда? Послюшай, не в опыте тепэрь проблема, а? – Генка прямо таки искрится самодовольством. Если и не смахивает пока, чертяка, на старого сатира, то лет этак через пяток вполне созреет. Если, конечно, те самые проблемы не возникнут… —Приходи утром, Сашок. Есть для тебя работенка, денежная. И, скорэе всего, смогу вывезти тебя отсюда. Долг платежом красен, вэрно? Пока врэменно, но…
Дверь распахнулась, и шарага однокурсников ввалилась на кухню. Красные, размякшие, довольные. Как мало всё-таки людям нужно! Пашке вот… Глаза горят, руки летают, как у местного актера в итальянской пьесе:
– …а я теперь, как лох, остался с одним пейджером!
– Что такое пейджер? – пробормотал Сураев. Никто, на счастье, не услышал, и он без ущерба для своей репутации протолкался из кухни. Обещание Генки поразило Сураева, его потянуло обдумать сказанное наедине – пусть в первой прикидке пока, начерно…
Захлопывая за собой дверь туалета, по моде восьмидесятых добровольно присоединенного к ванной, он коротко выдохнул и с наслаждением набрал в грудь воздух. Там курили кой чего покрепче «Примы», вот и расслабились напоследок.
Коллеги уже топочут на лестнице. Сураева не удивило, что Пашка никому не предложил остаться у него: здесь, в «дэржавной» зоне, менты воскресили свирепый советский закон, по которому за такое нарушение паспортного режима можно схлопотать отсидку. Любопытно, помешали ли эти строгости проникновению в зону «российских террористов»? А нарвутся гости на патруль – ну, чем это грозит? Подумаешь, перекантуются в кутузке… Хватит об одном и том же! Уже ведь перебирал возможные неприятности. Ещё, правда, денег можно лишиться (но кто, спрашивается, выходя вечером, берёт с собой деньги?) да получить, ежели не повезёт, прикладом по ребрам… нет, иностранца наверняка постесняются. Так что Пашка, не предложив переночевать, поступил, как и следовало ожидать от него. Удивительно только, что этот трус не притворился вусмерть пьяным и вышел проводить. Или из-за Милки? А с него станется: Танька в Москве, «теперь я турок, не казак»… При чем тут турок? Ну, Толян, да ты у нас сегодня вроде Демосфена. Лишь бы не Пифии…
– …А с Железной Бабой, Генуля, целая история приключилась.
– С бабой? Х‑ха! Вечно у тебя, Толик, истории с бабами!
– Да не, та железная, ну, монумент Родины-матери, и обязательно с мечом… Коммунисты к тому сраному тысячелетию поставили…
– Фи, Толик!
– Прости, Милочка-Людмилочка… А Бабу наши, «дэржавные» то бишь, завалили прямым попаданием в первые же дни боев. Эх, картинка получилась! – по телевизору много раз показывали, и с замедлением, пока не надоело. Я, как в первый раз увидел, сказал себе: вот, брат, и сбылась твоя мечта шизофреника!
Резкий холод двора, а за углом – уже скорее приятная ночная свежесть. Сураева шатнуло. Черт! Немедленно мобилизоваться! Кому ж ещё? Кто здесь всех трезвее? Генка, пожалуй, но он теперь чужой, гость… Взять Толяна под руку? Обойдётся… До метро всего два квартала и не меньше получаса до закрытия. И что бы мы все тут делали, в Киеве, если бы войска ООН сразу же не захватили бы линии метро и телефонные станции?
– …на железную её задницу столько лет любовался. Ведь у меня окно – это в той квартире, что до развода, – прямо на неё выходило. Днём ещё так сяк, а вот ночью – везде тёмнота, а гомерический зад сверкает под прожекторами.
– Х‑ха! Героический зад! Тебе что – и секс уже не…
Когда впоследствии Сураев пытался возвратиться к этому мгновению, казалось ему, будто искорку, красно замерцавшую на противоположной стороне тёмного ущелья Прорезной, он разглядел сквозь веки, а смотрел на кренделя, что выписывали рядом на мостовой огромные штиблеты Толяна. Потом услышал свой собственный истошный вопль «Ложись!» и осознал, что летит в ноги Милке, следующим движением намереваясь оттолкнуть её за фонарный столб. Защелкало, заскрежетало, басисто завыли рикошеты. «Ротный пулемет», – отметил Сураев, вдавливая нос в жесткую ткань рукава, и тут же отпрянул. Локоть ожгло, а страшные звуки ушли за спину и смолкли. Остался тонкий визг.
«Возвращается к сбитому отдачей прицелу», – не словами, а картинкой какой мелькнуло в сознании, и он, схватившись сам на ноги, заорал:
– Всем за угол, за стену!
И замер. Потому что все они лежали, прижавшись к брусчатке, и один только Генка Флоридис, упрямый грек, не выполнил ещё и первой команды. Только сейчас, медленно складываясь, опускается он на землю, и на лице его застыло удивление.
Конечно же, тогда, в тёмноте, Сураев не смог бы разглядеть это выражение лица – разве что после, когда, ещё перед «скорой», прикатили умоновцы и врубили во дворе фары. Да, Генка удивился – и это не худший вариант из того, что может человек почувствовать в свой последний миг. А тогда, на улице, Сураев, втянув голову в плечи, потащил Генку во двор. Уложил в безопасном месте и осторожно ощупал свой левый локоть: нет, не показалось, что боль проходит – и рукав цел. Визг прекратился.
Милка стоит рядом, зажав рот обеими руками. Пашка, уже из квартиры, кричит:
– Какая разница, хто говорыть? Ну, Павло Золоторив. Тут застрэлэно значного дияча ООН…
Глава
2
Хижина, хижина! Стенка, стенка!
Слушай, хижина! Стенка, запомни!
Из древнеаккадского заклинания.
Поздним уже утром отпирая замки квартиры, Сураев провозился дольше обычного: хмель, само собой, давно уже выветрился, но глаза после ночи в отделении полиции словно песком засыпало. В комнате, не снимая кроссовок, плюхнулся на кровать. Рука, опустившись, привычно поискала горлышко бутылки, потом бессильно повисла. Нет надобности, сегодня заснет и так. Смешно, однако он по пальцам мог пересчитать такие вот бессонные, на ногах, ночи, что случались у него на гражданке, – да и другие, не на ногах которые, тоже… Ярче других запомнилась ночь школьного выпускного: на полном тогдашнем серьёзе, со скучным, под присмотром пьяноватых учителей, праздничным столом, с выходом на рассвете к Днепру – и даже с беготнёй вдвоём, за руку, с толстенькой одноклассницей по Владимирской горке. Ну будто в клипе (как они тогда назывались?), его тогда постоянно прокручивали по телику, там ещё парочка пела: а я, мол, «россияночка, дружба в нас».
А вот университетский выпускной не запомнился, а, скорее всего, его просто и не было. Слишком уж разобщенным оказался курс, и граница между общежитскими, иногородними и маленькой группой городских не сгладилась, как обычно, к выпуску, а только резче пролегла. «Жлобы» пришли на факультет с солидным рабочим, а то и партийным стажем, из армии или из «органов», иные по направлениям горкомов комсомола. Философия для них была и осталась скопищем цитат из «классиков», подлежащим зазубриванию. «Фраерков» они подозревали (и не без оснований) в поступлении по блату и не считали зазорным доносить на них, как, впрочем, и друг на друга. Во всяком случае, именно доносами однокурсников объясняли городские «фраерки» свои неприятности – и вряд ли ошибались. Последствия не были серьезными. Не потому ли, что интерес к учениям западных идеалистов факультетская «тройка» (декан, парторг, профорг) предпочитала относить на счет профессиональной любознательности? Куда более весомым смягчающим обстоятельством было снисходительное равнодушие «фраерков» к идеям местного национализма, да и пользовались тогда они все – и Толик Басаман тоже – почти исключительно русским языком. Толян, тот, правда, вначале тусовался с общежитскими больше, и Сураев долгое время подозревал, что он примкнул к «фраеркам» из-за Милки только. А из-за Милки тогда и не такое можно было совершить. Один дурак сиганул в Днепр с Пешеходного моста, спиной шлепнулся, еле вытащили…









































