Текст книги "Смерть во фронтовом Киеве"
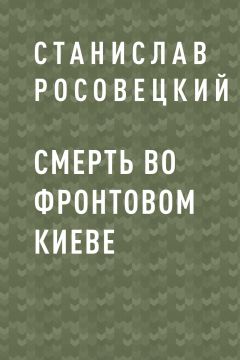
Автор книги: Станислав Росовецкий
Жанр: Героическая фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Деликатный взвизг дверных петель, затем стук – осторожный, сухими костяшками кисти.
– Да! Войдите, Иван Афанасьевич.
– Я только напомнить, Шамаш Саргонович. Со вчера уже ваше дежурство пошло.
– Ладно, понял.
– Уберете, как только похмелье отпустит.
– Ну, тогда…
Сураев замялся. Хотел уже сказать, что в таком случае на уборку пусть сегодня не рассчитывают, но дверь уже пела закрываясь. Вот так всегда… Недаром ему нравится советский порядок защиты диссертаций, когда замечания оппонентов ты получаешь заранее и можешь обдумать свои ответы. И сущее издевательство – внезапные вопросы скучающих членов ГЭК, которыми они лениво добивают дипломников, и без того не знающих, на каком они свете. Что же касается неприязни Ивана Афанасьевича и супруги его Софьи Ивановны, то для Сураева она давно уже одна из непреложных данностей бытия: весной бывает гололёд, летом – мухи, а Иван Афанасьич и Софья Иванна дуются на тебя независимо от сезона, при любой погоде. И не имеет для них значения, что тебя-то и на свете не было, когда в 1944 году отец, вернувшийся в город после тяжёлого ранения, нашел на месте дома, где до войны занимал комнатушку, кучу красного кирпича, а жену – в коммунхозовском общежитии, в его вестибюле на двадцать коек. И что костылем своим выбил фронтовик вот эту комнату на Чкалова, а прежде Ладо Кецховели, ещё раньше Гершуни, а перед тем Столыпинской (в народе – Сенной), до того Малой Владимирской, теперь же – вот интересно, надолго ли? – Олеся Романтика. И что очередной огненный смерч, пронесясь над славным городом, вымел из кабинетов тех чиновников, что помнили ещё об отце Ивана Афанасьевича, известном когда-то архитекторе, построившем этот дом для себя, чтобы в покое и достатке прожить старость.
Третий сосед, жэковский слесарь Тарас, возник в квартире уже на памяти Шамаша. На сей раз Иван Афанасьевич сам себя перехитрил, замыслив некую комбинацию, в деталях оставшуюся неизвестной. Конечная цель была выжить Сураева, в несчастном случае на шоссе в одночасье потерявшего родителей. Был он тогда на четвертом курсе, растерялся, а потом несколько, чего греха таить, и подраспустился – особенно как поселился у него неугомонный Генка Флоридис. По утрам в местах общего пользования появлялись размалеванные и (о ужас!) курящие девицы, а было и так, что к Генке на целый месяц заявились из Ташкента (точнее, из греческой политэмигрантской колонии в Чирчике) сразу шестеро одноклассников. Тарас же, прописанный временно, призван был, по-видимому, засвидетельствовать антиобщественное поведение Сураева-младшего и поистине вопиющие нарушения им паспортного режима. Поначалу и в самом деле поприставав к неразлучным тогда друзьям, румяный Тарас неожиданно встал на сторону Шамаша.
Случилось это в результате жесточайшей драки, вспыхнувшей между ними в душе из-за того, что Шамаш, запершись, полтора часа объяснялся там с Милкой. В душе – потому что в комнате давали прощальный бал те самые греческие юноши, а на кухне слишком часто наведывался к раковине милейший Ставрос, которому «Биомицин» плохо действовал на желудок. Почему не удалось тогда выманить Милку во двор на скамейку, Сураев не мог теперь припомнить. Скорее всего, она была уже в той стадии, когда боялась потеряться. А в коридоре? А в коридоре (ибо комната мала для этого танца) гости танцевали сиртаки. Музыка Микиса Теодоракиса из «Грека Зорбы» пронизывала фанерную дверь, музыка, записанная прямо в зале кинотеатра, куда приятели не без скандала втащили увесистый «Днепр‑2», оставленный Генке в наследство кенийцем-выпускником. Экзотические, даже неземные, а в то же время словно знакомые с детства, хрустальные волны сиртаки обрушивались на сердце Шамаша, и без них томящееся в сладостном параличе: выяснилось, что Милка не придает особого значения их отношениям, что он ей нравится, однако Флоридис – куда больше и что с этим она ничего не может поделать.
Впоследствии, когда Сураев переживал настоящую, со всей взрослой грязью и болью, любовную катастрофу, у него оказалось много времени для воспоминаний. Снова и снова возвращаясь к той мальчишеской, собственно, влюбленности, понял Сураев, что тогдашние его чувства, хоть и донельзя пылкие, не были по-настоящему глубоки. И дело не в том, что в Милку, в прекрасное это произведение южной природы (чьи слова – Толяна, Пашки?) невозможно было не втрескаться. И не в том, что их торопливые, каждый раз по пьянке, соития имели характер едва ли не ритуальный: уж если не приносили они особенной радости Шамашу, вконец перепуганному и стесняющемуся инстинктивности своих побуждений, то что сказать о Милке? Нет, лежа пластом в тёмном своем логове, где давно уже выветрились запахи Нины, он убедил себя, что подчиняется довлеющему над его подсознанием ассирийскому императиву семейственности, а Милку просто не мог представить рядом с собою в супружеском ярме: слишком высоко сидел тогда её отец.
Выходило, что Шамаша от худших потрясений уберег унаследованный плебейский инстинкт. Впрочем, всепроницающая демократичность тогдашнего житья-бытья явила себя тем памятным вечером и в ином воплощении. В самый патетический момент, когда Милка, обливаясь пьяными слезами, повисла на Шамаше в прощальном объятии, щеколда с треском отскочила, и в душ ворвался Тарас, которому необходимо было зачем-то срочно помыться. Или постирать? (Вот только не выкупать ребенка: горластый Максим возник в квартире попозже и, разумеется, уже после Тоськи). Милка, понятное дело, завизжала. Тарас, нехорошо выражаясь, попытался ухватить Шамаша за шиворот, а Шамаш с мрачным удовлетворением засветил ему в ухо. Прибежал Генка, их растащили, однако Шамаш успел высказать Генке всё, что тогда о нем думал, и сам горько изумился, чего наговорил. Друг промолчал, а на следующее утро, когда их гости шумно грузились на ташкентский поезд, втиснулся с ними в общий вагон. Больше так и не появился на перроне. Исчез.
А Тарас после того случая проникся к соседу уважением, возникла взаимная симпатия, которую в дальнейшем омрачали лишь неизбежные в коммуналке мелкие недоразумения. Эта перипетия, на фоне многолетней тихой ненависти Ивана Афанасьевича просто поразительная, дала впоследствии пытливому уму Шамаша пищу для робких размышлений о загадках души простого человека. Робость проистекала из досадной расплывчатости самого понятия: Сураев, в частности, не соглашался признать простым человеком своего отца, чистильщика сапог на вокзале… А тогда он почти бездумно, с неловкостью, как от незаслуженного подарка, воспринял Тарасово к себе благорасположение. Генка, вот кто тревожил его совесть.
Приятель исчез в середине апреля, когда надвигался уже грозный срок представления дипломных на предварительную защиту. К счастью, выяснилось, что он не уехал в Ташкент. Возвратился, видно, со следующей станции электричкой. Как бы оно там ни было, объявился Генка на Сталинке, в общаге. Шамаш узнал об этом от Юрки О Дая, на коего наткнулся в туалете библиотеки. Он и сам к тому времени несколько поуспокоился, обнаружив, что из шифоньера испарилась пара рубашек, зато рваного белья прибавилось. Ошка, застегивая ширинку, пояснил, что Генка живет в общежитии нелегально, кочует из комнаты в комнату, ночуя на свободных койках. Оставалось неизвестным, на какие шиши живет – стипендии пропиты вместе с гостями из Чирчика, а запас брикетов «Супа горохового быстроразваривающегося» остался в буфете у Шамаша. До дипломной ли в таких-то условиях? Шамаш поехал в общагу, разыскал приятеля, извинился и вернул его в комнату на Малой Владимирской. Правду сказать, мог проделать это на второй же день исчезновения Генки, если бы тот, прозрев после скандала, перестал бы встречаться с Милкой, не так уж и сильно, к изумлению Шамаша, его привлекавшей. Генка, при всей его доброте и некоторой даже утонченности в иных сферах жизни, с девушками придерживался принципов, годившихся бы для питекантропа, и уж, во всяком случае, никогда не отказывался от того, что само плывёт в руки. И совсем не имело тут значения, что в тех апрельских странствованиях по общаге ему приходилось ночевать и на девчачьем этаже – при этом не всегда на свободной койке.
Летом снова пережили они нашествие весёлых греческих юношей, на сей раз прикативших поступать в вузы гостеприимного Киева, и нахальный Генка за каждого сдавал экзамен по английскому. Милка не появлялась на Малой Владимирской до самой выпускной гулянки (а ведь точно: «фраера» собрались тогда здесь, больше ни у кого не было своей жилплощади); спьяну и с радости, что зубрежке конец, Шамаш помирился с Милкой, но это событие, о котором она, небось, утром и не вспомнила, не имело уже большого значения и для него. А в отношениях с Генкой прежняя безоглядная, братская искренность так и не вернулась, да и общались они теперь чаще по утрам: Генка дни просиживал в библиотеке, подготавливаясь к вступительным экзаменам в аспирантуру и, переделывая в реферат свою довольно таки халтурную дипломную работу, а вечерами пропадал.
Вот уж в чём не может себя упрекнуть Сураев, так в том, что завидовал тогда приятелю, получившему не только рекомендацию в аспирантуру, но и негласную гарантию поступления. Ведь щеголявший в обносках Флоридис оказался не последним человеком в греческой компартии: отец его, видный коммунист, погиб в 1949 году, в последних боях гражданской войны, а мать в новом браке за членом ЦК. По просьбе своей партии он и квартиру получил сразу же после аспирантуры, и назначение зав отделом нового академического института. Однако и сам вкалывал, как зверь: защитил диссертацию на полгода раньше срока (подвиг небывалый!), гнал статью за статьей и так же бешено, по слухам, наслаждался жизнью. Теперь, после нелепой его гибели, Сураеву кажется даже: Генка торопился, предчувствуя, что долгий, как у библейских патриархов, век ему не светит, или потому что примерял к себе судьбу отца, убитого совсем молодым. Чепуха! Раньше ничего такого и в голову не приходило; более того, всегда считал Генку счастливчиком.
А почему не завидовал? Смешно вспомнить, но Шамаш полагал, что в этих делах и сам не может пожаловаться на судьбу.
Во-первых, всерьёз верил, что в аспирантуру берут лучших из лучших. Во-вторых, если бы отец дожил, ему и одного Шамашева университетского диплома хватило бы, чтобы гордиться. И ещё той весной не было принудительного распределения выпускников с постоянной городской пропиской. А значит, Шамашу не пришлось бронировать квартиру и ехать на три года в село учителем «обществоведения» или чего там скажет директор школы, в лучшем же случае – ассистентом в провинциальный пединститут. У него даже создалось впечатление, что университет заканчивают дети высокого начальства. О святая простота! Как будто хозяева жизни стали бы стесняться! А ему предложили должность эмэнэса в университетском вычислительном центре, место за ним сохранилось и после того, как отслужил в армии два года лейтенантом.
Комнату, разумеется, оставлял Генке, а вернувшись, удержал его у себя до осени, когда должно было освободиться место в хорошем общежитии для аспирантов. Остаток того жаркого лета запомнился Сураеву как сплошной праздник: приятели не нашли лучшего применения его армейским отпускным и выходному пособию, хоть и тогда было ясно, что холодильник, «Саратов» первого выпуска, давно дышит на ладан. Однако былая сердечная непринужденность редко гостила у них и за пиршественным столом, а виноват тут был, конечно же, он, Сураев: в армии перед ним впервые по-настоящему раскрылось неравенство между людьми, многоликое, вездесущее и всегда несправедливое – потому что вовсе не сводится оно к загадочному дару, заложенному в тебе судьбой. А Генка мало того, что талантливее, он далеко вперёд ушел за те два года и в интеллектуальном развитии. Всё бы ничего, если б не болезненно ощущаемая гвардии лейтенантом запаса собственная в этом отношении деградация: он долго ещё избывал навязанное армией косноязычие, а от привычки помалкивать даже тогда, когда есть что сказать, так, пожалуй, и не избавился. Быть может, и к лучшему. И вообще нельзя сказать, чтобы армия не дала ему ничего хорошего. Мужчина не должен избегать службы в армии – такой, во всяком случае, какой была СА в начале семидесятых: привилегированная, воюющая только негласно, за границей. К тому же увиденная глазами офицера, не солдата. Однако и в ней Сураеву пришлось приложить огромные усилия, чтобы сохранить в неприкосновенности свою душевную жизнь, законсервироваться, и следует признать, что полностью это не удалось.
Генка, благородная душа, делал вид, что не замечает переживаний Шамаша, и только единожды дал понять, что не слепой же он, в конце-то концов, не бревно бесчувственное. В одно из застолий Генка поделился наблюдением: все, мол, демобилизованные без конца рассказывают о своей службе, просто болезнь какая-то, а вот Сашок молчит – служил, выходит, в разведке. Сказано это было тоном легким, шутливым, так что сидевшая рядом очередная Наташа (или Лена) прыснула, не дожидаясь ответа. А Генка дождался. И только поднял свои густые чёрные брови, когда Шамаш пробормотал, что давал подписку о неразглашении. Не один тот эпизод, конечно, причиной, но и его вспоминал Сураев, когда возвращался к догадке: миру крепко не повезло, что Ленин и Сталин родились в Российской империи. Вот если бы социализм попробовали устроить греки… Однако разумно ли по Генке судить обо всех греческих коммунистах? Обоснованность сомнений подтвердилась уже через несколько лет.
А первые годы они продолжали встречаться за накрытым столом: Генкина защита, Генкино новоселье, Генкина с Милкой свадьба. Тут притормозилось: молодые жены, дело известное, не жалуют приятелей развесёлой юности мужей. Однако Генка, постепенно превращавшийся в Геннадия Дмитриевича, умел с этим справляться. Затем настала пора, когда уже сам Сураев перестал под разными благовидными предлогами отзываться на его приглашения. Снова влюбился тогда, и жестоко.
Додумался вступить в отчаянное сражение за Нину с её мужем, а главным образом, как выяснилось, с нею самой. Игры начались нешуточные, поистине, как раньше писалось, дело жизни и смерти. Именно тогда он кощунственно приравнял свое восприятие жизни к лагерному, вычитанному, кажется, у Варлаама Шаламова: доходяге на Колыме ведомо одно стремление – прожить именно этот день. И здесь точно так – да только прожить его с Ниной, этот ещё один драгоценный день… Ему казалось, что на всех мужчин Нина действует, как на него, а Генке просто боялся её показывать. Понимал ли Геннадий Дмитриевич, что происходит? Задумывался ли хотя, куда пропал друг-приятель? Скорее всего, хватало своих забот.
Потом та самая катастрофа, а за нею несколько недель, которые Сураев приказал себе стереть из памяти. Вплоть до трезвого на диво пробуждения, когда очнулся с ощущением, что Нина забрала свои вещи. Сон в руку. Ни тряпок, ни пузырьков, исчезло и трюмо чёрного дерева, перевезенное ею из мужниной квартиры: Нине казалось, что по стилю подходит к его мебели, хотя на самом деле смотрелось оно здесь, как колли среди дворняг. Мебель у Сураева и вправду старинная, однако язык не повернулся бы назвать её антикварной – дешевая она, мещанская, выторгованная отцом на послевоенном Евбазе.
Он сполз тогда с кровати и побрёл, не опуская глаз на звякающие под ногами бутылки, к стене, у которой втиснула Нина свое трюмо. Обои не выцвели там, не успели; от Нины, следовательно, и здесь не осталось ничего. Поднял к глазам руки. Пальцы мелко подрагивали, ногти отросли и в ужасном состоянии – это у него-то, пижона, который и в арабских песках не расставался с пилочкой для ногтей… Снова уставился на обои и с осенившей его вдруг пронзительной ясностью осознал, что худшее уже позади, вспомнил, что чудом не вылетел с работы, не сел на иглу, не подхватил никакой гадости в отвратительных и, если честно, чаще бессильных попытках вышибить клин клином. Уверенность в последнем, скорее интуитивная, оправдалась.
Так сяк подтянув дела на работе, Сураев принялся названивать Генке. И получил очередное приглашение на очередное застолье. Увы, прощальное. Геннадий Дмитриевич растворялся в пространстве, а Ангелос Флоридис уезжал на родину, в Грецию, и не на недельку там, в гости к родственникам, как бывало раньше, а насовсем. Голос его звучал в трубке, будто с Луны: «Э, послюшай, Сашок, долго объяснять». «Нет, Мила остается. Нам пришлось развестись. Но по-хорошему». «Послюшай, приходи к пяти, хорошо? И с большим портфелем». «Нет, хватает… Для тебя книжки кое-какие».
Милка читала свою «марксистско-ленинскую философию» на второй смене и вечерникам, а найти замену не сумела или не захотела. У Генки было забот полон рот, и Сураев, понятно, принялся помогать ему на кухне, однако успел, прежде чем подвалили гости, разобраться в стопках книг, притулившихся у щегольских стеллажей. Да, Милка, и. о. доцента сверхидеологической кафедры, не могла оставить их себе, и дай Бог, если вообще прочитала, но Сураев не успокоился, пока не натолкал сумку этой внешне незавидной макулатурой: всё там было крепко потрёпано – и настоящие печатные книжки «из-за бугра», и отечественные электрографические копии (слово «ксерокс» пошло в ход позже), и нерезкие фотоснимки с машинописи.
Когда в четыре утра варшавский поезд растаял, наконец, среди синих и красных привокзальных огней, Сураев обнаружил, что забыл сумку в зале ожидания для иностранцев, где пили последнюю, стременную. Бесстрашный по пьянке, он убедил Микиса и ещё одного парня, незнакомого, вернуться в зал, протащил их, давно уже лыка не вязавших, по осточертевшим лестницам и обнаружил свою криминальную сумку на кресле: место, видишь ли, занимал… Мент, уже топтавшийся возле, поглядел на гуляк критически, но не пристал. Будь Сураев потрезвее, не возвратился бы, а тогда ему стало безумно жаль – и не так книг, не прочтенных и поэтому ещё чужих, сколько сумки…
Глаза слипались. Он уже засыпал, когда быстрая, как удар током, мысль рассеяла сонную муть: Генка уехал снова, теперь уж точно навсегда. Вскинувшись, Сураев огляделся и опять смежил веки: смотри не смотри, однако в комнате, где Генка прожил, как-никак, больше двух лет, и он не оставил никаких следов. Заколдованное место? Хотя… Шумный и безалаберный, Генка не тушил сигарет о столешницу, не метал нож в шифоньер, и не он расколотил дешёвые, Ленинградского фарфорового завода, статуэтки на комоде. Их Шамаш берег как память о родителях и пустоту на том месте болезненно ощутил и сейчас. Книги? Сжег их, опасаясь обыска, во время одной неприятности на работе. Виктор Некрасов есть и свой, а остального не очень-то и жаль теперь, после книжного бума в России, когда можно было купить почти всё… По-прежнему не открывая глаз, он увидел, что у стены, на прежнем месте, чернеет трюмо и что сама Нина возникла в его глубине, поставила босую ступню на пустую поверхность столика, выбралась и осматривается. Он знает, что если сумеет бестрепетно встретить её взгляд, всё у них будет, как раньше. Вот только не совсем понятно, почему вернулась она взамен утраченного Генки: Нина ведь живая… Или? Сомнения душат Шамаша, но он помнит, что вопросы задавать нельзя…
– Шамаш Саргонович!
Глаза уже не щиплет, хоть подушка и влажная. Зелёные капельки люстры тихо сияют в закатных лучах. Сколько пыли на них! И как долго он спал…
– Шамаш Саргонович! Вас, однако же, не добудишься. Вам телефонировал следователь, просил срочно ему перезвонить. Вот номер, на бумажке.
– Спасибо, Иван Афанасьевич.
Сураев перевернулся на другой бок. Хоть прерванное сновидение ещё прокручивается перед его глазами, это только воспоминание, в него уже не возвратиться. И слава Богу.
Глава
3
Тот, кто подходит ко мне, —не мой человек он.
“Эпос о Гильгамеше”.
– Сураев Шамаш Саргонович? Я следователь прокуратуры…
Незнакомец, шагнувший навстречу Сураеву из тёмного угла лестничной площадки, сунул руку во внутренний карман серого своего пиджака, и Сураев подметил, что, вытаскивая залитое в пластик удостоверение, этот неприметный человек чуток позамешкался. Словно бы у него там несколько удостоверений и надо было нащупать нужное.
– Я бы в квартире вас подождал, да сосед ваш Мистовский… – так ведь? – Иван Афанасьевич очень уж бдителен.
У Сураева гудит в голове, а перед глазами, стоит их только прикрыть, проскакивают белые цифры. Надеясь отвлечься, он сделал сегодня норму двух рабочих дней и теперь соображает не лучшим образом. Во всяком случае, попытка отделаться от непрошеного гостя получилась вялая, без особой надежды на успех.
– Ордер есть у вас? Ордер на обыск?
– О каком обыске речь? Только дополнительный опрос… Кстати, почему вы сами не позвонили, Шамаш Саргонович?
– Да какой я вам Шамаш… можно Александром Сергеичем, не обижусь. А не позвонил почему… Ну знаете, идти вечером два квартала до автомата… Просто побоялся. Да и поломан автомат.
– Почему же не от соседа?
– Звонить от него мне не приходится.
– Что?
– Зовёт иногда к телефону, позвонить от себя не разрешает. Это его телефон.
– Бывает же…
– Коммуналка-с!
– Но ведь теперь это элементарно. У вас тут, в центре, тем более: триста зелёных – и свой телефон!
– А я и не знал! – удивился Сураев, прекрасно помнивший, что уже с полгода как держится такса в пятьсот баксов. Ну почему же и теперь, когда живём как будто каждый сам по себе, не перевелись болтуны, всё за тебя решающие? Попробовать, что ли? Вдруг отвяжется… Эй, была не была! – И вообще я не видел и не вижу необходимости в нашем с вами разговоре. Позапрошлой ночью я дал показания в отделении и, помнится, подписывал протокол.
– Только не говорите мне, что не знаете… Убийства расследуются в прокуратуре.
«Медведь теперь у нас прокурор», – хотел ответить Сураев, но промолчал, отчего ещё сильнее разозлился – и в голове прояснилось. Грузи, грузи! Да всем известно, что следователь только в кино сам бегает по адресам, а в жизни он бумажки пишет и допрашивает подозреваемого, если того приволокут к нему опера.
– Отвернитесь, господин… следователь.
– А за…? Вас понял.
Входную дверь защищают два секретных устройства: одно самодельное, сработанное Тарасом; за второе, электронное, Сураев выплатил, хоть и не сразу, свою треть разорившемуся на него Ивану Афанасьевичу.
В комнате посетитель присвистнул:
– Бог ты мой! Это ж кусочек прекрасных двадцатых! Эра джаза.
«Причем тут джаз?» – Сураев подоткнул одеяло и уселся на кровать. Незваный гость, не дождавшись приглашения, устроился в кресле.
– А для чего у вас призматический монокуляр? За соседкой подсматриваете?
О чёрт, о тёмный демон Асаг! И правда, половинка бинокля на портативном штативе, красуется на подоконнике. Да кто ж его знал?
– Вышел я из того возраста.
– Или ещё не вошли, – следователь уселся поудобнее. Оценивающий взгляд. «Спрашивай, чего хотел, и убирайся!» – попытался мысленно внушить ему Сураев. Где уж там, не отстает, мент поганый.
– Вы что же – частным сыском подрабатываете?
– Это мой телевизор. Системы TVW.
– Какой системы?
– Ти-ви-виндоу, – буркнул Сураев. – Цветной экран вон там, в окне через улицу. Сегодня ещё не включали. А звук ищу в радиоле на УКВ.
– Ясненько…
И вовсе не ясненько. Те чудаки в соседнем доме не признают занавесок, и если бы хватило совести, мог бы увидеть там немало интересного не только на экране. Вот только без охов-вздохов… Что он там несёт?
– …серьезный разговор в наше время следует начинать с декларирования своей политической позиции. Моя проста: я поляк…
– Поляк? – не удержался Сураев. Ну и поляки пошли – ни польского носа, ни польского гонору! Врёт. Но вот зачем?
– …и в братоубийственной распре трёх здешних общин я не участник. Я за порядок, за защиту прав человека, за сохранение культурных ценностей города, принадлежащих всему славянству и всему человечеству. Как представитель своего национального меньшинства я буду добиваться возвращения нам костёлов, официального извинения за уничтожение кладбищ и открытия польских школ с бесплатной перевозкой детей автобусами.
Да это, похоже, первая польская программа, выдвинутая в Киеве после оккупации поляками в 1920 году! Спросил уже полюбезнее:
– Я должен ответить подобной декларацией?
– А зачем? Если положение у вас приблизительно такое же – разве нет? А симпатия к угнетённой в прошлом коренной нации уравновешивается принадлежностью к русской культуре – ведь правильно?
– В общем и целом. Признаться, я не голосую на выборах – как только это стало позволительным. Пусть они сами решают свои проблемы.
– Они?
– Эти самые, как вы сказали, что коренной нации. Только одни из них говорят или пытаются говорить на своем языке, а с другой стороны фронта они же, да только «русскоязычные». А настоящих русаков тут очень мало, они такая же редкость в городе, как поляки, или как мы, ассирийцы.
– Спорное суждение.
– Для меня достаточное. И если вы намерены, наконец, перейти к делу, хочу… предупреждаю, что запишу наш разговор. Прослушать мы уже не сможем, а вот на запись батареек ещё хва…
Осекся Сураев, потому что гость неуловимо изменился. Черты лица его, внезапно отвердевшие, никто не назвал бы теперь невыразительными. А голос… Просто ведь рявкает:
– Никаких записей!
– Да ради Бога! Нет так нет! И мне, собственно, не нужны никакие записи, – примирительно забормотал Сураев, нисколько, впрочем, не испугавшийся, а скорее даже довольный, что гость перестал ломать перед ним комедию. – Тем более что ничего нового я и не мог бы сказать. Чего ж записывать? Позвольте вас проводить.
– Пре-кра-тить! Я пришел, чтобы кое-что рассказать, а не для того, чтобы выслушивать всякие глупости! Вы попали в скверную историю, Сураев. Убит чиновник ООН, и очень может быть, что это политическое убийство. А свидетели таких убийств, как известно, долго не живут.
– Ну знаете! Генка… то есть Флоридис, убит случайно, в перестрелке. Под той очередью каждый из нас мог лечь – а то и все сразу…
– Имеются результаты вскрытия. Пуля в нём не из пулемета, не из того ПК. Это точно.
– Ладно, пусть Генка погиб не так… Хоть и не понимаю, почему обязан вам верить. Однако он не Джон Кеннеди какой-нибудь и не…
– Кто?
– Не важно, пустяки, – Сураев чуть не назвал российского президента, но передумал, потому что по-прежнему не верит «легенде» своего гостя и теперь не хочет ему это показывать. – Главное: кто станет убирать свидетелей в нашем-то борделе?
– Сравнение не лучшее, – как ни в чём не бывало возвратился гость к прежней манере человека образованного и вежливого, – нормальный бордель как раз хорошо организован.
– Надо же: «свидетели долго не проживут…». Да нас там пятеро было. Вы что ж – к каждому обращались? И чего, собственно от нас хотите?
– Попробую по порядку. Нет, совсем запутали… Я выбрал вас, изучив ваши показания.
– Отчего ж именно меня?
– Во-первых, вы абсолютно вне подозрений. Давняя дружба с пострадавшим. При этом отношения чисто сентиментальные, без деловой подоплеки. То есть, до самого недавнего времени… Вот только переписка была, полагаю, нелегальной, а?
– Нет, мы не переписывались, – насупился Сураев.
– Во-вторых, вы единственный, кто сможет, на правах старого друга убитого, выйти на его семью, а через неё – на его фирму. При наших нынешних порядках, в этом, как вы изволили выразиться, борделе это единственный реальный путь к убийце.
– А вам зачем в этом деле ковыряться? Насчет политических убийств я как-то не осведомлен, вам виднее, а вот обыкновенные заказные в этой стране обычно не раскрываются.
– Хаос должен ведь закончиться. Наши будущие демократические выборы никто не признает, если здесь будут безнаказанно убивать людей ООН.
«Наш? А чьи они – ваши?» – мысленно спросил Сураев. Лицо собеседника опять словно бы размякло. Человек толпы, вслед такому не обернешься на улице: выскочил мужик из дому за сигаретами или в булочную – что с него возьмешь? А с меня? Мне-то и притворяться таким не надо… Откуда он знает о Генкином предложении? Спросить? Нет, уж лучше так:
– И с чего вы взяли, что я пойду вам навстречу?
– Да потому, что вам прямой расчёт. Зарплату не получали, небось, с полгода, а?
– Седьмой месяц пошел.
– Живете на подножном, простите, корму. А тут возможность поработать на греческую фирму и, если повезет, выехать отсюда хоть временно, пока не успокоится… Вот возьмите. Это было в бизнес-блокноте у пострадавшего.
На красочном ооновском бланке, текст английский, в самом начале две опечатки. Так, так… временное удостоверение, дано Шамашу Сураеву, сотруднику фирмы … Афины… адрес, телефон, факс. Дата позавчерашняя, от руки, и закорючки незабываемые, Генкины… Теперь хоть понятно, откуда этот хмырь знает, что Генка хотел помочь… Вишь, уставился! Ждёт, что начну разливаться в благодарностях. Не дождешься…
– Филькина грамота, доложу я вам. Подписи нет… Постойте-ка! Мои имя и фамилия впечатаны позднее. И даже на машинке, не принтером.
– Зато бланк ООН подлинный, не копия – у нас проверяли. А остальное легко объяснить. Особенно тому, кто несколько лет расписывался за Флоридиса в получении стипендии.
– Да, был у него такой пунктик, терпеть не мог ставить свой росчерк, хоть бы и в платежной ведомости. Кажется, кто-то из родственников подписал, не глядя, бумажку на свою голову… Вижу, вы ко мне не к первому обратились.
– Не имеет значения. Совершенно очевидно, что это было приготовлено Флоридисом и для вас. Оставьте пока у себя.
Сураев снова сложил листок вчетверо и поместил его в левый внутренний карман своей джинсовой куртки, рядом с «дэржавным» паспортом. Может бумажка оказаться ценности необыкновенной, а не выгорит – будет память о Генке.
– Спасибо. Так что вы хотите получить от меня?
– Вы спрашивали, почему я обратился именно к вам, а не скажем, к Золотарёву. Очень просто: вы не только вне подозрений, но и наиболее надежны. Человеческий, знаете ли, фактор. Орден и медаль за службу за границей даром не дают. Уж так были просвечены рентгеном…
– Орденок-то арабский. Всем давали, вроде нашей юбилейной медали, – машинально выдал Сураев давным-давно заготовленное на сей случай. Сказанное в ответ не расслышал. В висках застучало, как только вспомнил, что в военкомате нет его личного дела. Так и не пришло из армии, застряло в штабе или в КГБ. Да, здесь на Софиевской или в здании на далёкой площади Дзержинского. Однако едва ли городская прокуратура, не говоря уже о районной, имеет доступ к электронным досье бывшего КГБ, ставшего теперь государством в государствах. Эти файлы – товар чересчур дорогой, и охраняются они… можно только представить, как они нынче охраняются… Следовательно, перед ним гэбист, и если действительно служит ещё и в прокуратуре, то разве по совместительству. Это его «крыша», и пенсию ему, если доживёт, будут начислять по другому ведомству. А те не шутят. И в особенности сейчас, когда «всэнародно обраный» президент «дэржавных» оказался болтливым соглашателем, а слабенькие, едва успевшие вылупиться из яйца националистические партии (другие не дозволены) никак не выберутся из-под тяжёлых, железом окованных каблуков своих собственных защитников. Умоновцев, подлинных хозяев города…









































