Текст книги "Смерть во фронтовом Киеве"
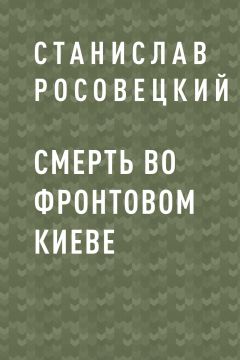
Автор книги: Станислав Росовецкий
Жанр: Героическая фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– …не допускать оскорблений национальных, религиозных и культурных ценностей еврейского народа…
Пока что они, еврейские эти заморыши, побеждают. И не только в тех войнах, с арабами. Их победа – часть глобальной победы капитализма. Должен ли ты ей радоваться, ты, в свое время оказавшийся на другой стороне? И есть ли чему радоваться победителям, которым уже приходится подкармливать голодных врагов? Если бы только кормили. Побежденных ещё и трахают, как союзники Германию после второй мировой… Что такое? Паренёк молчит, влажные глаза поблескивают.
– Непременно, – решительно обещает Сураев и беспрепятственно шагает навстречу неоновому великолепию самого благополучного сейчас кусочка Киева. Еврейский совет старейшин отменил затемнение, как только избранный народ начал здесь обустраиваться. Тотчас же местные умельцы принялись гнуть стеклянные трубочки, и теперь несколько улиц нищей столицы сияют, словно ты оказался в ночной Хайфе. (Сураеву не пришлось побывать ни в ночной, ни в дневной Хайфе, но ему нравится её название). Здесь горят фонари, у бровки стоят, поблескивая лаком или пластиком, заграничные автомобили, много прохожих, и они не жмутся к стенам домов. «Да просто рано для них, – объяснил себе Сураев. – Ещё и десяти нет». Он понял, что пытается подавить неизвестно отчего подымающееся внутри раздражение. Неизвестно отчего… Положим, можно и догадаться, отчего. Пусть нет ему дела, что солдат из нигерийского батальона в свободное от службы время, как пить дать, трудится без устали, одаряя следующие поколения горожан кожей потёмнее. И пусть легковушки в анклаве, где в любой конец дойдешь, не торопясь, минут за двадцать, есть ненужная роскошь – ему-то какая печаль? Или, явочным порядком зачисленный в граждане ободранной «дэржавной» зоны, превратился уже в её патриота? Смешно. И не на обитателей анклава, чьи национальные ценности Сураев готов сейчас оскорбить, он злится. Его, который знает в этих краях каждый камень, только что унизили, не позволив ему просто взять, да и свернуть на Жилянскую.
Раздражение ещё не улеглось, когда он остановился перед сталинкой, в которой Милка выменяла себе квартиру. Дом оказался знакомым, хотя Сураеву ничего не напомнил его номер, услышанный в динамике чудо-игрушки, а сейчас благопристойно, словно в добрые старые времена, подсвеченный специальной лампочкой. Как обрастают твоими воспоминаниями улицы города, если в нём живёшь всю жизнь! И с годами становится уже неважным, что именно стряслось тут с тобой, счастливым было оно или горестным. Вот она, кирпичная коробка, стоит всё такая же, особенно если сейчас, вечером, посмотреть, а мы уже иные, а там и вовсе исчезнем. Подъезд не тот, правда, где доводилось бывать. Подергав за круглую ручку, Сураев, на исправность устройства почти не надеясь, набрал номер квартиры. Неожиданно из двери зашипело, и недовольный высокий голос спросил:
– Кто?
Сураев назвался, после нового шипения проник в парадное и, старательно прикрыв за собою дверь, очутился в полной темноте. Немного посветлело, и Милка, по-прежнему невидимая, осведомилась сверху:
– Ты что ли, Сураев?
Топая неизвестно зачем, поднялся он по лестнице. Они не поцеловались, только вгляделись друг в дружку. Милка скривила губы:
– Ну здравствуй, Сураев.
– Шолом.
– Издеваешься?
Кивнул, соглашаясь. Защёлкали запоры за спиной. Коротко осмотрелся: прихожая, ещё Генкой купленная, вместе привезли её и, как водится, обмыли. Всё правильно.
– Сколько комнат?
– Обмен равноценный.
– И центр как-никак.
– Центр чего? Пошли на кухню.
В узком коридоре, слишком густо, на вкус Сураева, обвешанном всяческой чеканкой и керамикой, он уточнил:
– На кухню —значит кормить.
– А ты разве ешь так поздно?
Сураев промолчал. В животе сосало, а ощущение неприятной легкости, этакого полета свидетельствовало, что надо срочно перехватить.
– У меня только малоэнергетическое. низкокалорийное…
– Тогда побольше.
Брякнула тарелка, потом вилка. Тёмный абажур низко нависает над столом, и ему видны одни руки Милки, маленькие, красивые. Или хорошо ухоженные? Кто спорит, соль здорово подорожала, но совсем её не класть – тоже чересчур…
– Ты уже собралась?
– Да никуда я не собиралась. Расскажи, в чём дело?
Отчего ж не рассказать? Ещё как поднимался по лестнице, загадал Сураев: вот если Милка причешется ради него… Позабыл, что у неё теперь стрижка короткая, голова причесана раз и навсегда. И волосы не её, золотистые какие-то. Один хрен, скрывать ему нечего.
Выслушав, Милка помолчала. Жестко глянула на него:
– Из всего этого вовсе не следует, что кто-то убирает свидетелей. Тебе, похоже, ничего не грозило, – неприятно хохотнула. – А тот убитый гэбист как раз не свидетель.
– А зачем было ему врать?
– Пугал тебя, например… Да мало ли ещё зачем.
– Так есть у тебя куда уйти?
– Есть, нет – разве в этом дело? Флоридис убит, а ты хоть помнишь, что с ним случилось? Каждый думает только о себе!
– Ты неправа. Я и в гостиницу пошёл, может, чтобы хоть что-нибудь сделать для него.
– Да ради Бога… Однако представим себе, Сураев, что твои опасения имеют под собой почву. Почему эти злодеи придут убивать именно меня? Я была замужем за Флоридисом пятнадцать лет тому назад. Жизнь тому назад. Я ведь не афишировала, что…
– Что – «что»?
– Да ладно, не важно сейчас. И потом: найти меня здесь, пронести в анклав оружие?
– Профессионал обойдется и без оружия, Мила.
– А кстати, с чего ты взял, что в номере орудовали профессионалы?
Чёрт, а ведь и правда… Не подумал он. Теперь последняя заготовка. Или не стоит?
– Милка, а не потому ли ты так реагируешь, что это ваши люди орудуют?
– Ваши?
– Ну, здешние.
– Какие такие здешние?
– «Моссад», например.
– «Моссад», во-первых, не убивает людей без крайней необходимости.
– Сказанула, однако.
– А ты наслушался антисемитской пропаганды! Во-вторых, в этой стране у Израиля нет иных интересов, кроме защиты своих соотечественников, вот… Тут помнят о погромах, Сураев. И сколько местных полицаев трудились в зондеркомандах!
– Я что ж, я ничего против не имею, хотя насчет «Моссада»… Послушай, Мила, я готов согласиться, что этой ночью, возможно, ещё пронесёт. Но стоит ли дольше рисковать, право, не знаю… Конечно, нас там было пятеро, и что начнут именно с тебя, вероятность не так уж и велика. Но завтра утром, и пораньше, надо уходить. Согласна?
– В принципе да. Напрасно рисковать и мне не хочется. А ты предупредил остальных?
– Я не смог. У меня и телефонов их нет. Не все, точнее… Я ведь, ты знаешь, не большой любитель ваших ежегодных собраний.
– Да, забился в свою нору. Иногда я готова была тебя понять: Басамана с каждым годом всё труднее переносить… А мой новый телефончик где добыл, признавайся?
– Генка дал. Ещё как на встречу приглашал. Сказал, что если по трём другим его отыскать не удастся, а случай неотложный, так позвонить сюда, тебе… Я что-то не так, а, Мила?
Дважды коротко всхлипнув, она закрыла лицо руками. Почти сразу же опустила их и откинулась в тень.
– Этот стрекозёл заскочил по приезде, оставил подарки, деньги – только его и видели. До того самого вечера, позавчера. Я ведь ради него и пришла. Нехорошо я сейчас сказала про Флоридиса, извини.
– Просто мы с тобой, Мила, воспринимаем Генку как живого.
– И если как живого, так стоило обзывать? Ты не знал, он всё это время меня поддерживал. Оставил квартиру.
– Знаю.
– Про квартиру все знают. Но про переводы каждый месяц ты ведь не знал, правда? А как началась эта свистопляска, присылал посылки, и когда появились «голубые каски», снова наладил переводы. И это он придумал, как мне выбраться отсюда…
– Генка?!
– Ну да. Я, если честно, уж несколько лет как хочу уехать. Все умные уже уехали, Сураев. И если мы с тобой ещё тут, это скверно характеризует наши умственные способности.
– Согласен. Хотя…
– Как началась пальба, я обошла все, почитай, консульства. Настоялась в очередях. И без толку. Если бы хоть специальность техническая, да ещё из нужных там… Но ведь какие сволочи, а? Не говорю уж о диссидентах, ведь даже когда стряслось это дурацкое ГКЧП, они готовы были нас принять как родных! Ну, первые дни… А полилась кровь по-настоящему —так двери на замок!
– Нам никто ничего не обязан, Мила. Государства, как люди: одни откровенные эгоисты, другие маскируются. И с диссидентами никто теперь возиться не станет. Зачем? СССР и сам развалился. И если бы не здешние ядерные ракеты, Запад не делал бы для нас и того, что делает…
– Что ж он делает, по-твоему?
– А ООН?
– Причем тут ООН? Это ж международная организация.
– Она того, кто ей платит. В подобных конфликтах в Африке погибают тысячи людей – а твоя ООН и пальцем не пошевелит!
– Так то ж в Африке, Сураев.
Хотел было её подколоть, что сама собралась как раз в Африку, но передумал. И не понравилась ему собственная горячность. На работе Шамаш избегал высказываться в политических спорах, но любил слушать пикировки программистов, а дома, на кровати, порой обдумывал услышанное.
– …через Израиль. Господи, да какая из меня еврейка? Но это сейчас единственный безопасный путь. Признаться, я ведь всегда немножко стеснялась покойной мамы. Ты помнишь её, Сураев? Не хочет, а кричит, эта южная ранняя старость, её манера руками вот так. Теперь я благодарна ей. Оказалось, мама оставила мне наследство.
Шамаш наставил уши. Он тоже одно время стеснялся своего отца, точнее отцовского занятия, но никогда и никому в этом не признался бы.
– Я ведь могла бы уехать тогда с Флоридисом. Да только зациклило: родину не покидают! Папа буквально на уши встал. Воспитали, сволочи! Песня была: «Но родина одна. Одна, запомни, журавлёнок, это слово!» Запомнил журавлёнок. Тоже мне родина: отец из русских русак, а мать – еврейка из Бердичева! Знаешь, мы, бабы, слишком послушны, слишком уж поддаемся на всякую агитацию.
«Уж кто-кто, а ты такая послушная…» – подумал Сураев.
– Так нет, развелись. Я и после развода боялась, что брак с Флоридисом помешает защититься: он тогда уже вышел из своей компартии.
– Не знал.
– А с какой стати ему тебе об этом докладывать? Флоридис умел держать язык за зубами… Даже я, жена как-никак, узнала в нашем парткоме. Представляешь? Однако и с защитой, и по партийной линии обошлось. А Флоридис помогал, и когда я уже вышла замуж за Эдуарда. И потом, когда жила с Мишкой-подлецом… ну, который укатил с той девкой-кацапкой в Воронеж. Да что тебе рассказывать, такого и ты хлебнул.
Шамаш кивнул, не подавая виду, как ему неприятно, что Милка вспомнила о его сердечной трагедии. И отчего бы, спрашивается? И зачем такие слова? Трагедия – это когда человек умирает от голода или истекает кровью, подорвавшись на мине… Однако Генка-то каков!
– Вот уж не думал, что наш Генка способен на такое постоянное, сильное чувство.
– Постоянное, да. Только чувство было иное, не то, о котором ты, должно быть, подумал. Речь идет о чувстве долга, Сураев. Ты наелся?
– Спасибо. Теперь бы… Как тут у вас с горячей водой?
– С утра была. Посуду за собой сможешь помыть.
– У нас давно уже нет горячей. Холодные души, конечно, отлично взбадривают, да только…
– Я пошутила, здесь колонка. За газ, правда, энергетическая компания дерет нещадно, не глядя, что с соплеменников… Ладно, иди в ванную. А пока наберётся, попробую обзвонить ребят.
– Постой-ка. Мне только сейчас пришло в голову. А ты не можешь ли разве просто ускорить отъезд? Попросить, чтобы тебя отправили ближайшим рейсом?
– Размечтался… Мое дело всё ещё рассматривается. Говорят, визу придется ждать не меньше месяца. Валяй, запирайся.
Конечно, если самолетом, без визы не обойдешься. Однако есть, слыхал Сураев, одна организация, бесплатно отправляет евреев морем через Одессу – только до Одессы нужно самому добраться. Нет, сам он не захотел бы плыть теплоходом, зафрахтованным теми, кто не хочет видеть тебя здесь. Есть ведь уже область, где ни одного еврея не осталась. Не стоит и Милке напоминать… Он огляделся. Ванная вся заставлена заграничными пластмассовыми флакончиками. Решил было, что они пустые или на дне только пооставалось, однако, поболтав шампунем для ванн, убедился, что зелья там предостаточно. Не полетит же всё это вместе с ней… Пальмы, жара. «Евреи, евреи, кругом одни евреи…»
– Балдеешь, Сураев?
Выдвинул нос над пеной и не сразу сообразил, где находится. Милка в дверях, в том же халатике. И закрыться он забыл.
– Дозвонилась к Басаману и Золотарёву. У господина О Дая автоответчик. Ещё надо было сформулировать… Тебя я не называла.
– Спасибо.
– Вот видишь, они в порядке. Но я почему-то всё больше и больше пугаюсь. Лучше не искушать судьбу, ты был прав. Уйдём утром. Долго ещё собираешься киснуть?
– Только пару минуток.
– Я в это время обычно сплю уже. Выпить не хочешь? Для лучшего засыпания, а? Я тебе прямо сюда принесу.
Он отказался. От Милки можно ожидать чего угодно, а на него спиртное действует своеобразно, скажем так. Выпивка – наслаждение самодостаточное и не терпит рядом иных. А вот возможны ли они сегодня, эти иные наслаждения – вопрос особый.
Шамаш убедил себя, что инициатива должна исходить от Милки, а нет – совесть у него чиста. Босиком топчась на резиновом коврике, торопился он закончить свою и без того молниеносную постирушку и горестно констатировал, что вот уже более десяти лет играет в эти игры. Принципиальная безынициативность (а почему бы не назвать её своим именем – трусость?) заставила его потерять так много. «Или приобрести», – привычно возразил он сам себе. А что приобретаешь – моральное удовлетворение? Прекрасная замена…
Милку нашел в гостиной. Рядом с её креслом, на заваленном газетами журнальном столике, прозрачная бутылка и две рюмки. Здесь тоже полутьма, но теперь ему показалось, что её лицо словно бы смягчилось, поплыло.
– Так… Напялил мой купальный халат. И всё так же робеешь перед девушкой, боишься чёрт знает чего… И эти мужчины, о Господи, загубили мои юные годы!
– Ты о чём?
– А?… Да так, ладно. Вот что… раскладушки у меня нет, а дам я тебе запасное одеяло. Завернешься и будешь в безопасности.
– Утром надо будет звякнуть в одно место.
– Куда это?
– Даже в два. Соседу моему, тут проблем не будет. И в Афины, Генкиной жене. Ну, вдове то есть. Ста баксов, как думаешь, хватит?
– Этой сучке? С моего телефона? Не дождётся.
– Почему же обязательно сучке…?
– А кто ж она ещё? Русская эмигрантка, голь какая-нибудь подзаборная… Разве нормальная девушка решилась бы на такой брак? Разница в четверть века, и Флоридис, уж ты меня извини за откровенность, практический импотент. И с немалой придурью. Какой он был грек? А наш совок без придури не может.
– Мне кажется, не совсем сейчас уместно… А «Телефон-телеграф» всё там же?
– Ладно, чёрт с тобой, звони. Телефон с длинным шнуром, закройся с ним, будь добр, на кухне, чтобы мне не слышать, как ты будешь пресмыкаться перед этой сучкой. Тебе ведь нравятся молоденькие, а, Сураев?
– Долго рассказывать. Может, всё-таки лучше утром, с почты?
– Наше утро – у них ещё ночь. Если желаешь Генкину стерву разозлить, пожалуйста.
– Так я, пожалуй, позвоню сейчас. Ты точно не против?
– Сказано тебе: давай.
– Тут тоже через «8»?
– Ага, по-старому.
Закрывшись на кухне, Шамаш вздохнул с облегчением. Милкина брань вызвала у него, как ни странно, личное, интимное участие в неведомой Ксении, любимой (а иначе – зачем было жениться?) супруге Генки, захотелось защитить её. И хорошо, что Милка не услышит их разговор. Минут через пятнадцать, после бесконечных перезваниваний и проверок, он смог, наконец, спросить:
– Это Ксения?
– Да.
– Здесь Шамаш Сураев. Ангелос не говорил вам обо мне?
– Вспоминал. Хорошо, что позвонили. Вы сможете его привезти сюда? Я перешлю в консульство все необходимые документы.
– Я бы попробовал, да только меня самого не впустят.
– Мне сочувствуют в консульстве и не только там. Вам помогут получить визу.
– Генка… то есть ваш муж дал мне удостоверение сотрудника своей фирмы, да только…
– И правильно, что не доверяете этой бумажке. Ангелос перед вылетом нашлепал таких бумажек целую кучу, для всех ваших, кого мог вспомнить, при этом веселился от души… Господи Боже мой, я так и не придумала, как сказать о нем Мише!
– Извините?
– Так Ангелос не сказал вам, как зовут его младшего сына? Поистине, человеку с таким характером надо было хорошо подумать, прежде чем заводить детей!
– Ещё раз примите… то есть примите мои соболезнования, – мучаясь от неумения сострадать и неуместного косноязычия, выдавил из себя Шамаш. – Постойте… Выходит, у меня филькина грамота?
– Да поймите, наконец, что никакой фирмы теперь нет. Да, правду сказать, и не было. Ангелос сам был фирмой. Играл, развлекался… Доигрался, забыл, что не один на свете.
Молчание. Шорохи, похожие на неровное дыхание, всплески далекой музыки.
– Вы слушаете, Шамаш?
– Да, конечно.
– Дайте свой телефон, чтобы наш… мой адвокат мог вам позвонить. У вас есть телефон?
– Нет, я вынужден не появляться дома. Ангелос убит… Это не несчастный случай.
Снова тишина, И новый, жесткий тембр того же голоса:
– Какие галстуки предпочитал муж, когда был студентом?
– А никакие. Он терпеть не мог галстуков.
– Сходится. Послушайте, пускай тогда перевозкой… Боже мой, Боже мой… перевозкой тела пусть займется адвокат и те, в консульстве. А вы лучше соберите информацию, всю, что сможете, об убийстве. Я не такая дура, чтобы надеяться, что вы за пару дней разыщете этого дьявола – ведь Ангелос, при всех его недостатках, никому не причинял зла, правда? Я не надеюсь на чудо, но соберите все возможные свидетельства. Запишите, что расскажут очевидцы, лучше на видео.
– Это у нас не так просто.
– У Ангелоса с собой была довольно приличная сумма в долларах. Берите из неё. Утром я факсом пришлю доверенность. Только куда?
Сураев продиктовал из записной книжки номер факса в своей лаборатории, куда всё равно решил прорываться. Тут же передумал:
– Знаете, а вернее будет на консульство.
– Если у вас не выйдет получить, позвоните мне. Что-нибудь придумаю…
– Спасибо.
– Покамест не за что.
– Ну знаете… – он хотел сказать, что благодарит за обещание, потому что ему давно уже никто и не обещал ничего, вот только ещё Генка…
– По приезде, конечно, отчитаетесь. А ваше вознаграждение будет достаточным, чтобы устроиться на первое время. Дедушка мне рассказывал, знаю, каково эмигранту без денег.
– Но если фирмы нет, как вы сказали, откуда возьмутся деньги?
– Пусть это вас не заботит. Разве Ангелос вам не говорил, что я женщина отнюдь не бедная?
– И последний вопрос. Чем Генка занимался здесь?
– Там у него в компьютере, сами найдете. Да вот ещё какая штука… Алло, где вы там?
– Слушаю.
– Вы, конечно же, натолкнетесь на следы похождений Ангелоса. «Дэвушки» – его главная слабость… А вам, конечно, понравится в этой грязи копаться! Вы ведь и сами большой ходок —мне Ангелос рассказывал!
– Я?!
– В молодости… Не важно. Если его забавы с девками не связаны с убийством, я не желаю о них знать, понятно?
– Вполне. Только никакой я не…
– Сказала ведь: не важно! Вы сможете расплатиться за разговор? Хорошо… Все последующие разговоры заказывайте за мой счет. До свидания.
Шамаш бережно положил трубку, покрутил головой – и перенесся в мрачную действительность, после чего отправился искать в ней Милку. Та лежала уже в постели, и её голые плечи поразили Сураева: помнил Милку худенькой, ведь тогда все они хотели походить на Твигги, и по городу ходили страшные истории о красотках, доголодавшихся до состояния, когда желудок уже не принимает пищи. Но разве у тогдашних девушек были желудки?
– Чего уставился? И что тебе сказала обо мне эта сучка?
Пошарил глазами по комнате. Ясно, бутылка перекочевала на тумбочку. Милка и в прежние времена любила выпить, но…
– Так что же?
– А… Не вспоминала совсем.
– Вот, я была права. Она меня и в грош не ставит.
Он пожал плечами. Двадцать лет тому назад Милка в компании не отказывалась бухнуть. Подшофе становилась неотразима: остроумная, заводная – и куда исчезала хорошенькая, но скучная и себе на уме зубрилка? Бог ты мой, о добро дарующий Думузи, а ведь позавчера, на том злополучном вечере воспоминаний, она была такой же – ну, почти такой же, как тогда. И если сейчас грубит, то не потому ли, что все ещё считает его своим человеком? А это значит… Шамаш побагровел.
– Ладно, иди ложись. Разбуди меня пораньше, хорошо? Да не тяни резину, глаза уже слипаются.
Постель непривычно мягкая, от Милки и через два одеяла пышет жаром. Потом казалось ему, будто возбуждение мучило до утра, но на самом деле, конечно же, большую часть ночи Сураев спал. А просыпаясь, прикидывал, сумеет ли справиться с поручением Ксении. Вот Милка, та просто считает его неудачником, ни на что не годным недотёпой, и никогда не дала бы ему такого поручения. А Ксения не знает ничего о нем, и очень похоже, что Генка, рассказывая ей о приключениях молодости, свои собственные подвиги приписывал ему. И теперь ревность Ксении неким фантастическим, однако, конечно же, приятным Шамашу способом распространяется и на него… Нет, не станет он признавать себя неудачником, рано на это соглашаться. Вот кто он, так это тупарь и копуша, ведь до него всегда доходит позднее, чем у других. Бывало, во дворе все пацаны переиграют в очередную игру, «жозку» там, к примеру, свинчатку с кусочком меха, и её надо подбрасывать на счет вывороченною ступней, а он всё присматривается. А как смастерит и себе, как попробует – а весь двор уже в ножичка играет. Не выполнить ему поручения прекрасной гречанки за пару дней, нет. Вот если бы хоть неделю, и не в таких же условиях…
– Да отстань ты, наконец! – внятно проговорила Милка и, прорвавшись через оба одеяла, метко лягнула замершего Шамаша. Он перевел дух, сосредоточился. Увидев перед собою белого барана, прогнал его, прошептал: «Один». Снова сосредоточился…
Очнулся как-то сразу, мгновенно. Серый рассвет. Чужая комната. Место в постели рядом пусто, но тёплое ещё. Невдалеке мягкий шум душа. Забросил руки за спину и снова смежил веки. Таких пробуждений давненько с ним не случалось, лет с пятнадцать, не меньше. Приметы неизвестной, таинственной жизни вокруг, в голове похмельный пустой звон, на пересохших губах – вкус жизни, изжитой начерно. Начерно, потому что всё по-настоящему прекрасное ждёт впереди. И беззаботный голос Генки из-за двери (из кухни, из ванной, с дивана за твоей спиной): «Э… Послюшай! Эй, Сашок, да ты слышишь, что она говорит?»
Легкий шелест босых ступней.
– Сураев, поди почисти зубы. Времени у нас в обрез.
Он затаился. А открыв глаза, увидел, сквозь предательские слезы, как Милка заканчивает совершенно немыслимый для неё прежней, бесстыдный жест.
Глава 5
Уши твои подслушивают,
глаза твои подсматривают.
Из древнеаккадской поэзии.
К полудню и радостный подъем, и ощущение телесной опустошенности покинули Сураева, оставив едва заметную боль в висках. Он многое успел за эти часы. Начать с того, что выпроводил Милку на квартиру подруги.
Из парадного вышли порознь. Укрывшись за стеклянной дверью бывшей булочной, а теперь комка с непонятным названием на иврите, он поглядывал на Милку, ожидавшую у двух чемоданов заказанное по телефону такси. Смотрелась она очень даже неплохо, отчего Сураев испытал нечто похожее на гордость собственника – чувство, в отношении Милки совершенно неуместное. Договорились, что она остановит водителя через два квартала после нужного дома, подождёт, пока такси уедет, и вернётся пешком. Помимо этих предосторожностей, Сураеву казавшихся верхом остроумия, он должен был проследить, не увязалась ли за такси какая-нибудь легковушка или, скажем, мусороуборочная машина. Не обнаружив ничего подозрительного, Сураев, прежде чем пуститься в путь самому, для верности подождал ещё с четверть часа.
Благополучно (а что, спрашивается, могло помешать?) миновал он КП на Паньковской, спрятал паспорт и проложенным ночью маршрутом направил стопы свои к греческому консульству. Не торопился, стремясь продлить несколько извращенное удовольствие от прогулки – извращенное, потому что пребывал в грустной и одновременно приятной уверенности, что на днях покинет прекрасный город, в котором не сумел прожить счастливо. Прощался со знакомыми с детства зданиями и видел их уже как бы со стороны, и не привычную горечь испытывал, а новое, скорее даже гаденькое, мстительное чувство, когда сравнивал их, теперешних, с теми гордыми красавцами, что запомнились ему со сравнительно благополучных шестидесятых. Не важно, кто сказал это первым, но ведь правда же, что недавние бомбардировки и ракетные обстрелы разрушили Гору, её старинные дома меньше, нежели предшествующие капитальные (слово-то какое!) ремонты. Именно они несли медленную, ползучую, для равнодушного глаза вовсе и незаметную погибель пышной, пусть безвкусной и варварской, но единственной в своём роде красоте города. Сносились башенки, сбивался декор, сглаживались штукатуркой лукавые еврейские лица кариатид, затыкались цементом орущие рты театральных масок и, повторяя судьбу устных мифов, погружались в немую плоскость стен мифологические сцены барельефов. Милое, из поздних позднейшее рококо, юго-восточный неоклассицизм, вульгарная, наивная, родная эклектика! А модерн, о тёплый, человечный, на долгом пути с Запада растерявший апломб и надменность, модерн Киева!
Студентом ещё Сураев встревожился, заметался. Надо было хоть как-то, пусть только для себя одного сохранить то, что оставалось. И летом, на каникулах, взял напрокат зеркалку и к ней хороший длиннофокусный объектив, принялся бродить по городу, снимая фасады. Денег хватало только на пленку и химикаты. В отрезках по шесть кадров, в аккуратных целлофановых пакетиках, сложенных в коробку из-под «Птичьего молока», эта чёрно-белая роскошь ждала на шкафу своего часа – пока не унесла её зачем-то Нина.
Зачем-то? К чему лукавить? Ведь рассказал ей о пленках, чтобы заинтересовать, удержать возле себя ещё хоть на полчаса. Отчаянно боролся тогда за неё, все средства были хороши – хватался и за не такие безобидные! Однако Нина пошла своей дорогой, а коробку прихватила для того же (теперь, во всяком случае, так ему кажется), для чего и он не в добрый час пустил в ход заветные пленки. Ведь умненькая Нина не полагалась только на немые свои достоинства, столь ослепившие Сураева, и не на одну только сладость юного женского естества надеялась. Ах, при одном только о ней воспоминании у Шамаша участилось сейчас дыхание – и это несмотря даже на столь лестную утреннюю прихоть Милки, а может, и благодаря ей, этой прихоти! Нина, в общем, трезво себя оценивает, и Сураев лишь со временем догадался: она и молчалива потому только, что ничего интересного не скажет и знает об этом. Тогда её немногословность была одним из достоинств избранницы, общей их чертой, приближающей друг к другу. Однако Нина, как выяснилось, вовсе не считала его комнатушку конечным пунктом своего жизненного странствия: впереди ожидает её мужчина с большой буквы, ради которого весь путь и совершается и которого должна она встретить во всеоружии – не малокультурной, в сущности, танцовщицей-недоучкой, пригодной разве что для циркового кордебалета или ресторанных шоу. Вот тогда она и пустит в ход завлекалочки, добытые на пути к Нему – закулисные цирковые истории, усвоенные от мужа и с успехом (о позор!) испробованные на Сураеве, те же пленки и мало ли что ещё теперь…
А вот и консульство. Особнячок, при Советах совершенно запущенный, потому что служил многолетним обиталищем нищего районного «Водогазканала» или как оно там. Греки его привели в порядок, расцветили в конфетные жёлто-розовые колера и водрузили на центральной башенке свой национальный стяг, с нынешней окраской особнячка скорее диссонирующий. Флаг, судя по расставленным на горбатой крыше прожекторам, вечером подсвечивается. Плюют, в общем, на затемнение: может, храбрятся, а то и чего похуже –палите, мол, куда попадёте, да только не по нам, грекам!
На стенах никаких тебе ржавых подтёков, облупившейся штукатурки и прочих неореалистических красот средиземноморской архитектуры. То ли кино и в этом врёт, как почти всегда, то ли перед нами выездной вариант. А для любителей неореализма – вон хоть бы домина напротив, пятиэтажка солидного купеческого модерна, отселенная, видать, для капремонта перед самой перестройкой да так и простоявшая, ветшая, все эти годы. Дверь у греков, ты посмотри, лакированная, с резьбой, а на нижней филенке сияет медная пластина – это чтобы посетители могли всласть ногами попинать или…
– Стий! Вы до кого?
И забудешь, что охрана тут нашенская, так напомнят. После прикинул Сураев, и вышло у него, что на переговоры с деревенщиной-ментом, засевшим в чёрной будке, ушло времени лишь немногим меньше, нежели на решение всех вопросов с греческими чиновниками, когда к ним удалось, наконец, прорваться.
Греки удивили Сураева. И не столько доброжелательностью, ведь на неё он и сам надеялся, сколько деловитостью. Показали кладовку, где до отлета постоит запаянный цинковый гроб. Полиция уже вернула Генкины вещи, среди них оказались и осколки компьютера в полиэтиленовом пакете. Денег объявилось не так много, как предполагал Сураев, чему не стоило удивляться. Распоряжения и доверенность Ксении Флоридис уже пришли на факс консульства, и Сураеву, чтобы получить Генкины капиталы на руки, оставалось только расписаться.
– А моя виза? – осмелился он заикнуться, засовывая зелень поглубже во внутренний карман.
– Вашу визу сделает Ламбракис, – не моргнув глазом, ответил чиновник. – Оставьте для него ксерокс вашего паспорта.
– Где ж он, этот Ламбракис? – чувствуя себя нахальным просителем, осведомился Сураев.
– Ламбракис забирает тело Флоридиса. Вот это его телефон. Звоните.
Радостное возбуждение, охватывающее Сураева всякий раз, как доводится ему расписываться в платежной ведомости, сразу пригасло. Что ж, пусть незнакомый ему, однако, будем надеяться, энергичный Ламбракис сделает вместо него всё, что необходимо для перевозки гроба, а он займется тем, с чем никакому Ламбракису не справиться – выполнит главную просьбу Ксении. А это поважнее для успокоения Генкиной души, чем увезти его прах из города, где провёл Генка молодые – и едва ли худшие свои годы…
Спросил ещё совета, где купить видеокамеру подешевле, и покинул гостеприимные жёлто-розовые стены. Чтобы в полдень, вновь беспрепятственно проникнув в еврейский анклав, вдруг застрять перед дверью квартиры, оставленной Милке подругой.
Нерешительность его объяснялась, прежде всего, боязнью: он даже не мог предварительно прозвонить хату, потому что телефон в ней отключён. Возможно, безопаснее было бы тихонько открыть дверь ключом, лежавшим у Сураева в кармане, однако он всё колебался, не чувствуя себя вправе. Вот и топтался, как дурак, перед обшарпанной дверью. Дом вообще похуже, чем тот, где Милкина квартира. Доходный начала века, торчит на задворках Мариинско-Благовещенской. Над речкой-вонючкой, летописной Лыбедью, а нынче серо-жёлтым ручейком в бетонном русле. Лестничные клетки в политических графитти, сменивших в свое время традиционные трехбуквенные. Лифта нет. А какая разница? Один чёрт они все стоят… Решился и нажал на кнопку звонка. Результат нулевой. Тогда постучал, тоже, как договаривались, трижды. Милка открыла не сразу. Со шваброй, под глазами синяки. О пресветлая владычица наша Иштар, да ей и синяки к лицу!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































