Читать книгу "Самоучитель прогулок (сборник)"
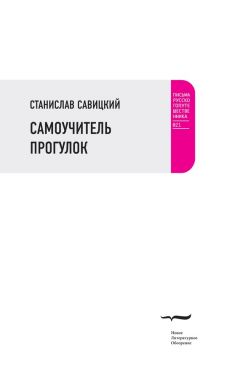
Автор книги: Станислав Савицкий
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Мне очень нравится, что бомжиха знает, что может зайти в кафе. Ей не будут рады, и ее вид смущает посетителей. Она не будет задерживаться тут, она воспользуется своим печальным преимуществом касты неприкасаемых и получит то малое, на что может рассчитывать. И хозяйка, хочет она того или нет, выполнит ее скромную просьбу.
Я где-то прочел, что в Париже есть городской закон, по которому в кафе любой посетитель может попросить стакан воды. Вряд ли бармены и официанты в восторге от этого закона, но это минимум человеколюбия, который нужно соблюдать. Не надо любить ближнего своего. Стакан воды – это уже кое-что, а по нашим временам такие жесты тянут на поступок. Однажды в брассери на Сен-Жермен вечером я пытался вспомнить за дижестивом все выпитые за день аперитивы. И тут прямо к стойке бара на роликах подъехал парень. Это было лет десять назад, до запрета кататься на роликах в публичных помещениях. Парень вылетел из колонны роллеров, которая неслась по бульвару. Не знаю, было ли это соревнование или просто веселая движуха, но парень был не в желтой майке лидера. У него был вид отпетого спортсмена, знающего, что скоро гонка закончится и можно будет выкурить две сигареты подряд, а потом спокойно выпить. Он попросил стакан воды. У бармена в этот день настроение было не очень, а тут еще этот. С видом человека, которому есть что сказать, но тем не менее воздерживаясь от комментариев, он дал стакан воды. Роллер его поблагодарил. И уже когда роллер вылетел обратно на бульвар, чтобы влиться в колонну, бармен пробурчал что-то вроде «ходят тут всякие» и уставился в экран TV, где «Пари-Сен-Жермен» опять продувал каким-то слабакам.
Франция всегда удивляла меня не только регламентированностью повседневной жизни, не ограничивающей, впрочем, свободу жить на свой лад, но и тем, что, будучи частью одной большой страны, ее земли чтут своих genius loci и остаются сами собой. У нас, в России, в недалеком прошлом на одной шестой части мировой суши, эти различия между разными регионами почти стерты, что противоречит здравому смыслу и, как все абсурдное на наших необъятных просторах, кажется совершенно естественным. Здесь же каждый город, каждое место дорожат тем особенным, что у них есть. Если город портовый, шумный, без руля и без ветрил, он не будет выдавать себя за культурную столицу. Область, издревле располагающаяся на пересечении нескольких культур, жители которой с детства говорят на нескольких языках, не станет настаивать на том, что ее объединяет некая духовная общность. Перекресток – он и есть перекресток. Какой смысл изображать уточненные вкусы и аристократизм, когда вокруг в основном крестьяне и рабочие, сметливые и хозяйственные, подозрительные к приезжим, пока не познакомятся с ними поближе, а потом готовые рассказать им все, что было здесь за последние дцать лет?
Меня все это удивляло, потому что в России, несмотря на ее невероятное многообразие, люди до последнего времени обращали мало внимания на то, чем они обязаны месту, где выросли и живут. Балтика, Красноярский край, Казань, Екатеринбург – это разные миры. Но мы не вдаемся в детали и различия, мы поглощены тем, что нас объединяет, и готовы считать себя всем во всем.
Во Франции иначе. Возьмем, например, город Анже – место укромное, хотя на самом деле это столица края и по европейским меркам город достаточно большой. В нем есть спокойствие, царящее там, где войны и великие события отгремели давным-давно, страсти унялись и люди теперь живут здесь своей жизнью. А то, что когда-то эта земля была владениями Плантагенетов, что один ее край был в Шотландии, а другой в Пиренеях, что здесь правили анжуйские короли, только украшает умиротворенное существование местных жителей. Это одна из самых французских Франций, ее «центр», неукротимая Луара, на первозданность которой якобы не посмел посягнуть даже в фантазиях ни один гидроинженер. Она течет быстро, напористо, мимо пологих холмов, полей, расчерченных на многоугольники, и приземистых пышных рощ, омывая песчаные отмели и поросшие кустарником островки. Природа здесь так аккуратно первозданна и так не похожа на родной русский пейзаж, складывающийся из двух-трех объемов, сквозь который, как из супрематической картины, путь один – напрямик в космос. И свернуть ведь не свернешь.
В старом анжерском замке хранятся знаменитые шпалеры Апокалипсиса, созданные в эпоху религиозных войн. Они висят в отдельном здании. Там всегда полумрак, предохраняющий ткани от разрушительного света.
Страшный зверь и жуткие монстры пугают уродством. Их боятся герои древней книги, боятся, но не трусят. Злодеи будут повержены, после того как на землю упадет звезда Полынь, будет разрушен Вавилон, саранча поест весь урожай, а Святой Иоанн съест книгу. За исключением сюжета «Откровения Иоанна Богослова», в этих картинах непонятно все: и кто такие многие персонажи, и бытовые детали, и компоновка сцен. Рассматривать их можно часами.
В Анже стоит задержаться подольше, чтобы отвести душу на «краю света» – на обрыве холма возле замка, откуда открывается вид на реку Мэн, город и окрестности. Жюльен Грак был великий толкователь этих ландшафтов. Он умел вычитывать в пейзаже простые мудрые смыслы. По городу ходит автобус, кажется, «двойка», конечная остановка у него Bout du monde, край света. Так на лицевом стекле, на электронном табло, и написано.
Анже уютен. Его тайны наивны и невелики. О них не пишут в путеводителях.
Как не похож на Анже Ля-Рошель!
В нем людно, особенно в курортный сезон. Здесь много приезжих из разных мест. Покоя тут не найдешь, только суету, гам. Тут Атлантика, продувающая порт насквозь, окутывающая влажным ветром старые кварталы и новые портовые застройки, подгоняя прохожих на набережных, и иногда внезапно вырывающая тебя из житейского круговорота, заставляя всматриваться в бесконечность океана. В безоблачные солнечные дни линия горизонта теряется между небом и водной гладью. Мы не ждем от жизни подарков. Вот и горизонт пропал.
Рядом с Ля-Рошелем – остров Ре, где люди состоятельные и не слишком состоятельные проводят отпуск или выходные, если вы не отщепенец, таящийся в местах глухих, безлюдных. Для путешествий в укромные края больше подходит Морбиханский залив на юге Бретани. Например, окрестности острова пингвинов, пригрезившегося Анатолю Франсу. Это странные, интересные места. Природа там пышная, но все как будто чуть-чуть меньше, чем обычно. Деревья приземистей, острова – как в луна-парке, мир на пару размеров меньше, чем вы носите. Другой вариант для тех, кто предпочитает уединиться со своими альтер эго, – атлантическое побережье южнее, в районе Бордо. Рыбацкая деревушка Гужан-Местрас прячется в бухтах, застроенных времянками. В них хранятся лодки и плиты, на которых растят устриц. Раньше художники ездили сюда на пленэр – охотиться на genius loci. Теперь это излюбленное место фотографов. Как-то я познакомился с симпатичным дядькой, фотографом. Он долго жил в Париже, рассказывал, как снимал ночной город и разные углы и закуты, а потом перебрался в эти края. Снимает местную жизнь, ландшафты, то, чем живет эта земля.
Мой любимый французский фильм я обязательно когда-нибудь досмотрю до конца. Я люблю его и так, не зная финала. Больше всего я люблю смотреть его вечером, когда смеркается или уже стемнело. Дневные дела отложены до завтра, жизни от тебя больше ничего не надо, ничто не отвлекает тебя от просмотра фильма, который ты никак не можешь посмотреть целиком. Титры я последние годы пропускаю. С ними все более-менее ясно. Первые сцены на шумном рынке мне не очень нравятся. Мельтешат в кадре покупатели. Мелькает акробат на сцене ярмарочного театра, прощелыга с хитрой рожей. Затем возникает главный герой – смазливый, ловкий на язык и жуликоватый. Его я вовсе не люблю. Потом является красавица, хороша собой, хотя имеет такой неприступный вид, как будто все французы, имеющие право голосовать на президентских и парламентских выборах, хотят ее прямо сейчас. Она мне нравится, несмотря на то что из-под грима проступают серые тени под глазами, и так и хочется сказать ей, что она неплохо сохранилась для своих… Смазливый тем временем начинает за ней ухаживать, а за кулисами цирка, что рядом с рынком, пузатые силачи садятся на шпагат, крошечные Дюймовочки тягают гири немногим меньше их самих по размеру, усач с придурковатой улыбкой глотает шпагу.
И тут я обычно засыпаю. Это сладкий, безмятежный сон, ты плавно скользишь в мягкую тьму, теряя равновесие от легкого головокружения, и окунаешься в пустоту, как в тень от притормозившего рядом с тобой автобуса, внезапно заслонившего слепящее июльское солнце.
Я так люблю этот старый черно-белый фильм, снятый в Ницце или где-то на Средиземноморье в разгар войны и выпущенный в прокат за несколько дней до победы. В нем все замедленно по сравнению с современным кино так, что ты как будто начинаешь замечать, что эти картинки действительно движущиеся. Неспешно идут титры, а мы и не торопимся. Панорама рынка и завязка сюжета растягиваются минут на двадцать. И, войдя в этот ритм, у тебя нет желания поторапливать этот размеренный черно-белый мир, заранее зная, что будет в следующей сцене и что будет за ней. Случалось, я досматривал этот фильм до середины – и засыпал. Раз посмотрел почти целый час – провалился в счастливый сон.
Всякое бывало.
И какая разница, что там в финале.
На обложке одной французской книжки, которую я очень люблю, изображен мужчина средних лет, задумчиво рассматривающий цветок. Левая рука, в которой он зажал трость, отведена в сторону, мужчина задумался не на шутку. Знать бы над чем. Завивающиеся локоны парика, ложащиеся на плечи, придают этому чудаку-ботанику еще большую загадочность. В пухлом томике карманного формата с потрепанными углами и затертым корешком много узких желтых закладок. Я наклеиваю их в правый верхний угол, стараясь не закрывать текст. На них всегда какие-то каракули, в которых я далеко не всегда могу разобраться. Однажды меня застал за чтением в кафе знакомый моего давнишнего приятеля. Я пришел на встречу раньше времени, зачитался. А когда поднял голову от книги – увидел изумленное лицо и пальцы, тянущиеся к желтым закладкам.
– Что это? – спросил он с удивлением Пятницы, написанным на физиономии Золотухина. Он, конечно, не книгочей, а звукорежиссер, причем известный, работающий с Дэвидом Бирном. Главное в его деле – ловкость рук и умные, ясные уши. Живет он в небольшом городке, там находится его студия. И все-таки удивление его не могло меня не удивить.
Тогда я стал ему объяснять, что в книгах некоторые места мне кажутся интереснее, чем другие. Как в песне Моррисси, Some Girls Are Bigger Than Others, у всех ведь есть свои привязанности и предпочтения. Чтобы не забыть, что меня заинтересовало в тексте, я вклеиваю эти желтые закладки. Взгляд, которым наградил меня знакомый, выражал страх и поклонение. Продолжить заводить разговор в тупик нам помешал подошедший на самом интересном месте приятель.
С тех пор к этой книжке я прикипел душой.
Она была написана, чтобы рассеять недоразумения, возникнувшие после предыдущей книги этого автора. Недоразумения были в самом деле досадные. Автору хотелось рассказать о себе так, чтобы читатель разделил его опыт, его чистосердечные признания и стремление к добродетели. Однако публика сочла, что у него вышла не притча о том, как он низвергает пороки, но исповедь гнусного сына добродетельного века, рассказавшего о таких вещах, которые не стоит выносить на всеобщее обсуждение. Зачем, спрашивается, знать об авторе столько пикантных подробностей? За некоторые признания его стоило бы упечь на месяц-другой в тюрьму, чтобы, реши он опять поделиться сокровенным и наболевшим, ничего пакостного о себе впредь не рассказывал. Какая же это гадость, вчера читал всю ночь!
Автор, конечно, был раздосадован на то, что его лучшие намерения были встречены вопиющим непониманием. И в своей новой книге решил разъяснить в подробностях свой замысел, чтобы снять все недоразумения. Решительно и чистосердечно он написал о том, о чем не отважился сказать сразу. Написал, как ради высшего блага сдал своих детей в странноприимный дом, о том, как зачастую крал у знакомых безделушки и разную ерунду, о том, как боялся больших собак, о том, как не мог ужиться ни с любовницами, ни с друзьями, ни с покровителями, которые были готовы приютить его в годы мытарств.
Я не знаю ни одной книги, где есть столько несуразностей, то есть где нет ничего, кроме несуразиц, и где несуразица – залог открытий, дающих нам новое понимание природы человека как общественного существа. Это история о трагедии человека, обреченного на то, что все его устремления будут истолкованы превратно и теми, кому он хотел бы довериться, и теми, кого он числил среди своих единомышленников или таких же вольнодумцев, как он. Пройдет время – и его история станет уроком и пищей для размышлений, но это случится позже. Сострадать этому писателю, по-моему, просто нетактично. Неловкий танец изобретает новую пластику, из какофонии рождается новая музыкальная форма, нелепые слова открывают новое знание и мудрость.
Эта книжка, разумеется, не завершена. Не хватает минимум пары глав. Это не делает ее ни менее содержательной, ни более трагичной или более загадочной. Правду о себе можно, конечно, рассказывать до бесконечности, если не свести все к лаконичной банальной формулировке.
Среди книг, которые я очень люблю, есть несколько купленных на книжных развалах. Это чудесные, вкусные, как говорил один мой давний приятель, книжки. А то, что я, даже не догадываясь об их существовании, нашел их случайно в стопках старых изданий с пожелтевшим обрезом и выцветшей обложкой, повышает их ценность в энное количество раз. Однажды в Нанте, пройдя по строгой и уютной аллее времен Директории, я наткнулся на брокант посреди небольшой площади. Брокантами называют рыночки, которые в теплое время года на день-другой устраивают антиквары и те, кто торгует старыми вещами. Хлама на них завались. Утиля и барахла – мама не горюй. Однажды, например, я видел на одном таком рыночке целый короб fèves – маленьких фарфоровых фигурок, которые кладут в galette – пирог, который пекут на праздник Поклонения Волхвов. Кого только они не изображают! И Богородицу, и немецкого пожарника, и спаривающихся поросят. Кому достанется кусок пирога с фигуркой, тот король, тому картонная корона (сломанный зуб – дань традиции).
На таком броканте я купил книгу интервью с Борхесом: несколько разговоров Борхеса с его переводчиком на французский и другом Жаном де Мийере. Разговоры тоже были на французском, Борхес говорил на нем просто, изящно и умно. Местами это захватывающее чтение. Даже удивительно, как такой остроумный человек мог иногда писать такие занудные эссе. Особенно интересно, как Борхес объясняет, почему настоящему аргентинскому писателю не избежать испанофобии. Все, что дала миру испанская культура, по его словам, сделали ассимилировавшиеся арабы и евреи. Есть сколько-то исключений. Сервантес, например. Настоящий аргентинский интеллектуал – это креол с европейскими корнями, как сам Борхес, англичанин по одной из бабушек и беарниец по одному из дедушек. Беарниец, то есть баск, которого тоже не назовешь другом Испании, да и другом Франции его тоже не назовешь. То, что мысль рождается на пересечении нескольких культур, – идея не слишком оригинальная. Необычно то, как этот европейский интеллектуал, для которого испанский и английский были родными языками, а французский был языком литературы, и свою прозу он писал на испанском, как будто это не испанский, а французский, ощущал себя в Европе одновременно властителем дум и отщепенцем, способным нарушить спокойное течение дел. Он был своим, но не местным, сопричастным и отчужденным.
В другой раз на броканте (или вид гренье, что почти одно и то же) в конце длинной пешеходной улицы в Туре я купил «Дневник путешествия по Америке» Токвиля. Удивительный рассказ о том, как Токвиль отправился в рискованное путешествие в глушь – вокруг озера Мичиган. Там, на окраине Новой Франции, кончался привычный ему мир. Там предрассудки, которыми был полон светский Париж, были изжиты теми, кто искал исконную жизнь вдали от цивилизации. И чем чуднее были нравы американцев, тем понятнее становилась жизнь дома. Я люблю эту книгу не меньше, чем «Персидские письма» Монтескье, в которых взгляд иностранца обнаруживает в европейской жизни то, чего сами европейцы зачастую не замечают. Это остроумный рассказ о том, чем живет Европа.
Бывая в Париже, я регулярно захожу в Boulinier, букинист на углу Бульмиша и Сен-Жермен. Еще лет пять назад там продавались старые кассеты, и я покупал издания Гэнсбура и Брассанса семидесятых-восьмидесятых. Их песни люблю, многие знаю наизусть. Могу, например, ни с того ни с сего на ходу начать напевать Je vivais à l’écart de la place publique или Au village sans prétention. Зеленый томик Брассанса, выпущенный по-французски в Москве где-то в перестройку, у меня со студенчества. Он весь в пометках: подчеркиваниях, смешных значках на полях, смысл которых теперь уже не восстановить. Уже после университета мои московские друзья познакомили меня с Марком Ильичом Фредкиным – поэтом, переводчиком и издателем. Он держал книжный магазин «19 октября» в деревянном доме на Полянке. Марк Ильич перевел пару десятков песен Брассанса и очень душевно их исполнял. Когда умер отец, я поставил эту кассету. С тех пор для меня это печальные песни. Я больше не слушаю эту кассету.
Зато другая старая кассета, любимая еще со студенческих лет, до сих пор при деле. Это запись домашнего концерта Хвоста и его дочки Ани. На самом деле не концерта, а посиделки с друзьями в квартире моей приятельницы Сони на Моховой, где наша могучая кучка иногда собиралась, чтобы со значением произносить друг другу опусы магнумы в присутствии нестрогого и справедливого арбитра вкуса. Мать Сони была приятельницей Хвоста.
Год был девяносто веселый, из ранних, совсем веселых. Хвост впервые приехал в Питер с тех пор как эмигрировал. В приличном подпитии почувствовав себя в родной творческой обстановке, он стал петь вместе с дочкой Аней свои песни и песни, написанные вместе с Анри Волохонским. В общем, репертуар, который взял на вооружение «Аукцыон» в конце девяностых, плюс кое-что еще. Хвост обаятельно-отвратительно хрипел, сипел и гундосил. Аня тонким, звонким голоском укрощала папино буйство. К сожалению, дуэт The Beauty & The Beast выступал редко. Тем ценнее кассета, которую берегу и на именины сердца ставлю.
Хвост тогда спел и несколько переложений Брассанса, душевных и стильных. Они у меня давно путаются с песнями самого Брассанса. Кто, по-моему, совсем не похож на Брассанса, так это Окуджава. У поколения родителей сходство между их песнями не вызывало сомнений. Только у раннего Окуджавы (а я с детства знаю его творчество довольно хорошо) я помню несколько хулиганских песен, написанных от имени подрастающих темных личностей. Но они больше похожи на дворовые послевоенные песни, чем на песни вагантов, которыми вдохновлялся Брассанс. Арбатская романтика имеет мало отношения к романтике парижских окраин, как и фронтовая лирика.
Хвостовские переложения заразительны, могут пристать на несколько дней – и будешь ходить, напевая его «Вот это песня для тебя» или смешнейшую «С соседом я пропил последнюю рубашку». Вот и думай, кого больше любишь: Брассанса, поющего в брассери Au bois d’mon coeur, или Хвоста, под уговорами друзей соглашающегося прореветь вепрем еще один застольный хит, не попадая ни в ритм, ни в ноту и празднуя очередной праздник, который не найти ни в одном календаре.
Ни про меня, ни про нашего счастливого героя нельзя сказать, что мы галломаны или франкофилы. То есть ничто французское ни мне, ни ему не чуждо, но никогда нами не овладевала идея изображать из себя француза. Нашему благоденствующему герою никогда не приходило в голову начать собирать французские комиксы, французские монеты или прижизненные издания Альфреда Жарри. Я с юности любил песни Брассанса, но в комнате моей не висел на стене его портрет, я не носил ту же прическу, что он, и не старался подражать его выговору. Один портрет, между прочим, висел: Франсуа Трюффо в уютном помятом пальто с большими пуговицами. Нравился же мне по-настоящему снимок с Мишелем Фуко, Жаном Жене и Жан-Полем Сартром, сделанный на какой-то демонстрации в 1968-м. Они на нем один другого революционнее: злобный лысый с острым нервным взглядом, другой тоже лысый, но с добродушным и почему-то вызывающим тревогу лицом, – и третий, смотрящий одновременно на тебя и на всех, кто с нами в этот вечер, и готовый в любой момент провозгласить начало вселенского бунта.
«Вот это мыслители, – думал я, – а не скукоженные университетские доценты, робкие, как щенята».
Мне тогда казалось, что размышлять, отстаивать свою точку зрения, писать статьи и книги – в этом и состоит вольная воля. Я восхищался тем, что французские интеллектуалы влияли на политическую ситуацию, бузили во всю комаринскую. Хотелось спорить, как они, всерьез обдумывать происходящее вокруг. Тогда в Питере стали продавать Gitanes без фильтра и Gauloises Caporales. Эти солдатские сигареты курили мои любимые герои ранних фильмов Годара. Мне нравилось, что умные и смелые люди курят то же, что рабочие и простой народ. Завсегдатаи Публички раньше за спорами в курилке дымили «Беломором». Демократизм праздновал полную и безоговорочную победу. Удостовериться на французском опыте в состоятельности того, к чему я с детства привык, живя в Питере, было одним из главных проявлений моей любви к Франции. Галломанией это не назовешь.
У нашего счастливого спутника был, конечно, период, когда он только начал ездить в Париж, и главной заботой тогда было быть в курсе того, чем живет тамошняя передовая мысль. Тогда важно было привозить на наши болота последние интеллектуальные новинки. Это был короткий период ученичества. Так сложилось, что сначала он узнал про Альфреда Жарри, патафизику, дада и сюрреализм и только затем про русский футуризм и ОБЭРИУ. Но он не стал подражателем доктора Фаустролля или Андре Бретона. Французские авангардисты были нашими собеседниками так же, как Даниил Хармс или Николай Олейников. Абсурдизм долгие годы был новым реализмом, интернациональным художественным языком.
Что касается революционного бунтарства и смекалки подрывника, этого у нас никогда не водилось. Я очень не люблю толпу, особенно когда она движется безликой, безумной массой к цели, которую сама не выбирала. Ни о свободе на баррикадах, ни о жертвенном образе июля 1830-го грезить мне никогда не доводилось. Гораздо больше в старших классах меня волновала обнаженная грудь женщины, держащей знамя на картине Делакруа. С возрастом воинственности не прибавилось, но к красоте меня по-прежнему тянет. И я все так же люблю свободу за то, что она приходит нагая. Мандельштамовский стих «Я молю, как жалости и милости» мы с героем прочли довольно поздно, уже в студенчестве, вместе с «Нотр-Дамом». Ему больше понравился и был больше понятен «Нотр-Дам» – ему казалось удачным сравнение современной поэзии и готического зодчества. Впрочем, сегодня пафос тех лет сложно переживать с той же силой. Песенка «Кирпичики» – о трудовых буднях соотечественников – гораздо ближе к нашей жизни, чем этого можно было бы желать. Так уж выходит. Как сказал бы Селин, случись ему увлечься языком «падонков», поздняк метаться.
Роальд Мандельштам писал про Ленинград конца пятидесятых: «В подворотне моей булыжник, словно маки в полях Моне». До таких серьезных галлюцинаций у меня никогда не доходило. Но, конечно, и мне было бы чем похвастаться перед психологом, если бы тот стал расспрашивать меня о моей давней любви к Франции.
С детства я не считал французов сухими, как иногда это свойственно русским с нашей жадностью к открытому общению. В детском саду я считал французов пижонами, выпендрежниками и смешными хитрованами, как Кот в сапогах из сказки Перро с веселыми картинками Трауготов. В школе Кота в сапогах затмил отважный паренек – герой парижских баррикад из романа Гюго, и, конечно, д’Артаньян, у которого была такая же шляпа с загнутыми по бокам краями и пером, как у Кота в сапогах. Кстати, Кот запомнился мне больше шляпой и усами, чем обувкой, плюс молодечеством и бравадой не без хитрецы – с примесью загадочной гасконской крови, которую я долго не мог соотнести с регионом на юго-западе Франции, думая, что эта такая Испания, которая тоже Франция, но не совсем, а только другая. Боярский из советского мюзикла добавил усов к книге Дюма, которую я замусолил, перечитывая раз за разом.
Когда в старших классах я познакомился с мрачными персонажами Бальзака, Флобера, Золя и Мопассана, жертвы мещанских идеалов не вызывали у меня ни сочувствия, ни интереса. А вот Курбе, посягнувший на Вандомскую колонну, или веселая братия с Монмартра как раз вписывались в образ француза-возмутителя-спокойствия, не отказывающего себе в удовольствии попижонить, когда есть настроение, и отрывающегося при первой возможности от коллектива. Главное – это не быть успокоенным, говаривал поэт Багрицкий, вот только слишком коротко пожил. Моим юношеским героям этот девиз вполне подходил.
Так Франция стала для меня не страной рассудительных делопроизводителей и рыцарей здравого смысла, но миром приключений, открывшимся еще при чтении истории о мушкетерах. Играть со случаем и сумасбродничать – это, конечно, не традиционная французская забава. Галломания моя прихрамывает, но уж какая есть. У Жермены де Сталь все эти мои фантазии, наверно, вызвали бы когнитивный диссонанс. Она возлагала большие надежды на жителей наших северных широт, ожидая увидеть среди них полчища сумрачных славянских гениев. Ей довелось посетить Москву после того, как Наполеон выдворил ее из Франции, но тут ее постигло разочарование. Вместо северян, одержимых неистовым порывом, она встретила Карамзина, и самый важный русский путешественник показался ей всего лишь сухим, занудным французишкой. В Париже таких была тьма, и даже на Леманском озере от них отбоя не было. Представьте себе, как ее хватила бы кондрашка, если бы она услышала гимн французскому лиху. А может быть, этот интеллектуальный пируэт, напротив, ее бы только позабавил: француз-беспредельщик – какая прекрасная мысль! Это шарман, полный и безоговорочный шарман! Именно так отвечают пациентам, какой бы бред они ни несли, психиатры клиники Belle Idée, которая находится на склоне горы Салев в ее родной Женеве. Вечно мятущимся – наше вам с кисточкой!
Наводить напраслину на Париж и прилегающую к нему Францию, конечно, не стоит. Будь моя воля, я бы и Гоголю отсоветовал ворчать на Париж, умалять его достоинства перед Римом. В Париже своя довлеет дневи злоба. Здесь всегда было достаточно всего, чтобы удовлетворить те потребности, которые самое время удовлетворить.
В разгар моего романа с Францией мне очень нравилось жить повседневной парижской жизнью. Сначала я ездил в Париж, в других городах я стал бывать уже позднее. Интересны были самые обыкновенные вещи: читать на скамейке в Люксембургском саду, болтать в брассери с барменом, покорять стиральную машину в прачечной. Ожесточенное сопротивление до последней минуты оказывал автомат, выдающий стиральный порошок. Но в конце концов противник был сломлен, хотя и не вернул мне проглоченные десять франков. Чтобы узнать французскую жизнь со всех сторон, надо было, разумеется, перепробовать весь местный алкоголь. Довольно скоро мне стало ясно, что жизнь человеческая слишком коротка, чтобы познакомиться с творчеством виноделов из всех шато. Аперитивы, дижестивы и пиво в отличие от вина меня ничем не озадачили, но и настоящего чувства в мое сердце не заронили. Зато вино с каждым глотком раззадоривало и заставляло признать тот печальный факт, что возможности человеческие ограничены. Пить вино значило сознавать свой предел. Долгое время я только поверхностно понимал, что имел в виду Эдмунд Берк, когда писал о возвышенном. Ни водопады (а я еще в детстве был на Киваче и запомнил это величественное зрелище), ни суровые Саяны, ни Красноярское море, где плавает на боку дохлая рыба, ни разбушевавшаяся Атлантика, которую я наблюдал на острове Ре, вымокнув до нитки под ливнем, прихлебывая кальвадос для согрева, не поразили меня до глубины души. Напугать – напугали, особенно дохлая рыба, глухо стукавшаяся о борт лодки, поблескивая остекленевшим глазом и оттопырившимся в судороге плавником. Но напугаться не страшно. Страшно дать волю страху. Страшно быть смелым, когда от тебя этого не ждет даже окочурившийся карась.
Предел своих возможностей перед неукротимой стихией я ощутил в гигантском ангаре, заставленном до потолка штабелями винных бутылок. Виноградарь, друг моего приятеля, живущего на границе Бержерака и Аквитании, который пригласил меня погостить у него, устроил нам экскурсию по своему хозяйству. Впечатлений от этой экскурсии, во время которой мы от души нарезались разными домашними наливками и чудесным вином, было предостаточно. Но свою ничтожность перед мирозданием я впервые осознал, оказавшись в ангаре, где хранилось вино. С тех пор не питаю никаких иллюзий ни о себе, ни о том, как гордо звучит слово «человек».
Познание французской жизни в ее неcлыханной простоте имело кулинарное продолжение.
Перепробовав все сыры, колбасы, пирожные и даже попытавшись поджарить однажды вымоченные в молоке куриные сердечки, которые превратились на сковородке в жесткие прогорклые жилы, я устремил свои духовные взоры в мир полуфабрикатов. Тут меня ожидало множество открытий и одна поучительная история, которую я не могу не рассказать.
В отделе супермаркета, где продавались отбивные, котлеты, биточки и прочие радости жарки на дому, в один прекрасный день появились аппетитные толстые колбаски, содержимое которых имело коричнево-красный цвет. Они лежали рядом с другими полуфабрикатами, которые я с догадливостью скифского парижанина отнес к департаменту гриля. По форме и по содержанию они напоминали мне купаты или сардельки в их доисторическом, хтоническом состоянии. Некоторое время ушло на то, чтобы привыкнуть к тому, что они постоянно попадаются на глаза среди прочих мясопродуктов. Наконец я решился их купить с намерением поджарить.
Все начиналось как нельзя лучше. Жир аппетитно пощелкивал на раскаленной сковородке. Колбаски стали поджаристого цвета. Я собрался было подбросить лучку, как вдруг одна колбаска плюнула в меня куском горячей требухи. Метила в глаз, я увернулся, но обжигающие брызги попали в ухо. Не успел я опомниться, как другой кусок размолотых потрошков взмыл в потолок и застыл там, как остановленный кадр видео. В следующие несколько секунд прозвучало около дюжины выстрелов. Замерев на мгновение, я понял, что бояться пули действительно глупо, все равно промажет. Ну а не промажет – что ж тогда? К тому же пуля – не дура, нужны ей очень такие, как я. Как в классическом вестерне, я остался цел и невредим. Только мочку уха жгло от капли раскаленного жира. На сковородке в кипящем жире скукоживались шкурки от колбасок и игриво подпрыгивали маленькие кусочки фарша.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































