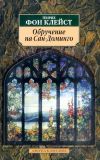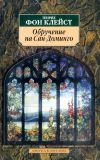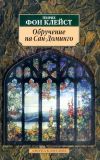Текст книги "Смятение чувств"

Автор книги: Стефан Цвейг
Жанр: Литература 20 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Смятение чувств
Из приватных записок тайного советника Р. фон Д.
Разумеется, они хотели как лучше, мои ученики и коллеги с факультета: вот он, передо мной, роскошно переплетенный, торжественно преподнесенный, самый первый экземпляр юбилейного сборника, подготовленный филологической общественностью по случаю моего шестидесятилетия и тридцатилетия моей академической деятельности. Ни дать ни взять, прямо-таки биография: ни одна моя статейка, даже крохотная, ни одна произнесенная мною речь, ни одна даже самая ничтожная рецензия в запыленном научном ежегоднике не ускользнули от неуемного библиографического рвения – все они извлечены из бумажной могилы, и мой путь наверх, неуклонный и без помех, ступенька за ступенькой, словно чисто выметенная лестница, представлен здесь вплоть до нынешнего часа, – воистину, было бы черной неблагодарностью не оценить столь трогательную и кропотливую заботу. В этом торжественно-юбилейном отражении все прожитое и пережитое, успехи и утраты, возвращается ко мне в строго упорядоченной совокупности, и, да, не скрою, я, пожилой уже человек, взираю на эти страницы с не меньшей гордостью, нежели когда-то, еще школяром, смотрел на табель с подписями учителей, впервые отметивших мои способности, прилежание и склонность к наукам.
И все же: перелистав эти две сотни скрупулезным тщанием овеянных страниц и пристально вглядевшись в свой облик, каким он видится моему внутреннему оку, я не могу сдержать улыбку. Неужто и вправду такой была моя жизнь, неужто и в самом деле от первого часа до нынешней даты она взбиралась в гору столь уверенным и целеустремленным серпантином, каким сложил ее здесь из бумажных завалей добросовестный хронист? Точно такое же чувство я испытал, впервые в жизни услышав свой голос в раструбе граммофона: я сначала вообще себя не узнал, ибо это был тот мой голос, каким его слышат окружающие, но не я сам, сквозь гул своей крови, во внутренней скорлупе своего бытия. И вот сам я, всю жизнь посвятивший тому, чтобы судить о людях по их делам и творениям, каковые, как мне казалось, только и выявляют духовную суть человека, теперь уже на собственном примере убедился, до чего таинственным, непроницаемым в любой судьбе может оказаться то сокровенное, исконное зерно, та живительная ячейка, из которой и происходит сущностное произрастание личности. Мы проживаем на своем веку мириады секунд, но лишь одна из них, одна-единственная, дает толчок и приводит в созидающее волнение весь духовный мир, – та секунда (ее описал Стендаль), когда наш внутренний, уже всеми соками напитанный цветок молниеносно кристаллизуется; эта магическая секунда подобна мгновению зачатия и столь же сокрыта в теплой сердцевине жизни своей – незримое, неосязаемое, неощутимое, совершенно по-особому пережитое таинство. Никакой умственной алгеброй ее не исчислить, никакой алхимией интуиции не угадать, и лишь крайне редко ее удается уловить собственным чутьем.
Так вот, о самом сокровенном, о святая святых моего духовного становления в этой книге нет ни слова – потому я и не удержался от улыбки. Тут вроде бы все правда – но главного недостает. Эта книга меня описывает, но никак меня не выражает. Она говорит обо мне, но никоим образом меня не раскрывает. Две сотни имен насчитывает дотошно составленный указатель – и лишь одного имени там нет, имени человека, от которого воспринят мною творческий импульс, того, кто определил всю судьбу мою и кто теперь снова, с удвоенной силой, влечет меня во времена моей юности. Обо всех тут сказано – только не о нем, том, кто дал мне язык, чьим дыханием живо мое слово: и именно сейчас, внезапно, я ощутил в малодушии этого умолчания свою вину. Весь свой век я запечатлевал образы людей, вызывая их тени из тьмы столетий, оживляя их для восприятия современников, а того, кто был мне современней и дороже всех, я даже не упомянул, не помянул ни разу; а коли так, я хочу, как в гомеровские времена, напоить возлюбленную тень своею кровью, дабы он, давно ушедший со склона лет, снова заговорил со мной, тем, кто пока что еще на склоне. В память об этом человеке, ради него и в благодарение ему, я хочу ко всем страницам этой открытой книги приложить еще одну, потаенную, дополнить ученый том признанием чувства, самому себе поведав правду о своей юности.
Прежде чем начать, я еще раз перелистываю страницы юбилейного сборника, мнящего себя повествованием о моей жизни. И снова не могу удержаться от улыбки. Да как же они намеревались проникнуть в самую суть моего существа, если уже на пороге ошиблись дверью? Первый же шаг – и сразу мимо! Вот же, мой благожелательный соученик, ныне, кстати, тоже тайный советник, вдохновенно плетет, будто я уже в гимназии выделялся среди всех однокашников страстной любовью к гуманитарным предметам. Подводит, ох, подводит вас память, дражайший тайный советник! Вся эта гуманитарная галиматья была для меня плохо переносимой тягомотиной, которую со скрежетом зубовным пропускаешь мимо ушей. Сын школьного ректора в небольшом северном городишке, я с младых ногтей наблюдал всю неприглядную изнанку так называемого образования, воспринимаемого в семье лишь как средство добывать хлеб наш насущный, и с детства всякую словесность возненавидел. Совсем неспроста природа, мистическим образом верная своему долгу сохранять в себе творческое начало, внушает чаду отвращение и язвительную неприязнь к склонностям отца. Ей не угодно покорное, худосочное наследование, привычное, бесконфликтное продолжение одного и того же из поколения в поколение: ей непременно нужно вклинить противоречие между схожестями родства, и отнюдь не сразу, а лишь по прошествии испытаний, мучительным, но зато плодотворным обходным путем дозволяет она наследнику вернуться на стезю предков. Раз отец мой почитал науку святыней, я в своей тяге к самоутверждению видел в ней лишь пустопорожнее занудство и жонглирование понятиями; он прославлял классиков как непреложный образец, мне в них слышалась только скучная назидательность, ставшая ненавистной. Выросший среди книг, я презирал книги; вечно понуждаемый отцом к духовному росту, я бунтовал против любых форм книжного образования; неудивительно, что я с превеликим трудом, через пень колоду дотянул до аттестата зрелости, после чего от поступления в университет отказывался наотрез. Я хотел стать офицером, моряком или инженером, хотя настоящих задатков ни к одной из этих профессий я не имел да и склонности всерьез не питал. Стремление к практическому, деятельному поприщу вызвано было в моей душе лишь неприязнью к бумажной науке, к ее тоскливой дидактике. Однако отец мой, с его фанатичным почтением ко всему университетскому, настаивал на академическом образовании. Единственное послабление, какое мне удалось выбить, – это избрать вместо классической филологии англистику (компромиссное это решение отчасти было связано с потаенной надеждой, что знание общепризнанного языка моряков позволит мне впоследствии тем легче переключиться на столь притягательную своей романтикой морскую карьеру).
Так что нет ничего более вздорного в этом curriculum vitae[1]1
Жизнеописание (лат.).
[Закрыть], нежели благостное утверждение, будто в первом своем берлинском семестре я под мудрым попечением заслуженных профессоров уже освоил фундаментальные основы филологической науки – да моя буйная страсть к свободе ведать не ведала и знать ничего не желала ни о каких лекциях, профессорах и доцентах! Первое же, мимолетное посещение занятий, первый же глоток этого затхлого воздуха, первые звуки лекторского голоса, велеречивого, но в то же время монотонно-пасторского, повергли меня в такую сонную оторопь, что стоило поистине немалых усилий тут же не уронить голову на конспект – это была все та же школа, от которой, казалось, я наконец-то столь счастливо избавился, все та же, приволочившаяся за мной классная комната с учительским пультом и вечным толчением воды в ступе: мне, без шуток, и вправду почудилось, будто из тонкогубого рта почтенного тайного советника за лекторским пультом сыплется песок – до того тускло, до того равномерно и безлико струились затертые слова из потертой тетрадки лекционного курса в спертый воздух аудитории. Еще со школьной скамьи знакомое тоскливое, с примесью ужаса, ощущение, будто я попал в покойницкую духа, где безразличные руки анатомов деловито копошатся в мертвом теле, – под сводами зала, в этой холодной кузне унылых, мертвенных, давно уже антикварных александрийских ритмов прежнее ощущение ожило с пугающей явностью; и насколько же усилилось инстинктивное это отвращение, едва я, с трудом высидев непереносимо скучную лекцию, вышел на берлинские улицы – улицы Берлина той поры, когда город, сам изумляясь стремительности собственного роста, гордясь своей внезапно пробудившейся мужественностью, щедро заливая каменные пролеты и мостовые всех своих улиц и закоулков потоками электрического света, оглушал и неодолимо захватывал всякого своим бешеным, горячо пульсирующим темпом, своей неукротимой жаждой новизны, столь созвучной ненасытным порывам моей собственной, впервые замечаемой возмужалости. Мы оба, город и я, вырвавшись из тисков протестантского, мелкобуржуазного, помешанного на дисциплине, порядке и мещанских ограничениях бытия, очертя голову отдавались дурманящему буйству впервые ощущаемых новых сил и возможностей, – мы оба, город и я, едва оперившийся, нескладный юнец, от нетерпения и внутреннего жара вибрировали как динамо-машина. Никогда, ни до, ни после, я не чувствовал, не понимал, не любил Берлин, как в ту пору, ибо так же, как в этих переполненных сотах бурлящего, животворного людского многолюдства, точно так же и во мне самом каждая клеточка жаждала стремительного разрастания, – где еще, как не там, в этом пышущем силой, охваченном дрожью нетерпения городе, что раскидывался перед тобою весь, как гигантская распаленная женщина, где еще, как не в ее ненасытном, судорожно пульсирующем лоне мог я с такой же самоотдачей, до конца и без остатка, излить весь необузданный экстаз своей юности! И она, эта женщина, приняла меня сразу, одним жадным рывком, и я ринулся, вторгся в нее, жарким током крови проникая в ее жилы, мое неукротимое любопытство спешило обшарить все ее каменное, но такое живое, теплое тело, – с утра до ночи шатался я по улицам, ездил на озера, прокрадывался в самые потаенные уголки, – нетерпение, жадность, с которыми я, вместо того чтобы исправно ходить на занятия, торопился изведать все приключения этой захватывающей, неведомой прежде жизни – поистине, то была одержимость. Но даже в этой крайности я, впрочем, остался верен одной особенности своей натуры: с детских лет я не способен совмещать разные занятия, заинтересовавшись чем-то одним, я становлюсь глух к чему-либо другому; везде и повсюду я сохраняю за собой эту странность, и даже сейчас, в повседневной работе своей, я, как правило, столь фанатично вгрызаюсь в какую-то одну проблему, что не отступлюсь, пока не раскушу и не обглодаю ее до самого конца.
В те берлинские месяцы дурман свободы опьянил меня настолько, что даже нахождение в четырех стенах собственной комнаты, не говоря уж о пребывании, пусть мимолетном, в застенках лекционного зала, было мне невыносимо: все, что не сулило новых приключений, казалось мне пустой тратой времени. И уж совсем неодолимо меня, вчерашнего вислоухого провинциального юнца, прельщал соблазн почувствовать себя настоящим мужчиной, я щеголял в студенческой корпорации, пытаясь, вопреки своей (в общем-то скорее застенчивой) натуре, всей повадкой выказать себя дерзким, разбитным, беспутным малым, неделю не прожив в столице, я уже норовил изобразить из себя бывалого берлинца и завзятого немецкого патриота, с поразительной быстротой, как истинный miles gloriosus[2]2
Бывалый ветеран (лат.).
[Закрыть], освоил привычку сиживать, кутить, а то и буянить в небольших кофейнях. В сей реестр обретаемой мужественности, понятное дело, входили и женщины – а точнее говоря, бабы, как они именовались на нашем высокомерном студенческом жаргоне, – и вот тут мне как нельзя кстати пришлась моя, что скрывать, довольно приглядная внешность. Высок ростом, строен, с еще не поблекшим бронзовым морским загаром на щеках, спортивный и ловкий в каждом движении молодого, ладного тела, я играючи затыкал за пояс любых соперников, всех этих рыхлых, бледных рассыльных и приказчиков с выпученными селедочными глазами, которые, как и наш брат студент, каждое воскресенье ввечеру выходили «на охоту», отправляясь на танцульки в Халлензее и Хундекеле (тогда это были еще дальние берлинские пригороды). Моим трофеем могла оказаться то аппетитная горничная, белокурая мекленбурженка с молочно-белой кожей, которая забежала на танцы перед отъездом домой в отпуск и которую я, еще разгоряченную от пляски, прямо с танцев затащил в свою студенческую конуру, то субтильная нервная евреечка из Познани, продавщица чулок у Тица – по большей части все это была легкая добыча, дешево доставшаяся и уже вскоре переданная товарищам. Но как раз негаданная легкость побед кружила голову вчерашнему робкому новичку – дешевые эти успехи только усугубляли мою распущенность. Я жадно расширял области поиска: после племянницы квартирной хозяйки настал черед замужней женщины – вот он, первый настоящий триумф всякого повесы. Мало-помалу любой выход на улицу превратился для меня лишь в набег на мои законные угодья, в охоту без разбора и правил, сугубо из спортивного азарта. И когда однажды, в ходе такой охоты, поспешая за хорошенькой девушкой, я очутился «под липами», на Унтер-ден-Линден, да еще – игрою случая – прямо перед зданием университета, я не смог удержаться от смеха при мысли, как давно нога моя не переступала порога сего почтенного заведения. Потехи ради, на пару с таким же гулякой-товарищем, я вошел; но стоило нам лишь приоткрыть дверь, увидеть (вот уж поистине смехотворное зрелище) полторы сотни раболепно сгорбленных над конспектами спин, как бы молитвенно вторящих усыпляющей литании седобородого профессора, – и я тотчас поспешил прикрыть дверную створку, предоставив ручейку тоскливого лекторского красноречия журчать по согбенным выям прилежных однокашников, а сам вместе с товарищем горделиво вышел на улицу, под приветливую сень солнечной аллеи. Иной раз мне думается, ни один молодой человек не транжирил свое время более бесполезным и безрассудным образом, нежели я в те месяцы. Я, ручаюсь, не прочел в то время ни одной книги, не сказал ни единого разумного слова, не обдумал ни одной сколько-нибудь достойной этого названия мысли – какое-то чутье повелевало мне избегать всякого культурного общества, лишь бы острее ощущать всем своим молодым, пробудившимся телом пряную едкость небывалого и доселе запретного. Должно быть, подобное расточительное саморазрушение, упоение собственными жизненными соками некоторым образом неизбежно присущи всякому сильному и внезапно ощутившему свободу молодому организму – однако в моем случае увлеченность, даже одержимость подобной распущенностью обрели совершенно особые, опасные формы, и, вероятней всего, я бы окончательно опустился или по меньшей мере погубил бы в себе все человеческие чувства, если бы в дело не вмешался случай, уберегший меня от полного нравственного падения.
Случай этот – сегодня я благодарно называю его счастливым – оказался вот каким: нежданно-негаданно в Берлин нагрянул мой отец, вызванный министерством на конференцию ректоров. Матерый педагогический волк, он решил воспользоваться благоприятной возможностью и, не извещая сына о приезде, застигнуть его врасплох внезапным визитом, дабы посмотреть, как поживает, что поделывает начинающий студент. Затея эта, надо признать, удалась ему как нельзя лучше. В тот вечерний час у себя в дешевой студенческой каморке на севере города – проход в нее был отделен от хозяйской кухни лишь занавеской – я, как и почти всегда в такое время, весьма интимным образом принимал некую девицу, как вдруг в дверь вполне внятно постучали. Полагая, что это кто-то из друзей-приятелей, я лишь сердито буркнул: «Я занят!» Однако вскоре стук повторился, затем и во второй, и, уже с явным нетерпением, в третий раз. Чертыхаясь, я кое-как натянул брюки, и, в намерении отчитать и навсегда отвадить непрошеного гостя, как был, в расстегнутой сорочке, с болтающимися подтяжками, босиком, в сердцах распахнул дверь, чтобы тут же отшатнуться, как от увесистой затрещины: в темной прихожей я различил и тотчас узнал силуэт отца. Лица его, правда, было совсем не видно, только стекла очков, отражая полусвет из комнаты, тускло поблескивали. Но и одного силуэта было достаточно, чтобы готовые вырваться гневные, грубые слова острой костью застряли у меня в горле: я стоял как громом пораженный. И лишь придя в себя, вынужден был – ужасный, постыдный миг! – униженно попросить его несколько минут обождать на кухне, пока я приберу в комнате. Как уже сказано, лица его я не видел, но я почувствовал: он все понял. Я почувствовал это по его молчанию, а еще по плохо сдерживаемому отвращению, с которым он, даже не подав мне руки, брезгливо отодвинул занавеску и прошел на кухню. И там, на кухне, возле плиты с ее смрадным духом подогретого кофе и пареной репы, он, мой отец, пожилой уже человек, прождал целых десять минут, одинаково унизительных и для него, и для меня, пока я вытаскивал из постели, засовывал в платье и мимо него, поневоле и неминуемо все это слышавшего, выпроваживал по коридору девицу. Он, конечно же, слышал, как она проходит мимо, заметил, как колыхнулась от ее поспешного шага занавеска; а я все еще не мог выпустить его из его постыдного укрытия – сперва надо было прибрать постель, устранив хотя бы совсем уж непотребный беспорядок. Лишь после этого – никогда в жизни мне не было так стыдно – я вышел к нему.
В ужасный этот час отец повел себя безупречно, за что я в глубине души и по сей день безмерно ему благодарен. Его давно уже нет в живых, но всякий раз, когда мне хочется о нем вспомнить, я возбраняю себе смотреть на него глазами школяра с ученической парты, ибо тогда, уже по привычке не умея сдержать презрение, я вижу перед собой лишь бездушный автомат по исправлению ошибок, въедливого, неотступно придирчивого, помешанного на пунктуальности педанта, – нет, я воскрешаю в памяти самую человечную его минуту, когда он, в моих глазах уже почти старик, преодолевая безмерное отвращение, но сдержав себя, ни слова не говоря, входит вслед за мной в душную, провонявшую беспутством комнатенку. В руках у него перчатки и шляпа, он машинально хочет их положить, но не находит куда, и по застывшей позе видно, до чего непереносимо ему какое-либо соприкосновение со всей этой грязью. Я предложил ему кресло, в ответ он лишь повел рукой, отстраняя от себя саму возможность физических контактов с подобным антуражем.
Несколько леденящих душу мгновений мы, отводя глаза, стояли молча, после чего он наконец снял очки и принялся обстоятельно их протирать, что, как я знал, было у него признаком смущения, а то и замешательства; не укрылся от меня и другой, почти стыдливый жест, когда он, надевая очки, тыльной стороной руки украдкой провел по глазам. Ему было стыдно передо мной, а мне было стыдно перед ним, и ни один из нас не находил слов. Втайне я боялся, что он начнет читать мне нотацию, громким занудным голосом затянет одну из тех своих велеречивых проповедей, которые еще со школы вызывали во мне лишь ненависть и издевку. Он, однако, – и за это я по сей день ему благодарен, – хранил молчание и даже избегал на меня смотреть. Наконец он подошел к шаткой этажерке, на которой стояли мои учебники, раскрыл наугад первые попавшиеся – одного взгляда ему, полагаю, было достаточно, чтобы убедиться: я к ним не притрагивался, они даже не разрезаны.
– Твои конспекты! – потребовал он. Первыми произнесенными его словами был этот приказ. Дрожащей рукой я протянул ему тетради, прекрасно зная, что кроме записи самой первой лекции там ничего нет. Наметанным учительским взглядом он пробежал эти две страницы и, не выказав ни малейшего волнения, положил тетради на стол. После чего, пододвинув стул, все-таки сел и, подняв на меня серьезный, без тени укоризны взгляд, спросил:
– Ну, и что ты обо все этом думаешь? Как дальше-то быть?
Спокойный этот вопрос меня просто сразил. Внутренне я к чему угодно был готов: начни он меня распекать, я бы стал огрызаться, на проникновенные увещевания ответил бы дерзостями и издевкой. Но этот простой, деловитый вопрос всякую мою строптивость опровергал заранее: поставленный всерьез, он требовал столь же серьезного ответа, а его столь трудно давшееся спокойствие заслуживало уважения и встречной внутренней сосредоточенности. Боюсь даже вспоминать, что именно я ответил, да и весь последующий наш разговор и сегодня еще не хочет ложиться передо мной на бумагу: бывают столь сильные душевные потрясения, нечто вроде внутреннего надрыва, которые в пересказе, вероятно, могут показаться сентиментальными, – точно так же и иные слова бывают истинными лишь однажды, когда произнесены с глазу на глаз и только в порыве внезапной откровенности. Это был наш единственный разговор по душам, разговор, когда я не боялся уронить себя в его глазах и сам, по доброй воле, доверил ему решать мою дальнейшую судьбу. Он, однако, вместо решения ограничился советом, порекомендовав мне уехать из Берлина и в следующем семестре продолжить обучение в каком-нибудь не столь крупном, провинциальном университете; он совершенно уверен, чуть ли не в утешение заверил он меня под конец, что отныне я со всею страстью и рвением буду нагонять упущенное. Его доверие все во мне перевернуло: в тот миг я с острым раскаянием ощутил всю несправедливость, с какой в отроческие свои годы относился к этому старому уже человеку, оградившему себя от окружающих броней холодной формальности. Я прикусил губы, лишь бы сдержать горячие слезы, готовые хлынуть из глаз. Очевидно, и он был растроган не меньше моего, потому что внезапно подал мне руку, заметно дрогнувшую при пожатии, и стремительно вышел. А я даже не решился его проводить, так и остался стоять посреди комнаты, ошеломленный, взбудораженный, и только растерянно отирал платком кровь с губ – до того неистово я в них впился, силясь побороть волнение.
Таково было первое потрясение, постигшее меня в мои девятнадцать лет, – и оно без громких слов, одним махом рассыпало карточный домик напускной мужественности, студенческой бравады, показного самодовольства, который я кичливо выстраивал все эти три берлинских месяца. Порыв раскаяния пробудил во мне волю, в душе я чувствовал решимость отказаться от всех мелких сиюминутных услаждений, меня разбирала охота испытать свои, доселе столь безрассудно расходовавшиеся силы на поприще наук, я жаждал строгости, самодисциплины, даже аскезы. Именно тогда я дал себе обет жертвенного служения учености, еще не подозревая, сколь опьяняющими взлетами вдохновения одарит меня мир духовных свершений, еще ведать не ведая, что и в этих вышних пределах неистовому уму всегда уготованы приключения, а иной раз и роковые невзгоды.
Скромный провинциальный городок, который я с отцовского согласия избрал себе для обучения в следующем семестре, был расположен в Средней Германии. Его громкая академическая слава никак не соответствовала той жалкой горстке убогих домишек, что окружали университетское здание. От вокзала, оставив покамест там свой багаж, я без малейших затруднений, лишь пару раз спросив дорогу, добрался до своей будущей альма-матер, да и там, внутри старинного, непрактично распластанного здания я сразу почувствовал, насколько теснее, уютнее здесь внутренний академический круг, нежели в суетном берлинском многолюдстве. Не прошло и двух часов, а я уже оформил свое зачисление и даже успел представиться большинству профессоров, вот только своего будущего научного руководителя, профессора английской филологии, я не застал, но мне сказали, что после обеда, часа в четыре, у него должен быть семинар.
Подстрекаемый нетерпением, не желая упустить ни часа, теперь столь же истово одержимый жаждой знаний, как прежде их небрежением, я – после беглого обхода городишки, погруженного, по сравнению с Берлином, поистине в наркотический сон, – ровно в четыре уже был на месте. Смотритель указал мне нужную дверь. Я постучал. Мне показалось, что кто-то мне ответил, и я вошел.
Но я ослышался. Никто не пригласил меня войти, а неясный возглас, который я за таковое приглашение принял, очевидно, прозвучал из уст профессора и был частью его вдохновенной, напряженной, летящей речи, которую он, судя по всему, экспромтом, произносил в окружении примерно двух десятков студентов. Смущенный своим непрошеным вторжением, я вознамерился было тихо ретироваться, но побоялся только привлечь к себе этим излишнее внимание, благо пока что никто из слушателей моего присутствия вообще не заметил. Так я и замер у двери и поневоле стал слушать.
Профессорский экспромт, судя по всему, возник сам собой то ли вследствие чьего-то сообщения, то ли по ходу дискуссии, – на это, по крайней мере, указывала необычная, явно случайная группировка, да и непринужденные позы как самого преподавателя, так и его учеников: он не вещал, восседая в высоком профессорском кресле за пультом, а горячо говорил, по-мальчишески присев на край стола и свесив ногу, а вокруг него сгрудились молодые люди, что свидетельствовало об интересе, застигшем их уже то ли на ходу, то ли на полуслове и постепенно заставившем замереть в самых неожиданных положениях. Похоже, до этого все они говорили наперебой, что-то обсуждая, как вдруг учитель, легко переместившись на стол, с этого возвышения, одной лишь силою слова, будто набросил на них лассо и буквально пригвоздил к месту.
Не прошло и двух минут, как уже и сам я, позабыв о сомнительной дозволенности своего присутствия, на себе ощутил всю магнетическую силу его речи; невольно, незаметно для себя я подошел ближе, чтобы яснее видеть необычные движения рук, обнимающие и подхватывающие эти вдохновенные фразы, а иной раз, чтобы властно подчеркнуть значимость особо важного места, резко взлетающие ввысь взмахом крыльев, чтобы потом плавным дирижерским мановением успокаивающе опуститься. Все быстрей, все нетерпеливей срывались с его губ слова, а сам он, словно окрыленный всадник на горячем скакуне, время от времени, как в стременах, даже привставал, лишь бы подстегнуть, еще ускорить этот неистовый галоп, этот стремительный, сквозь молниеносный промельк образов и картин, полет ненасытной мысли. Никогда прежде не случалось мне слышать речи столь воодушевленной, поистине захватывающей, – я впервые пережил то, что у латинян называлось raptus – когда человек возвышается, взлетает над самим собой: и не ради себя он говорил, и не ради слушателей, – исключительно волею и всполохами внутреннего огня исторгались слова из этих пламенных уст.
Никогда, повторяю, я не переживал такого: экстаз слова, страсть изреченной мысли как разгул стихии; и внезапность этой новизны неодолимым рывком повлекла меня к себе. Сам того не замечая, не чуя под собой ног, я, как сомнамбула, подчинился некоей силе, и сила эта притянула меня к узкому кругу слушателей, а потом и вдвинула в этот круг: не помню как, но я внезапно оказался чуть ли не в центре его, в каком-то полушаге от говорящего, в самой гуще слушателей, которые, впрочем, тоже стояли как завороженные, не замечая ни меня, ни вообще ничего на свете. Меня уносило стремниной этой речи, и я отдался ей, еще не ведая ее истоков, не понимая, с чего весь этот сыр-бор разгорелся; судя по всему, кто-то из студентов восторженно отозвался о Шекспире как об исключительном феномене, своего рода ярчайшей комете, а профессор в ответ теперь стремился показать, что это не так, что Шекспир был хоть и наиболее мощным, но отнюдь не единственным выразителем порывов и помыслов целого поколения, страстным голосом грандиозной, внезапно разбушевавшейся эпохи. Стремительными штрихами он обрисовал тот небывалый час Англии, тот единственный миг экстаза, какой в жизни каждого народа, как и в человеческой жизни, наступает непредсказуемо, вдруг соединяя все силы для неистового рывка в вечность. Вдруг оказалось, что шире стала земля, на ней объявился новый, только что открытый континент, тогда как древнейшая опора прежнего мира, папство, грозила вот-вот рухнуть: за морями, которые теперь, с тех пор как непобедимую армаду испанцев разметала и поглотила пучина, принадлежат им, англичанам, сразу открылись новые, головокружительные возможности, мир раздвинулся, стал необъятен – и, подобно ему, к такой же необъятности невольно устремляется душа – она тоже жаждет дойти до последних пределов и в добре, и во зле, рвется, по примеру конкистадоров, открывать и покорять новое, а значит, ей потребен новый медиум, новый язык. И в одночасье, тут как тут, появляются оракулы этого языка, поэты, писатели – полсотни, сотня за какое-нибудь десятилетие, – и это не прежние придворные рифмоплеты, что сюсюкали о садах Аркадии и мусолили мифологические сюжетцы, нет, это ребята совсем другого пошиба, бунтари, им подавай театр, арену, где прежде только зверье травили на потеху да кровавые побоища устраивали напоказ, – именно здесь они обретают поприще, и горячий пар крови еще ощутим в их творениях, их драматургия сама по себе все еще тот же сircus maximus[3]3
Большой цирк, арена в Древнем Риме (лат.).
[Закрыть], где дикие бестии страстей человеческих сцепляются в свирепых, неукротимых схватках. Львиной отвагой дышит их ненасытный творческий порыв, каждый норовит перещеголять каждого и в дерзости, и в чрезмерности, для них в искусстве нет запретов – тут тебе и кровосмесительство, и злодейство, убийства и преступления на любой вкус, пылающая магма всего человеческого справляет здесь свою огнедышащую оргию; как прежде вырывались из своих клеток голодные звери, так теперь с диким ревом, неукротимо и грозно бушуют за деревянным ограждением арены опьяненные и пьянящие страсти. Один-единственный прорыв, ослепительный и мгновенный, как вспышка петарды, каких-нибудь пятьдесят лет длится это буйство крови, это извержение похоти, способное, кажется, закогтить, порвать в клочья и поглотить весь мир: отдельных голосов почти не слышно, отдельные фигуры едва различимы в этой вакханалии. Тут каждый тягается с каждым, всякий учится да и крадет у другого, каждый борется, жаждет превозмочь и превзойти, но все они, кого ни возьми, всего лишь гладиаторы одной арены, одного празднества духа, вырвавшиеся из цепей рабы, подстегиваемые и гонимые гением часа. Порывом этого ветра их выбрасывает на свет божий и из темных хижин бедняцких пригородов, и из дворцов: Бен Джонсон – внук каменщика, Марло – сапожницкий сын, Мессинджер – камердинерский отпрыск, Филипп Сидней – тот из богачей, он ученый и вообще государственный деятель, – однако горячий вихрь времени всех их сбивает в одну стаю; любой из них сегодня может быть прославлен, а завтра, как Кид или Гейвуд, изнывать в нищете или вообще подохнуть с голоду, упав замертво прямо на Кинг-стрит, как Спенсер, – все сплошь отщепенцы, бунтари, буяны, распутники, похабники, комедианты, мошенники, но все – поэты, поэты, поэты! Шекспир лишь один из них, пусть и главный, «the very age and body of the time»[4]4
Шекспир У. Гамлет (III, 2) – из наставления Гамлета актерам, здесь букв. «плоть и кровь своего века» (англ.).
[Закрыть], да никому и недосуг выделять, отделять его от остальных, до того неистов этот смерч, столько несет он творений и страстей, смешивая, сталкивая, нагромождая одно на другое. И внезапно, одним махом, так же непостижимо, как возник, этот удивительный выброс человеческой энергии разом прекращается – занавес, конец представлению, Англия себя исчерпала, и снова на сотни лет туманная мгла упадает не только над Темзой, но и над духовным миром страны; неукротимым приступом одного поколения покорены были все вершины и все омуты страсти, преисполненная отваги душа горячо рвалась из груди – и вот уже изнемогшая от неистовств страна лежит в бессильном опустошении, всюду царит мелочное пуританство, оно закрывает театры, а вместе с ними глохнет, умолкает голос страстей, слово – теперь уже только божественное – берет Библия, воцаряясь там, где господствовало огнедышаще исповедальное слово человечности, где одно-единственное пламенное поколение прожило свой век и за себя, и за тысячи других людских судеб.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?