Текст книги "Кристина Хофленер. Новеллы"
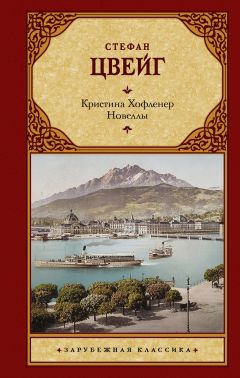
Автор книги: Стефан Цвейг
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 24 страниц)
В зале ожидания они присаживаются в углу. Вокруг на скамьях спят мужчины, женщины, обложившись сумками, пакетами, свертками, да и сами спящие напоминают смятые пакеты, заброшенные какими-то судьбами в пустоту. Снаружи время от времени слышатся пыхтение, лязганье, стоны: это перегоняют локомотивы, пробуют пар в котлах, сцепляют вагоны.
– Ну что ты все об этом думаешь, – говорит Фердинанд. – Забудь, в следующий раз постараюсь, чтобы такого не было. Вижу, что обиделась, но ведь моей вины тут нет.
– Да, конечно, – говорит она, глядя перед собой, – вина не твоя. Но чья же? Почему это всегда случается с нами, ведь мы никому не сделали ничего плохого… Стоит только ступить шаг, как на тебя накидываются… Никогда я много не требовала от жизни, один раз поехала в отпуск, хотела отдохнуть неделю-другую как люди, весело и легко, и вот беда с матерью… И один раз… – Она умолкла.
– Деточка, будь же разумной, ну что особенного стряслось?.. Кого-то искали, проверяли документы, это же чистая случайность.
– Да, конечно… Всего лишь случайность. Но то, что произошло… тебе этого не понять, нет, Фердинанд, тебе не понять, для этого надо родиться женщиной. Ты не представляешь, что думает об этом женщина… ведь всякая девушка, даже девочка, еще ничего не понимая, мечтает, что когда-нибудь это произойдет: она останется наедине с мужчиной, которого любит… Все об этом думают… и ни одна не знает, не может вообразить, как это будет, сколько бы ни рассказывали ей подруги. Но каждая девушка, каждая женщина представляет себе это как праздник… как что-то красивое… самое красивое в жизни… Как что-то, не могу точно сказать… ну что-то, для чего, собственно, и существуешь, что придает смысл жизни… Годы, годы мечтаешь об этом, рисуешь себе, нет, не рисуешь, тут ничего не придумаешь, немыслимо, можно только мечтать как о чем-то прекрасном, грезить – знаешь, так смутно, неясно… и вот… и вот теперь… ужас, мерзость… Нет, когда все рушится, – это невообразимо, невозможно… ведь если все осквернили, замарали, этого уже ничем больше не поправить, никогда…
Он гладит ее руку, но Кристина, словно не замечая его, оцепенело смотрит на грязный пол.
– Подумать только, что это зависит исключительно от денег, от гнусных, презренных денег. Два-три банкнота – и можно было бы уехать за город на машине… Куда-нибудь, где за тобой никто не следит, где мы одни, свободны… Ах, как это было бы чудесно, полное приволье, блаженство… Да и ты бы чувствовал себя иначе, ничего бы тебя не смущало, не тяготило… Но мы как бездомные собаки – вынуждены забираться в чужой сарай, откуда нас выгоняют плеткой… Господи, если б я знала, что все получится так ужасно… – Но, увидев его лицо, она быстро добавила: – Нет, нет, ты не виноват, просто я не могу избавиться от ужаса, он еще сидит во мне… Теперь ты понимаешь, почему у меня так мерзко на душе. Дай мне немного времени, это пройдет…
– Но ты приедешь… приедешь еще?
Тревога, прозвучавшая в его вопросе, была ей приятна как первый теплый отклик.
– Да, – говорит она. – Приеду, не сомневайся. В следующее воскресенье, только… Ну ты сам знаешь… только об этом прошу…
– Да, – вздыхает он, – понимаю, понимаю.
Она уехала. Фердинанд поплелся в буфет и выпил две рюмки водки. Пересохшую глотку обожгло как огнем. Он снова обрел способность двигаться и вышел на улицу. Шагая все быстрее и быстрее, он энергично размахивал руками, будто сражался с невидимым противником. Прохожие удивленно оглядывались на него. На стройке тоже обратили внимание, что обычно скромный и сдержанный десятник был в тот день груб с подчиненными и раздражался по всякому поводу. Кристина сидела на почте, как и прежде, молчаливая, подавленная, выжидающая. И вспоминали они друг о друге не с любовью и страстью, а с некой жалостью и сочувствием. Так думают не о возлюбленном, а о товарище по несчастью.
После той первой встречи Кристина каждое воскресенье ездит в Вену. Это ее единственный выходной день, летний отпуск уже использован. Они хорошо понимают друг друга. Слишком усталые, слишком разочарованные, чтобы воспылать страстной, всепоглощающей и преисполненной надежды любовью, оба уже счастливы тем, что нашли, кому можно довериться. Всю неделю они копят на это воскресенье. Копят деньги, ибо этот единственный день хотят провести вместе, отказавшись от вечной экономии, зайти в ресторан, в кафе, в кино, не скупясь особенно на траты, не подсчитывая каждый шиллинг. И всю неделю они сберегают слова и чувства, обдумывают, что расскажут друг другу, зная и радуясь заранее, что будут выслушаны с искренним сочувствием и пониманием. После долгих лишений уже одно это значит для них очень много, и этого маленького счастья они ждут, отсчитывая с нетерпением понедельник, вторник, среду и еще нетерпеливее – четверг, пятницу и субботу. Между собой они соблюдают некоторую дистанцию. Они не произносят известных слов, которые обычно легко слетают с уст влюбленных, не говорят о свадьбе и о том, что навеки будут вместе, – все это так нереально и далеко, да, собственно, еще и не началось как следует. Приезжает она обычно около девяти; ночевать с субботы на воскресенье в Вене она не хочет, для одной номер в гостинице слишком дорого стоит, а вдвоем боится – еще не забылись те ужасные часы. Он встречает ее, они ходят по улицам, сидят на скамейках в парке, ездят на электричке за город, обедают, бродят по лесу. Им не надоедает смотреть друг на друга. Они счастливы прогуляться вдвоем по лужайке, счастливы самыми простыми вещами в жизни, которые принадлежат даже беднейшим из бедных, – голубым осенним небом и золотистым солнцем, букетиками цветов и свободным праздничным днем. Это для них уже много, и каждый раз они ожидают следующей встречи с долготерпением людей, умудренных жизнью и непритязательных.
В последнее воскресенье октября осень, утомившись от радушия к людям, задула сильным ветром и собрала на небе тучи. Дождь зарядил с самого утра, и они вдруг почувствовали себя лишними в мире. Нельзя же целый день слоняться по улицам в плаще и без зонтика; нет смысла, да и обидно сидеть в переполненных кафе, где при посторонних и не поговоришь, где лишь украдкой коснешься друг друга коленями под столиком, где мучительно ощущаешь, как уходит время, драгоценное время.
Оба знают, чего им недостает. До смешного малого: крохотной комнатушки, каких-нибудь трех метров уединенности, четырех стен, которые принадлежали бы им сегодня. Они сознают, как бессмысленно двум молодым телам, жаждущим друг друга, весь день таскаться в мокрой одежде по городу или сидеть в переполненном помещении, а еще раз купить на ночь такую комнатушку они не рискуют. Проще всего Фердинанду было бы снять комнату для их свиданий. Но он получает лишь сто семьдесят шиллингов, а живет у старушки в смежной с ее комнатой каморке, от которой нельзя отказаться. В ту пору, когда он был безработным, добрая хозяйка, поверив ему в долг, не брала с него ни за жилье, ни за стол; он должен ей еще двести шиллингов, выплачивает ежемесячно и раньше чем через три месяца не расплатится. Обо всем этом он Кристине не говорит, даже ей, близкому человеку, он стесняется признаться в своей бедности и долгах. Кристина догадывается, что, вероятно, какие-то денежные обстоятельства мешают ему съехать оттуда и снять другую комнату. Она охотно предложила бы ему денег, но боится оскорбить его мужское самолюбие и потому не заикается об этом.
Так они и сидят безутешно в прокуренных залах, поглядывая в окна, не кончился ли дождь. Как никогда еще, оба чувствуют безграничную власть денег, могучих, когда они есть, и еще более могучих, когда их нет, чувствуют божественность свободы, которую деньги могут дать, и сатанинское коварство, с каким они вынуждают отказаться от этой свободы. Ожесточение охватывает обоих, когда в утренних сумерках они глядят на светящиеся окна, где за золотистыми гардинами сотни тысяч мужчин, и у каждого есть кров и желанная женщина, а они, бесприютные, должны бесцельно бродить под дождем – так жестоко в природе лишь море, в котором можно умереть от жажды.
В городе множество комнат, светлых, теплых, с мягкими кроватями, полное уединение и тишина, здесь десятки, сотни тысяч таких комнат; наверное, не счесть, сколько из них пустует, и лишь у них одних нет ничего, даже уголка, где можно хоть на секунду прижаться друг к другу в поцелуе, ничего, чтобы утолить иссушающую жажду и остынуть от бессмысленной злости на мир; ничего им не остается, кроме как обманывать себя, что вечно так продолжаться не может, и вот – оба начинают лгать. В кафе, читая объявления, он делает себе какие-то пометки и сообщает ей, между прочим, что у него блестящие шансы на великолепное место: друг-однополчанин обещал устроить его в секретариат большой строительной фирмы, получать он будет там столько, что сможет учиться дальше и стать наконец архитектором. Кристина, в свою очередь, рассказывает – и это не ложь, – что подала в почт-дирекцию прошение о переводе в Вену, а дядя, к которому она ходила, обещал помочь – у него там большие связи. Через неделю-другую придет ответ, наверняка благоприятный. Но Кристина умолчала о том, как дядя встретил ее на самом деле. Однажды вечером в половине девятого она подошла к дому, где он жил: судя по шуму, доносившемуся из открытых окон его квартиры, семья была в сборе, и Кристина уверенно позвонила. Через некоторое время в переднюю вышел слегка раздраженный дядя: жаль, что она пришла сегодня, когда тетя и кузины в отъезде (Кристина видела на вешалке их пальто и поняла, что это неправда), а он пригласил к ужину двух друзей, поэтому принять ее не может, но если у нее есть какая-нибудь просьба… Она изложила просьбу, дядя выслушал, сказал: «Да-да, конечно», – и она ясно почувствовала: он боится, что племянница попросит денег, и хочет поскорее отделаться от нее. Обо всем этом Кристина не стала рассказывать Фердинанду, к чему лишать надежды человека, который и без того пал духом. Не сказала она ему и про то, что купила лотерейный билет, от которого, как все бедняки, ждет чуда. Ей легче было солгать, что она написала тете, – вдруг та поможет ей найти здесь приличное место или пригласит к себе в Америку, тогда он поедет вместе с ней и наверняка хорошо устроится, там нужны энергичные деловые люди. Фердинанд слушает и не верит, так же как не верит ему она. Пустые разговоры, радость словно смыло дождем, взгляд затемнен помрачневшим небом, ясна обоим лишь полная безысходность. Порой они заговаривают о Рождестве, о национальном празднике, у нее два свободных дня, можно куда-нибудь съездить, но это еще когда будет – в конце ноября и в конце декабря, еще ждать и ждать, долго, без всякой надежды.
Они обманывают себя словами, но в глубине души не обманываются, оба понимают, как изнурительно сидеть в шумном помещении среди людей, когда хочется быть наедине, сочинять друг другу небылицы, когда душа и тело жаждут правды и полной близости.
– В следующее воскресенье наверняка будет хорошо, – говорит она, – не может же вечно лить дождь.
– Да, – отвечает он, – конечно, будет хорошо.
Но радости они не чувствуют: надвигается зима, враг бесприютных, так что лучше не будет. С воскресенья на воскресенье оба надеются на чудо, но чуда не происходит, они лишь по-прежнему гуляют, обедают и разговаривают, и эти свидания постепенно превращаются из удовольствия в муку. Иной раз они ссорятся, правда сознавая, что это не от досады друг на друга, а от злости на свою нелепую участь, и им делается стыдно; всю неделю они радостно предвкушают новую встречу, а расставаясь, еще острее ощущают, что в их жизни что-то неправильно и противно здравому смыслу. Бедность почти совсем остудила в них чувственный пыл, но неприязни между ними нет, хотя порой они едва лишь терпят друг друга.
Хмурый ноябрьский день тускло светится за плохо протертыми окнами почтовой конторы, Кристина у стола подсчитывает расходы. Жалованья хватает еле-еле с тех пор, как она каждое воскресенье стала ездить в Вену; поезд, кафе, трамвай, обед, разные мелочи – вот и набегает. Порвался зонтик, перчатку потеряла; наконец, – она все-таки женщина – купила новую блузку и пару изящных туфель. В итоге недочет, небольшой, всего лишь двенадцать шиллингов, и хотя они с избытком покрываются оставшимися швейцарскими франками, тем не менее возникает вопрос: удастся ли продолжать ежевоскресные свидания, не прося аванса и не залезая в долги. Инстинктом, унаследованным от трех поколений бережливых предков, она боится и того и другого. Но где же тогда выход? В прошлую встречу, два дня назад, был такой ужасный дождь и ветер, они почти все время сидели в кафе и стояли под навесами, даже укрывались в церкви, она вернулась промокшая, страшно усталая и огорченная. Фердинанд был каким-то необычайно растерянным, то ли у него неприятности на работе, то ли еще что, держался неласково, чуть ли не грубо. Был замкнут, неразговорчив, и ходили они молча, словно поссорившись. Что его так расстроило? Обиделся, что она не в силах превозмочь отвращение и еще раз пойти с ним в такой же омерзительный отель, или причина была в погоде, в надоевшем до отчаяния блуждании из одного кафе в другое, в проклятой бесприютности, лишающей их встречи всякого смысла и радости? Что-то в их отношениях, она чувствует, начинает угасать: не дружба, не товарищество, нет, но какая-то сила в них обоих почти одновременно ослабевает – они больше не решаются обманывать друг друга надеждами. Сначала они воображали, что тем самым помогут друг другу, поддержат друг в друге уверенность, что можно найти выход из тупика бедности, но теперь они в это больше не верят, а зима с ее промозглой сыростью надвигается, как беспощадный враг.
Кристина не знает, где еще взять надежду. В левом ящике ее стола лежит напечатанное на машинке письмо, оно пришло вчера из почт-дирекции Вены:
«В ответ на Ваше прошение от 17.9.1926 мы вынуждены, к сожалению, сообщить, что перевести Вас в почтовый округ Вены в настоящее время не представляется возможным, так как, согласно постановлению министерства (номер, дата), увеличение количества штатных мест в венских почтовых отделениях не предусмотрено и в данный момент вакансий нет».
Иного она не ждала. Возможно, дядя ходатайствовал за нее, возможно, забыл, – во всяком случае, он единственный мог ей помочь, больше некому. Значит, придется оставаться здесь год, пять лет, а чего доброго, и всю жизнь. Как бестолково устроен мир!
Все еще с карандашом в руке, она раздумывает, сказать ли об этом Фердинанду. Странно, он ни разу не спросил, как обстоит с ее прошением, скорее всего, не верил, что из этого что-нибудь выйдет. Нет, лучше не говорить, он и так поймет, если она смолчит. Только лишнее огорчение для него. Нет смысла. Теперь ни в чем нет больше смысла, ни в чем.
Скрипнула дверь. Кристина распрямляет спину и наводит на столе порядок; это у нее получается уже как бы механически, когда кто-нибудь входит и надо от грез переключаться на работу. Но что-то ей сейчас показалось странным: дверь открывается не так, как обычно, когда входят крестьяне, – те распахивают ее, как дверь в сарай, и с треском захлопывают за собой. В этот раз она открывается осторожно, робко и очень медленно, будто от легкого ветерка, только чуть поскрипывают петли. Кристина с невольным любопытством поднимает глаза и вздрагивает от испуга. За стеклянной перегородкой стоит человек, которого она меньше всего ожидала здесь увидеть, – Фердинанд.
Кристина перепугалась не на шутку. Фердинанд не раз предлагал, чтобы она не моталась все время в Вену, лучше он будет приезжать сюда. Но она всегда возражала, стесняясь, наверное, предстать перед ним в этой убогой конторе и в самодельном рабочем халате – короче, из-за женского тщеславия и стыдливости. Вероятно, опасалась она и болтовни деревенских кумушек; что скажут хозяйка дома и соседка, если увидят ее с каким-то незнакомцем из Вены в лесу, а Фуксталер, тот просто обидится. И вот он все же приехал, это не к добру.
– Удивляешься, не ожидала? – Это должно было прозвучать весело, но в горле что-то мешает, и получается хрипловато.
– Что?.. Что случилось? – спрашивает она в страхе.
– Ничего. А что должно случиться? Просто выпал свободный день, и я подумал: съезжу-ка разок. Ты не рада?
– Да, да, – лепечет она, – конечно.
Он оглядывает помещение.
– Значит, это твое царство. Гостиная в Шёнбрунне красивее и шикарнее, но зато ты здесь одна, и над тобой нет повелителя. А это уже немало!
Не отвечая, она думает только об одном: что ему надо?
– У тебя сейчас, кажется, обеденный перерыв. Я подумал: может, прогуляемся немного и поговорим?
Кристина смотрит на часы. Без четверти двенадцать.
– Еще нет, но скоро… Только вот… по-моему… будет лучше, если мы выйдем отсюда не вместе. Ты не представляешь, какой здесь народ; если увидят меня с кем-то, тут же пойдут расспросы, лавочник, бабы – все подряд начнут приставать: с кем это я да откуда он?.. А врать я не люблю. Лучше ступай вперед, иди сразу направо по Церковной улице, дойдешь до холма, а оттуда по дорожке наверх, нет, не заблудишься, к церкви Святого Михаила, она на горе. Возле леска стоит большое распятие, его сразу видно, как выйдешь из деревни, а перед ним скамейки, садись и жди меня. В полдень там никого нет, все обедают. Ну и… никто внимания не обратит на постороннего, там бывают только богомольцы. Жди, я приду вслед за тобой минут через пять, у нас будет время до двух часов.
– Ладно, – говорит он. – Найду. Пока.
Он наполовину прикрывает за собой дверь. Резкий, лаконичный тон его ответов еще звучит у Кристины в ушах. Что-то случилось. Без причины он бы не приехал, у него же рабочий день. Да и поездка стоит денег… Шесть шиллингов сюда, шесть обратно. Наверняка есть причина.
Она опускает стекло, руки дрожат, с трудом поворачивают ключ в двери. Ноги как свинцовые.
– Куда ж это собралась? – любопытствует идущая с поля крестьянка Хубер, видя, как почтовая барышня в обеденное время направляется к лесу, чего за ней раньше не примечалось.
– Гулять, – отвечает она.
За каждый шаг надо оправдываться, ни на секунду с тебя не спускают глаз. Подгоняемая тревогой, она идет все быстрее и под конец почти бежит. Фердинанд сидит на каменной скамье. Над ним распростертый Христос, в руки вколочены гвозди, голова в терновом венце с трагической покорностью свешивается набок. Силуэт Фердинанда на скамье под высоченным распятием кажется частью печальной скульптуры. Угрюмо склоненная на грудь голова и вся фигура словно окаменели в сосредоточенном, упорнейшем раздумье. Палка в его руке глубоко вонзилась в землю. Не услышав сначала ее шагов, он затем выпрямляется, выдергивает палку и, повернувшись, смотрит на Кристину. Без любопытства, без радости, без ласки в глазах.
– А-а, пришла, – говорит он. – Садись, здесь никого нет.
– Ну что, что случилось, скажи? – спрашивает она.
– Ничего. – Он смотрит прямо перед собой. – А что должно случиться?
– Не мучай меня. Я же по тебе вижу. Что-то наверняка случилось, раз ты сегодня свободен.
– Свободен… пожалуй, ты права. Я действительно свободен.
– Но почему… Ведь тебя не уволили?
Он желчно смеется:
– Уволили? Нет. Увольнением это, пожалуй, не назовешь. Это лишь конец стройки.
– То есть как конец, что это значит, почему конец?
– Конец – это конец. Наша фирма разорилась, подрядчик исчез. Теперь его называют мошенником, аферистом, а еще позавчера перед ним лебезили. Я уже в субботу кое-что заметил: он долго названивал в разные места по телефону, пока не привезли жалованье для рабочих; нам выплатили только половину – ошибка, мол, в расчетах, сказал доверенный фирмы, выписали в банке меньше, чем надо, в понедельник доплатят. Ну а в понедельник ни гроша не привезли, и во вторник тоже, и в среду… Сегодня все прикрыли, подрядчик сбежал, стройка временно прекращена, и вот можно хоть раз позволить себе роскошь – прогуляться.
Она неподвижно смотрит на него. Больше всего ее пугает, что он говорит об этом так спокойно и насмешливо.
– Но ведь в таком случае тебе обязаны по закону выплатить компенсацию?
– Да, кажется, в законах что-то похожее есть, ладно, поглядим. Пока им нечем платить даже за почтовые марки, от долгосрочного кредита остались рожки да ножки, пишущие машинки и те отданы в залог. Мы-то, конечно, можем подождать, время у нас есть.
– Что же ты собираешься делать?
Он молча выковыривает палкой из земли мелкие камешки и неторопливо, один за другим, сгребает их в кучу. Кристине становится страшно.
– Ну говори же… что теперь будешь делать?
– Что буду делать? – Опять этот странный короткий смешок. – Ну что в таких случаях делают? Обращусь к своему банковскому счету, буду жить на «сбережения». Правда, еще не знаю как. Потом, через полтора месяца, будет, вероятно, дозволено воспользоваться благодатным установлением, именуемым пособием по безработице. Попытаюсь существовать на это, как существуют триста тысяч других в нашем благословенном придунайском государстве. А если доблестная попытка кончится неудачей, придется подыхать.
– Чушь! – Его хладнокровие бесит Кристину. – Зачем принимать все так близко к сердцу! Тебе не найти места?.. Да такой человек, как ты, всегда устроится, сто мест взамен одного найдет.
Неожиданно вспылив, он бьет палкой по земле.
– А я не желаю больше устраиваться! Сыт по горло! Само это слово приводит меня в бешенство, уже одиннадцать лет меня устраивают и пристраивают, и все на разные места, но ни разу я не попал на такое, которое устроило бы меня самого. Четыре года на бойне, а потом бог знает где еще. И всегда я исполнял чужую волю, никогда не действовал по своей собственной, всегда ждал свистка: вон! Хватит! На другое место! Начинать заново, каждый раз сначала. Все, больше не могу. Не хочу, надоело.
Она порывается остановить его, но он продолжает:
– Не могу больше, Кристина, клянусь тебе, не могу. Лучше подохнуть, чем снова в посредническую контору и снова часами, как нищий, стоять в очереди за одной бумажкой, за другой. А после таскаться вверх и вниз по этажам, писать письма, на которые никто не ответит, и рассылать предложения, которые по утрам выгребают из мусорных баков. Нет, мне больше не выдержать этой собачьей жизни: топчешься в приемной, пока тебя не соизволят впустить к какому-нибудь мелкому чинуше; и вот он важно оглядывает тебя с этакой заученной, холодной, равнодушной улыбкой, чтобы ты сразу понял: вас, мол, таких сотни, скажите спасибо, что вас вообще слушают. Потом с замиранием сердца – это повторяется каждый раз – ждешь, а он небрежно листает твои бумаги с таким видом, будто плевать на них хотел, и наконец изрекает: «Буду иметь вас в виду, загляните завтра». Заглядываешь и завтра, и послезавтра – все без толку; в конце концов куда-то тебя ставят и опять выставляют. Нет, мне этого больше не вынести. Я многое выдержал: в рваных ботинках семь часов топал по русским проселкам, пил воду из луж, тащил на горбу три пулемета, попрошайничал в плену, закапывал трупы. Я чистил сапоги всей роте, продавал похабные фотографии только ради жратвы, я все делал и все выдерживал, так как верил, что когда-нибудь это кончится, когда-нибудь найду себе место, одолею первую ступеньку, вторую. Но нашего брата все время сшибают. Я сейчас до того дошел, что скорее убью, пристрелю кого-либо, чем стану у него попрошайничать. Нет у меня больше сил шататься по приемным и выстаивать на бирже труда. Мне уже тридцать, не могу больше.
Она дотрагивается до его плеча. Ей бесконечно жалко его, и она не хочет, чтобы он это почувствовал. Но Фердинанд сейчас, словно окаменев, погруженный в собственные переживания, вовсе и не замечает Кристины.
– Ну вот, теперь ты знаешь все, но не думай, что я приехал плакаться. Жалости мне не надо. Побереги ее для других, кому-нибудь пригодится. Мне уж ничего не поможет. Я пришел проститься с тобой. Наши встречи не имеют больше смысла. Вводить тебя в расходы я себе не позволю, у меня еще есть гордость. Лучше разойтись по-хорошему и не взваливать друг на друга свои заботы. Вот что я хотел тебе сказать. И еще – поблагодарить за все…
– Фердинанд! – Она в отчаянии обнимает его, прижимается со всей силой. – Фердинанд, Фердинанд, – только и повторяет она, не находя другого слова, охваченная безумным страхом.
– Ну скажи честно, какой смысл? Разве тебе самой не горько, когда мы топаем по грязным улицам, торчим в кафе и, не находя выхода, врем друг другу? Сколько еще может так продолжаться, чего нам ждать? Мне тридцать, но с каждым месяцем я чувствую, что постарел еще на год. Я не видел мир, жил только мечтой, верил, что придет наконец мой час и жизнь начнется. Но теперь знаю: ничего больше не придет, ничего хорошего. Я выдохся, мне уже не подняться. С таким связываться не стоит… Твоя сестра это сразу поняла и встала между мной и Францем, чтобы я его не трогал и не увлекал. И тебя я только увлеку, и зря. Так что давай кончим по-хорошему, по-человечески.
– Да, но… как же ты будешь дальше?
Фердинанд молча, сосредоточенно ковыряет палкой землю. Взглянув вниз, Кристина цепенеет от страшной догадки. Он пробуравил в земле дырку и завороженно смотрит на нее, будто собрался туда провалиться. Кристина все поняла.
– Неужели ты?..
– Да, – спокойно отвечает он. – Это единственно разумный выход. Начинать опять сначала у меня нет охоты, но подвести черту я еще в силах. Я знавал четверых, которые это сделали. Одно мгновение… Видел их лица. После. Добрые, довольные, ясные. Это не трудно. Легче, чем так жить.
Она по-прежнему обнимает его, но вдруг ее руки слабеют и опускаются.
– Тебе непонятно? – спрашивает он, спокойно глядя на нее. – Ты всегда была со мной откровенна.
Помолчав, она признается:
– Часто я думала о том же. Только боялась высказать себе все четко и ясно, как ты. Ты прав, жить так дальше нет смысла.
Он с сомнением смотрит на нее и спрашивает тоном, в котором слышится отчаяние и какой-то соблазн:
– Ты решилась бы?..
– Да, с тобой. – Она произносит это совершенно спокойно и твердо, словно речь идет о прогулке. – Одной мне не хватит мужества, не знаю… я не задумывалась о том, как это делается, иначе давно бы, наверное, сделала.
– Ты со мной… – блаженно бормочет он и берет ее руки.
– Да, – по-прежнему спокойно отвечает она, – когда захочешь, но вместе. Не хочу больше тебя обманывать. Перевод в Вену не разрешили, а здесь, в деревне, я пропаду. Так лучше сразу, чем медленно. А в Америку я не писала. Они мне не помогут, ну пришлют десять-двадцать долларов – что это даст? Лучше уж сразу, чем мучиться, ты прав!
Он долго разглядывает ее. Никогда еще он не смотрел на нее с такой нежностью. Жесткие черты его лица разгладились, суровые глаза светятся ласковой улыбкой.
– Мне и в голову не приходило, что ты… согласишься сопровождать меня в такую даль. Теперь мне вдвое легче, ведь я за тебя тревожился.
Они сидят, взявшись за руки. Глядя на них, можно подумать, что это любовная парочка, только что обручились и взошли по тропинке сюда, чтобы скрепить помолвку перед распятием. Никогда они не чувствовали себя так беззаботно и так уверенно. И впервые у них появилась уверенность друг в друге и в будущем. Они долго сидят, сплетя руки, глаза в глаза, и лица у них добрые, довольные и ясные. Потом она тихо спрашивает:
– А как ты это… сделаешь?
Он достает из заднего кармана револьвер. Гладкий ствол блестит в лучах ноябрьского солнца. Оружие кажется ей совсем не страшным.
– В висок, – говорит он. – Не бойся, рука у меня твердая, не дрогнет… Потом себя в сердце. Это армейский револьвер самого крупного калибра, вполне надежный. Раньше, чем в деревне услышат два выстрела, все будет кончено. Бояться не надо.
Она без всякого волнения, с деловитым любопытством рассматривает револьвер. Потом переводит взгляд на возвышающийся в нескольких метрах от скамейки огромный крест из темного дерева, на котором распятый Христос мучился три дня.
– Не здесь, – поспешно говорит она. – Не здесь и не сейчас. Понимаешь… – Она смотрит на него и нежно сжимает его пальцы. – Прежде я хочу еще раз побыть с тобой… по-настоящему, без страха, без всяких ужасов… Целую ночь… нам надо, наверное, еще многое сказать друг другу… напоследок… то, чего в жизни обычно никогда не говорят… Хочу побыть с тобой, целую ночь с тобой… А утром пусть нас найдут.
– Хорошо, – соглашается он. – Ты права, надо взять лучшее от жизни, прежде чем покончить с ней. Прости, об этом я не подумал.
Опять они сидят молча. Легкий ветерок овевает их. Даже чуть пригревает солнце. На душе у них хорошо и поразительно безмятежно. Но тут с колокольни доносятся три удара. Кристина спохватывается:
– Без четверти два!
Фердинанд звонко смеется:
– Вот видишь, каковы мы. У тебя хватает храбрости умереть, но опоздать на службу боишься. Как же глубоко засело в нас рабство. В самом деле, пора освободиться от всей этой чепухи. Неужели ты собираешься идти туда?
– Да, – говорит она. – Так лучше. Хочу все привести в порядок. Глупо, но… понимаешь, мне будет легче, если я все приберу, надо еще письма написать. К тому же… если я буду сидеть там до шести часов, меня никто не хватится. А вечером поедем в Кремс, или в Санкт-Пёльтен, или в Вену. У меня есть еще деньги на приличный номер и ужин, поживем разок так, как хочется… только пусть все будет хорошо, красиво… а завтра утром, когда нас найдут, нам уже будет безразлично… В шесть часов зайди за мной, теперь мне все равно, пусть смотрят, пусть говорят и думают что угодно, в шесть я запру дверь и освобожусь от всего, от всех… стану по-настоящему свободна… мы оба станем свободны.
Он не спускает с нее глаз, ее неожиданная стойкость нравится ему.
– Ладно, – говорит он. – Приду к шести. А пока погуляю, погляжу еще раз на мир. До свидания.
Весело и проворно она сбегает по дорожке и внизу оборачивается. Он стоит наверху, глядя ей вслед, потом вынимает носовой платок и машет.
– До свидания! До свидания!
Кристина вошла в контору. Неожиданно все стало легко. Без всякой враждебности встречают ее письменный стол, конторка, стул, весы, телефон и груды бумаг. Они теперь не издеваются и не злорадствуют втихомолку: «Тысячу раз, тысячу раз, тысячу раз», ибо она знает, что дверь открыта, один шаг – и перед ней свобода.
Она вдруг обрела удивительный покой, тот светлый покой, которым дышит луг, когда на него опускаются первые вечерние тени. Все у нее получается легко, словно играючи. Она пишет несколько прощальных писем – сестре, почтовому ведомству, Фуксталеру – и сама удивляется, какой у нее каллиграфический почерк, как ровно ложатся строчки и точно одинаковы пробелы между словами. Так же чисто и аккуратно, как в домашних заданиях, которые она писала в школьные годы, не вникая в смысл. Одновременно она обслуживает посетителей, ей сдают письма, посылки, вносят деньги, заказывают телефонные разговоры. И каждого она обслуживает необычайно старательно и вежливо. У нее появилось неосознанное желание оставить о себе этим чужим, посторонним людям – Томасу, крестьянке Хубер, помощнику лесничего, ученику из мелочной лавки, жене мясника – приятное воспоминание, это ее последняя маленькая дань женскому тщеславию. Она непринужденно улыбается, когда ей говорят: «До свидания» – и отвечает еще сердечнее: «До свидания!», потому что все в ней дышит уже другим воздухом, воздухом избавления.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































