Текст книги "Кристина Хофленер. Новеллы"
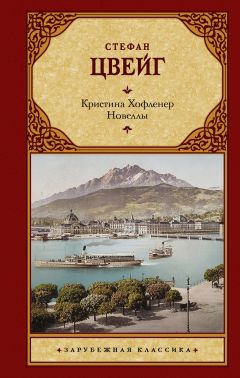
Автор книги: Стефан Цвейг
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
В эту секунду с корабельной кормы ударил гонг, созывавший пассажиров к ужину. Оказалось, наша беседа с доктором Б. затянулась часа на два, ибо он рассказывал все гораздо подробнее, чем я здесь излагаю. Я еще раз сердечно поблагодарил его, и мы раскланялись. Но не успел я сойти с палубы, как он снова нагнал меня и с явным волнением, даже слегка заикаясь, заговорил:
– Вот еще что… Соблаговолите передать остальным господам заранее, чтобы меня потом не упрекали в неучтивости: я сыграю только одну партию, одну-единственную. Так сказать, подведу черту. Это будет окончательный расчет, а ни в коем случае не новое начало… Я вовсе не желаю снова заболеть шахматной лихорадкой, о которой не могу вспоминать без ужаса. К тому же… К тому же и врач еще тогда меня предостерег, настоятельно предостерег. Человек, подверженный мании, остается зависим от нее всю жизнь, так что с моей шахматной интоксикацией – даже излеченной – к шахматной доске лучше не приближаться… Словом, не обессудьте: только одна партия, для проверки, и на этом все.
На следующий день точно к назначенному сроку, в три часа, все мы собрались в курительном салоне. Компания наша пополнилась еще двумя любителями королевской игры: пришли два корабельных офицера, специально ради такого случая испросившие освобождения от вахтенной службы, так им хотелось воочию понаблюдать за поединком. На сей раз и Сентович, не в пример вчерашнему, ждать себя не заставил. Соперники разыграли цвет, и знаменательная партия – homo obscurissimus[27]27
Неизвестный (лат.).
[Закрыть] против чемпиона мира – наконец, началась. Мне искренне жаль, что разыграна она была лишь при нас, откровенных шахматных профанах, и что содержание ее утеряно для анналов шахматного искусства столь же безвозвратно, как фортепьянные импровизации Бетховена для истории музыки. Мы, правда, в последующие дни несколько раз пытались совместными усилиями воспроизвести ее перипетии по памяти, но тщетно: видимо, во время самого поединка мы были слишком захвачены не столько событиями на доске, сколько поведением соперников. И в самом деле, контраст в их манере держаться становился по ходу игры все более заметным и пластически выразительным. Сентович, испытанный турнирный боец, всю партию оставался незыблем, как скала, и не отрывал глаз от доски; казалось, раздумье над каждым решением требует от него чисто физических усилий и концентрации всех органов восприятия. Доктор Б., напротив, был сама непринужденность и раскованность. Как истинный дилетант в лучшем смысле этого слова, то есть как человек, которому радость – diletto – доставляет только сама игра, он, казалось, каждой клеточкой своего тела источал удовольствие и расслабленность: в паузах между первыми ходами оживленно беседовал с нами, давал пояснения, легко и изящно закуривал сигарету, а когда наступала его очередь ходить, смотрел на доску не долее минуты. При этом всякий раз создавалось впечатление, что ход противника нисколько его не озадачивает, что он этот ход заранее предвидел.
Первые, общеизвестные дебютные ходы делались довольно быстро. Только после седьмого или восьмого в игре соперников проступили первые контуры стратегического плана. Сентович стал задумываться над ходами все дольше, и мы поняли, что теперь-то и начинается настоящая борьба за инициативу. Однако, говоря начистоту, неспешное развитие событий на доске, как и во всякой партии истинных шахматных корифеев, нас, профанов, скорее разочаровывало. Ибо чем мудренее складывался прихотливый, хитросплетенный орнамент расположения черных и белых фигур, тем непроницаемей делалось для нас, непосвященных, истинное соотношение сил. Мы не могли оценить масштабы и глубину замыслов ни того, ни другого соперника, а следовательно, и понять, на чьей стороне преимущество. Видно было только, что отдельные фигуры глубоко проникли в неприятельский лагерь и расположились там, как рычаги, готовые взломать вражескую оборону, но распознать в их сложных маневрах – а у столь искусных, столь безмерно превосходящих нас мастеров каждый маневр просчитан на много ходов вперед – тактические ухищрения и стратегические цели было нам не по плечу. Вдобавок ко всему нас одолевала усталость, в которой, несомненно, прежде всего повинен был Сентович, задумывавшийся над ходами все дольше, чем, кстати, и нашего друга изрядно выводил из равновесия. С тревогой следил я за тем, как он, чем дольше тянется партия, тем беспокойней ерзает в своем кресле, то закуривая одну за одной сигареты, то хватаясь за карандаш и что-то второпях записывая. А потом вдруг стал заказывать минеральную воду и пить стакан за стаканом; было совершенно очевидно, что он анализирует позицию во сто раз быстрее Сентовича. Всякий раз, когда тот после бесконечного раздумья тяжелой рукой двигал фигуру, друг наш улыбался, словно видя нечто давно предугаданное, и в ту же секунду делал ответный ход. Похоже, своим стремительно работающим умом он успевал просчитать варианты и за себя, и за своего противника; поэтому чем дольше вызревало в голове Сентовича очередное решение, тем горячее становилось нетерпение нашего друга, а на губах его непроизвольно подрагивала неприязненная, почти враждебная усмешка. Но Сентович и не думал торопиться. Он замирал над доской в каменной неподвижности, углубляясь в раздумье тем дольше, чем меньше оставалось на доске фигур. На сорок втором ходу, когда третий битый час шахматного сражения близился к концу, все мы сидели вокруг шахматного столика уже почти безучастно, изнемогая от усталости. Один из корабельных офицеров не выдержал и ушел, другой углубился в книгу, лишь на секунду отрываясь от чтения при перемене позиции. И тут вдруг – ход был за Сентовичем – произошло нечто неожиданное. Как только доктор Б. заметил, что Сентович взялся за коня, он разом весь подобрался, как кошка перед прыжком. Казалось, он буквально задрожал всем телом, и едва Сентович этим конем пошел, он резким рывком продвинул вперед ферзя и торжествующе воскликнул:
– Вот так! Песенка спета!
После чего откинулся на спинку кресла, скрестил руки на груди и вызывающим взором вперился в Сентовича. Нехороший, зловещий огонек мерцал в его глазах.
Все мы невольно подались вперед в надежде оценить этот решающий, столь торжественно объявленный ход. Однако на первый взгляд никакой явной угрозы видно не было. Судя по всему, возглас нашего друга относился к некоему событию на доске, которого мы, недальновидные дилетанты, просчитать не могли. Единственным человеком, на которого дерзкий выкрик доктора Б. не произвел, казалось, ровным счетом никакого впечатления, был Сентович: он даже бровью не повел, как будто обидное «Песенка спета!» не к нему относится, как будто он его и не услышал вовсе. Он сидел, как ни в чем не бывало, сохраняя полнейшую невозмутимость. Стало так тихо, что все мы, невольно затаив дыхание, услышали мерное тиканье часов, установленных на столике для контроля времени. Прошло три минуты, семь, восемь – Сентович оставался недвижим, но мне почудилось, что от неимоверного внутреннего напряжения, а может, и от гнева, даже его ноздри, и без того достаточно мясистые, раздуваются еще шире. Безмолвное ожидание тянулось невыносимо долго – не только для нас, но, похоже, и для нашего друга. Он рывком поднялся с места и принялся расхаживать по курительному салону взад-вперед, поначалу неспешно, потом все быстрей и быстрей. Мы все следили за ним с некоторым удивлением, а я так просто с беспокойством, мне бросилось в глаза, что он не ходит, а по сути, уже мечется, и не по всему залу, а на сравнительно небольшом участке пола, словно в просторном помещении курительного салона кто-то воздвиг вокруг него незримые преграды. И тут я с ужасом понял, что его все более стремительные шаги автоматически промеряют пространство его бывшего узилища: наверно, вот так же, словно зверь в клетке, он сновал из конца в конец в своей камере и точно так же сцеплял руки за спиной и вжимал голову в плечи; да, именно так, и никак иначе метался он от стены к стене, туда и обратно, тысячи, десятки тысяч раз, и те же красноватые огоньки безумия мерцали в его горячечном взоре. Впрочем, мыслил он пока что вроде бы совершенно ясно, только время от времени нетерпеливо оборачивался к столику, желая убедиться, пошел Сентович или все еще нет. Миновало девять минут, потянулась десятая. И тут случилось нечто, чего никто из нас не ожидал. Тяжелая рука Сентовича оторвалась, наконец, от столика и нависла над доской. Мы все замерли в ожидании очередного хода. Однако вместо хода он медленным, но решительным движением тыльной стороны ладони смел с доски оставшиеся фигуры. Лишь секунду спустя до нас дошло: Сентович сдал эту партию. Предпочел капитулировать заблаговременно, лишь бы мы не увидели, как ему объявляют мат. Итак, нечто невероятное, о чем никто из нас и мечтать не мог, все же свершилось: чемпион мира, победитель множества гроссмейстерских турниров выбросил белый флаг перед инкогнито, перед человеком, который двадцать, нет, двадцать пять лет не притрагивался к шахматам! Наш друг, аноним, совершеннейший ноль в шахматном мире, в очном поединке одолел сильнейшего шахматиста планеты!
От волнения мы сами не заметили, как повскакали с мест. Каждому хотелось как-то выразить свои чувства, эту странную смесь радости и почти испуга. Единственным, кто по-прежнему хранил невозмутимость, оставался Сентович. Выдержав некоторую паузу, он вскинул на нашего друга каменный взгляд:
– Еще одну партию? – спросил он.
– Разумеется! – с энтузиазмом, от которого мне тотчас же сделалось не по себе, откликнулся доктор Б., и, прежде чем я успел напомнить ему о его намерении больше одной партии не играть, уже уселся за столик, с лихорадочной быстротой расставляя фигуры. Он так торопился, что дважды выронил пешку – дрожащие пальцы плохо его слушались. При виде столь крайнего его возбуждения прежнее беспокойство сменилось во мне чуть ли не страхом. Этот еще недавно столь спокойный, даже тихий человек пребывал в состоянии очевидной экзальтации; уже знакомое нервное подергивание все чаще заставляло странно кривиться его губы, да и сам он, словно в приступе лихорадки, трясся всем телом.
– Не надо! – прошептал я ему. – Только не сейчас! Довольно на сегодня! Для вас это слишком утомительно.
– Утомительно?! Ха-ха! – отозвался он со злым смехом. – Да за то время, что я тут без дела прогуливался, я партий семнадцать успел бы сыграть! При таком темпе единственное, что меня утомляет, это страх ненароком заснуть! Ну же! Начинайте, наконец!
Последние слова со всей резкостью, едва ли не грубостью их тона обращены были к Сентовичу. Тот в ответ только смерил противника взглядом, но взгляд этот был словно каменный кулак. И все вдруг ощутили, как мгновенно переменились отношения соперников: казалось, токи высокого напряжения и лютой ненависти физически ощутимы в воздухе. Перед нами были уже не партнеры, пожелавшие дружески помериться силами в искусстве великой игры, а заклятые враги, готовые друг друга уничтожить.
Сентович долго раздумывал, прежде чем сделать первый ход, и я вдруг ясно почувствовал, что медлит он неспроста. Опытный турнирный волк, он, видимо, уже раскусил, что именно своей неторопливостью выводит из равновесия, а значит, и изматывает своего противника. А коли так, он выждал не меньше четырех минут, прежде чем начать партию самым традиционным, наиболее распространенным из всех дебютных ходов, двинув королевскую пешку на два поля вперед. Наш друг ответил немедленно, и тоже выступом от короля на два поля, однако Сентович снова взял длиннейшую, почти невыносимо долгую паузу: повисла тишина, как после вспышки молнии, когда с замиранием сердца ждешь громового раската, а его все нет и нет. Сентович сидел совершенно неподвижно. Он обдумывал ход обстоятельно, неторопливо, медленно, и – теперь я знал это наверняка – он медлил умышленно, злостно. Впрочем, тем больше давал он мне времени понаблюдать за доктором Б. Тот только что опорожнил третий стакан воды, и я невольно вспомнил о приступах жажды в тюремной камере, про которые он мне рассказывал. Все симптомы чрезвычайного нервного возбуждения были налицо: я видел, как поблескивают бисеринки пота у него на лбу, как багровеет, проступая все отчетливее, шрам на руке. Но он все еще владел собой. Лишь на четвертом ходу, когда Сентович снова погрузился в нескончаемое раздумье, выдержка покинула его, и он внезапно буквально зашипел на соперника:
– Да играйте же вы наконец!
Сентович поднял на него холодный взгляд.
– Сколько мне помнится, у нас установлен десятиминутный регламент. Изменять его я не стану из принципа.
Доктор Б. прикусил губу; я заметил, как нервно, все быстрей и быстрей, покачивается под столом мысок его ботинка, и при виде этого неспокойного движения меня охватило нехорошее, гнетущее предчувствие какой-то беды и нелепицы. И действительно, уже на восьмом ходу произошел новый инцидент. В ожидании очередного хода соперника доктор Б. уже не смог сдержать нетерпение: он заерзал в кресле и неосознанно начал барабанить пальцами по столу. Сентович тяжело поднял свою мощную, мужицкую голову.
– Сделайте милость, не могли бы вы прекратить барабанить? Мне это мешает. Этак ведь невозможно играть.
– Ха! – язвительно усмехнулся доктор Б. – Оно и видно, что невозможно!
Лоб Сентовича явственно побагровел.
– Что вы хотели этим сказать? – резко, с угрозой спросил он.
Доктор Б. вновь как-то нехорошо, злобно усмехнулся.
– Да ничего, кроме того, что вы заметно нервничаете.
Сентович ничего не ответил и вновь склонился над доской.
Следующий ход он сделал лишь через семь минут, и в подобном убийственно медленном темпе партия потянулась дальше. Сентович прямо на глазах каменел все больше; в конце концов он над каждым ходом стал раздумывать все отведенное по регламенту время, и с каждой из этих пауз поведение нашего друга становилось все более странным. Со стороны казалось, будто сама партия занимает его все меньше, он явно был погружен в какие-то другие размышления. Правда, он зато прекратил беспокойно бегать по зале и теперь вроде бы спокойно сидел на своем месте. Устремив напряженный взгляд куда-то в пустоту, он, однако, беспрерывно бормотал про себя что-то невразумительное: то ли перебирал варианты какой-то немыслимо запутанной комбинации, то ли – с затаенным страхом я все больше склонялся именно к этому предположению – разыгрывал в уме совсем другую партию, потому что всякий раз, когда Сентович, наконец, делал ход, друг наш в своей отрешенности отнюдь не сразу это замечал. А когда замечал, ему потом еще требовалось несколько минут, чтобы оценить позицию на доске; в душу мне все больше закрадывалось подозрение, что он давно позабыл и Сентовича, и всех нас и в тихой форме уже впал в свое прежнее помешательство, которое вот-вот обернется каким-нибудь приступом. И в самом деле, на девятнадцатом ходу наступила развязка. Едва Сентович сделал очередной ход, доктор Б., даже толком не взглянув на доску, передвинул слона на три поля вперед и громко, так что все мы от неожиданности вздрогнули, воскликнул:
– Шах! Шах королю!
Желая оценить столь громогласно объявленный ход, все мы, понятное дело, воззрились на доску. Но примерно через минуту произошло нечто совсем уж непредвиденное. Сентович медленно, донельзя медленно поднял голову и – впервые за все время – одного за другим обвел глазами всех присутствующих. Казалось, он испытывает поистине неизъяснимое, дьявольское наслаждение: сладостная, откровенно издевательская ухмылка проступила на его губах. Лишь до конца испив чашу своего торжества, причины которого пока что оставались для нас загадкой, он с наигранной учтивостью обратился ко всей нашей компании:
– Весьма сожалею, но я не вижу никакого шаха. Может, кто-нибудь из господ видит, где тут шах моему королю?
Все сначала уставились на доску, потом в тревожном недоумении на доктора Б. Короля Сентовича – это и ребенку было ясно – от удара слона защищала пешка, и объявить шах слоном он в этой позиции никак не мог. Мы ничего не понимали. Может, наш друг по горячности ненароком какую-нибудь фигуру задел, передвинув ее на другое поле? Обеспокоенный нашим молчанием, теперь и сам доктор Б. глянул на доску и вдруг возбужденно залепетал:
– Но позвольте, король ведь должен стоять на f7, он не там стоит, совершенно не там! Вы неверно пошли! Да тут все неправильно, вся позиция… пешка должна быть на g5, а не на g4… Это вообще не та партия… Это…
Внезапно он запнулся. Это я так сильно схватил, а вернее, просто ущипнул его за руку, что он, уже совсем не в себе, все-таки мою хватку почувствовал. Он обернулся и уставился на меня взглядом сомнамбулы.
– Что такое… Что вам угодно?
Я – по-английски – произнес одно только слово:
– Remember![28]28
Вспомните! (англ.)
[Закрыть] – и одновременно провел пальцем по шраму на его руке. Он невольно проследил за моим движением, и его невидящий взгляд уставился на кроваво-красный рубец. Потом он вздрогнул, а через секунду задрожал всем телом.
– Бог ты мой, – прошептал он побелевшими губами. – Я что-нибудь сказал, натворил что-нибудь? Неужто я снова?..
– Нет, – тихо шепнул я ему. – Но вам следует немедленно прекратить эту партию. Поверьте, самое время. Вспомните, что говорил вам врач.
Доктор Б. резко поднялся с места.
– Прошу простить мне эту глупую промашку, – сказал он своим прежним, учтивым голосом, вежливо поклонившись Сентовичу. – Все, что я тут наговорил, разумеется, чистейший вздор. А партия эта, безусловно, за вами. – Затем обратился ко всем нам. – И вас, господа, прошу меня простить. Но я ведь предупреждал: не следует ожидать от меня слишком многого. Извините, что так опозорился. Сегодня я играл в шахматы последний раз в жизни.
Он галантно откланялся и вышел, стремительно и как-то незаметно, с тем же скромным и загадочным видом, с каким впервые появился среди нас. Лишь я, я один знал, почему этот человек никогда больше не притронется к шахматным фигурам, остальные же смотрели ему вслед с чувством недоумения и смутной тревоги, как будто только что чудом избежали столкновения с чем-то неведомым и жутким. И только Сентович, последним поднявшись со своего кресла, еще раз бросил взгляд на доску с недоигранной партией.
– Жаль, – произнес он с неожиданной искренностью в голосе. – Очень недурственная могла получиться атака. Для любителя господин этот, безусловно, необычайно одаренный шахматист.
1942
В сумерках
Уж не собрал ли ветер тучи над городом, что стало вдруг так темно в нашей комнате? Нет. Воздух ясен и тих, как давно уже не было в эти летние дни, просто мы не заметили, как наступил вечер. Лишь слуховые оконца в доме напротив еще улыбаются неярким блеском, а небо над коньком крыши уже подернулось золотой дымкой. Час остался до ночи. Волшебный час, ибо нет ничего чудесней, чем наблюдать, как медленно блекнут и покрываются тенями краски заката, как подымается с пола мрак, пока черные бесшумные потоки его не захлестнут стены и не увлекут нас во тьму. Когда в этот час молча глядишь на сидящего против тебя друга, невольно кажется, что знакомое лицо, одетое тенью, постарело, стало далеким и чуждым, словно и не было близости, словно между нами легла даль годов и расстояний. Но ты говоришь, что не хочешь молчания, ибо слишком тягостно слушать, как часы разбивают время на сотни осколков, как дыхание в тишине становится громким, будто у больного. Ты хочешь, чтобы я рассказал тебе что-нибудь. Охотно. О себе я, правда, рассказывать не буду, потому что жизнь наша в этих необъятных городах бедна событиями, а может быть, так только кажется, ибо нам не дано знать, что же здесь на самом деле наше. Но в этот сумеречный час, который любит только молчание, я расскажу тебе одну историю и был бы рад, если б мне удалось привнести в нее что-то от теплого, мягкого, неверного света сумерек, чьи тени проплывают сейчас за окном. Не знаю, откуда пришла ко мне эта история. Помню только, что я сидел здесь после полудня, долго сидел и читал книгу, потом уронил книгу на колени и погрузился в мечты или, может быть, в дремоту. И передо мной возникли вдруг какие-то образы, они скользили по стене, и я слышал их речи, заглядывал в их жизнь. Но когда я захотел проводить видения взглядом, сон отлетел от меня, и они исчезли. Книга лежала у моих ног. Я поднял ее, стал отыскивать промелькнувшие образы и ничего не нашел; словно история эта перекочевала из книги в мои руки, а может быть, ее никогда там и не было. Может быть, я видел ее во сне или прочел в одном из пестрых облаков, что пришли к нам сегодня из дальних стран и унесли дождь, так долго висевший над городом. Или я услышал ее в бесхитростной старой песне, которую заунывно прохрипела под моими окнами шарманка? Или мне рассказал ее кто-нибудь много лет назад? Не знаю. Подобные истории часто являются мне, и я пропускаю меж пальцев хитросплетения судеб, даже не пытаясь схватить их: так путник, не пытаясь сорвать, мимоходом ласкает колосья или цветы на высоких стеблях. Просто передо мной вдруг возникает резкая, многоцветная картина, я мысленно смягчаю тона и линии, не удерживая ничего. Но сегодня ты хочешь, чтобы я рассказал тебе что-нибудь, и вот теперь, в этот сумеречный час, когда глаза наши томятся в серой полутьме по ярким и живым краскам, я расскажу тебе свою историю.
С чего начать? Я чувствую, что должен вырвать из тьмы одно мгновение, одну картину и один образ, ибо именно так начинаются во мне эти прихотливые грезы.
Вот я и вспомнил. Я вижу стройного мальчика, который спускается по широкой лестнице замка. Сейчас ночь, и луна светит неярко, но я – словно с помощью освещенного зеркала – различаю и каждую линию его гибкой фигуры, и каждую черту его лица. Он удивительно хорош собой: гладкие черные волосы по-детски падают на высокий, даже слишком высокий лоб, а руки, простертые во тьме, чтобы ощутить тепло нагретого солнцем воздуха, очень нежны и красивы. Он идет не спеша. Задумчиво спускается он в большой, шумящий листвой сад, через который белым мостом перекинулась широкая аллея.
Не знаю, когда все это происходит, то ли вчера, то ли полвека назад, не знаю где, но скорее всего в Англии или в Шотландии, потому что лишь там я видел такие высокие, сложенные из каменных глыб замки, которые издали кажутся грозными крепостями и только перед взором посвященного покорно склоняются к цветникам светлых садов. Да, теперь я знаю наверняка: дело происходит на севере, в Шотландии, ибо лишь там летние ночи так прозрачны, что небо матово поблескивает, точно опал, а поля никогда не темнеют, и все как бы светится изнутри мягким светом, и только тени, словно огромные черные птицы, опускаются на бледные равнины. Да, да, именно Шотландия, теперь я в этом уверен, совершенно уверен, и, если напрячь память, я вспомню даже имя мальчика и название графского замка, потому что темная пелена, окутавшая мой сон, быстро спадает, и все представляется мне так отчетливо, будто это не вымысел, а действительное событие. Мальчик приехал на лето погостить к своей замужней сестре, и благодаря гостеприимству знатных английских семейств – он здесь не один, по вечерам вокруг стола собирается целое общество: друзья хозяина, охотники с женами, несколько молодых девушек, красивых и стройных, их молодое веселье рождает в старых стенах радостное, но не шумное эхо.
День-деньской скачут лошади, носятся своры собак, на реке поблескивают две или три яхты – праздное, беззаботное оживление сообщает ритму дня приятную быстроту.
Но сейчас вечер; все встали из-за стола. Мужчины сидят в зале, курят, играют в карты. До глубокой ночи из высоких окон тянутся в парк белые, зыбкие по краям столбы света, а иногда слышатся взрывы громкого хохота. Дамы, как обычно в это время, разошлись по своим комнатам, лишь две-три задержались поболтать в вестибюле. И поэтому мальчик сейчас предоставлен самому себе. К мужчинам ему пока нельзя, разве что ненадолго, а женщин он сам избегает, ибо порой, едва он приоткроет дверь, они вдруг понижают голос, и он догадывается, что речь идет о вещах, которые ему слушать не следует. Да и вообще он не любит женского общества: женщины задают ему вопросы как ребенку, а ответы пропускают мимо ушей, они посылают его с тысячами мелких поручений и благодарят потом как послушного малыша.
Мальчик совсем было надумал лечь и уже поднялся к себе по винтовой лестнице, но в комнате оказалось слишком жарко, тяжкий воздух давил недвижной духотой. Утром позабыли опустить шторы, и солнце всласть похозяйничало здесь: разогрело стол, накалило кровать, отдохнуло на стенах, и его жаркое дыхание до сих пор струится из всех углов и от складок портьер. К тому же еще совсем не поздно, и за окном, словно белая свеча, оплывает летняя ночь, такая мирная, тихая, безмятежная.
Вот почему мальчик снова спускается по высокой лестнице замка в сад, над темной чашей которого, словно нимб, тускло светится небо и куда манит его пряный аромат незримых цветов. Странно как-то у него на душе. Ему пятнадцать лет, все его чувства в смятении, и он не может понять, отчего у него так дрожат губы, словно он должен что-то шепнуть ночи, либо воздеть руки, либо постоять, закрыв глаза, словно между ним и этой невозмутимой летней ночью возникли тайные узы, и они требуют слов или приветственного знака.
С широкой открытой аллеи мальчик неторопливо сворачивает на узкую боковую тропинку, где высоко над головой сплетаются в тесном объятии серебристые кроны деревьев, а внизу лежит глубокий ночной мрак. Не слышно ни звука. Лишь не передаваемая словами звучная тишина сада, неумолчный лепет – будто дождевые капли мягко падают в траву или тонкие былинки со звонким шорохом касаются друг друга – встречают мальчика, полного сладкой, непонятной грусти. Он то слегка коснется дерева, то замедлит шаг, прислушиваясь к мимолетным звукам, шапочка давит лоб, он снимает ее, чтобы ощутить прикосновение сонного ветерка к своим вискам, где звенит разгоряченная кровь.
Но вдруг, когда он еще дальше углубляется во тьму, происходит нечто непредвиденное. За его спиной хрустит гравий, мальчик в испуге оборачивается и видит, что к нему, трепетно мерцая, приближается высокая белая фигура; вот уже она рядом, и он с ужасом чувствует, как его крепко, но не враждебно стискивают женские руки. Теплое, нежное тело властно прижимается к нему, легкая ладонь торопливо скользит по его волосам, запрокидывает его голову; он чувствует, как льнут к нему чьи-то уста, полуоткрытые, словно спелый плод, как чьи-то дрожащие губы впиваются в его губы. Чужое лицо так близко, что он не может разглядеть его черты. И не смеет разглядывать, ибо дрожь пронзает его такой острой болью, что он закрывает глаза и безвольно отдается чужим пылающим губам; руки его нерешительно, неуверенно, робко, словно вопрошая, касаются чужого тела, и, внезапно опьяненный, он прижимает его к себе. Жадно пробегают его руки по мягким линиям, замешкаются на миг, вздрогнут и спешат дальше, еще взволнованней и жарче. Еще сильнее налегает на него чужое тело, уже всей своей тяжестью покоится оно на его податливой груди. Чье-то прерывистое, тяжелое дыхание увлекает его, клонит к земле, и он падает на колени. Он ни о чем не думает – ни о том, откуда пришла к нему эта женщина, ни о том, как ее зовут; не открывая глаз, пьет он желание с этих ароматно-влажных губ и отдается всесокрушающей страсти, безвольный, бездумный, упоенный. Ему чудится, будто звезды вдруг ринулись с небосвода – так мерцает все перед глазами, так искрится, горит все, чего он ни коснется. И он не знает, сколько это длится, часы ли, секунды ли, не размыкается мягкая, гибкая цепь – все сгорает в буйном пламени страстной борьбы, и на смену приходит блаженная истома.
Но внезапно жаркая цепь рвется. Резко, почти злобно высвобождает она его сдавленную грудь, женщина выпрямляется, и вот уже белый луч скользит по деревьям и исчезает, прежде чем мальчик успевает протянуть руки и схватить его.
Кто это был? Сколько это продолжалось? Держась за ствол дерева, он встает, растерянный и оглушенный. Медленно возвращается в разгоряченный мозг трезвая мысль, ему кажется, что жизнь ею сразу умчалась на тысячи часов вперед. Неужели стали явью все его смятенные мечты о женщинах, о любви? Или это только ему приснилось? Он касается руками своего тела, дергает себя за волосы. Да, на висках, где глухо стучит кровь, кожа влажная, влажная и холодная от росистой травы, губы снова горят, он вдыхает непривычный хрусткий аромат женского платья, он ищет в памяти каждое сказанное слово. И не находит ни одного.
Тут он со страхом вспоминает, что она ничего не говорила, что она даже не назвала его имени, что он знает только ее судорожные вздохи, и глухие всхлипывания всевластной страсти, благоухание ее рассыпавшихся волос, и горячее прикосновение ее груди, и фарфоровую гладкость ее кожи, знает, что ее тело, ее дыхание, все ее трепетное существо принадлежало ему, но не знает, кто она, эта женщина, чья любовь настигла его во тьме. Отныне ему придется ощупью отыскивать имя, чтобы облечь в слова свое изумление и свое счастье.
И то непостижимое, что он только что пережил в объятиях женщины, вдруг кажется ему убогим и ничтожным рядом со сверкающей тайной, чей манящий взор устремлен на него из мрака. Кто она, эта женщина? Он лихорадочно перебирает в уме возможные разгадки, припоминает лица всех женщин, живущих сейчас в замке, выискивает в памяти каждое необычное мгновение, каждый разговор, каждую улыбку тех пяти или шести, что могут быть причастны к тайне. Не молодая ли графиня Э., та, которая частенько вздорит со своим стареющим мужем? Не юная ли жена дядюшки, у которой такие кроткие и в то же время удивительно озорные глаза? Или – эта мысль пугает его – или одна из трех сестер, его кузин, таких гордых, сдержанных и неприступных? Нет, это невозможно, все они донельзя холодны и рассудительны. Последние годы, когда тайные мечты начали обуревать его и вторгаться в его сновидения, он порой считал себя больным и отверженным, и как же завидовал он всем, кто мог быть или казаться таким спокойным, таким невозмутимым, таким бесстрастным, как страшился, словно тяжкого недуга, своих пробуждающихся желаний! А теперь?.. Но чья же, чья же внешность могла так обмануть его?
Навязчивый вопрос мало-помалу гасит волнение в крови. Уже поздно, в зале потушены огни, во всем замке не спит только он – он да еще, может быть, она, неузнанная. Незаметно подкрадывается усталость. К чему дальше ломать голову? Беглый взгляд из-под опущенных ресниц, тайное пожатие руки завтра все ему откроют. Задумчиво поднимается он по лестнице, так же задумчиво он спускался по ней, так же – и совсем, совсем иначе. Волнение в крови еще не до конца улеглось, и нагретая солнцем комната кажется ему теперь свежей и прохладней.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































