Текст книги "Катехон"
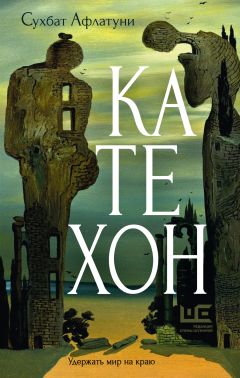
Автор книги: Сухбат Афлатуни
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Ты ничего не понимаешь. Ты видишь только внешнее. Ты один раз побывал в Турции, окунулся в Мармара Денизи и думаешь, что познал Турцию.
– Что тут понимать? Кружение на одном месте. Кружение и есть кружение. Примитивный катехон.
Хлынул дождь, что-то хлопнуло, проехало со скрежетом по асфальту; запели сигнализации в машинах. Славянин подошел к окну.
– Сема́…
Турок смотрел, как Славянин борется с окном, пытаясь его прикрыть. Славянин поднял брови.
– Сема, а по-арабски – сама́, – хмуро пояснил Турок. – Означает «слушание».
– Слушание чего? – Славянин закрыл окно и стоял с мокрыми руками. Подоконник тоже успел стать мокрым.
– Не чего, а кого. Бога. У евреев – Шема, отсюда «Шема Исраэль», «Слушай, Израиль», их главная молитва. И имена – Шимон, Шмуэль… «Услышанный», «Услышанный Богом».
– Симон и Самуил. – Славянин снова поглядел на кофейные зерна.
– Наша вера – вера вслушивания. Главное – услышать Бога… А не заставить его услышать нас, не кричать ему, как это в вашей вере. Не забегáть перед ним, не дергать за край одежды. Поэтому у вас всё вовне, всё снаружи, всё новое, яркое, оригинальное. Вы умеете говорить, но не умеете слушать.
– И для того чтобы слушать, нужно вертеться волчком! Так?
– Нужно выйти из времени. Ты же сам сказал: катехон. Вращение против движения солнца, против часовой стрелки. И ритуальный обход вокруг Каабы совершается тоже против часовой стрелки, тоже бегом. Чтобы выйти из времени, нужно приложить немалые силы. Находясь во времени, ты не сможешь услышать Бога, ты будешь слышать только себя.
Славянин хмыкнул:
– Крестный ход вокруг православных храмов совершается тоже против часовой.
– Значит, вы тоже – катехон.
Славянин поджал губы. Невидимая бритва между ним и Турком постепенно растворялась. Дождь уже не стучал, а всхлипывал.
– Вы, славяне, – говорил Турок, – вы такие же, как мы. Ты говоришь про нашу неоригинальность… А вы что оригинально смогли бы – без византийцев, без немцев, без французов? Просто вы пришли в Европу раньше нас. И кем вы пришли? У нас был ислам. А вы были язычниками, приносили человеческие жертвы.
– Германцы тоже первоначально приносили человеческие жертвы.
Турок тяжело улыбнулся:
– Ты рассуждаешь как Сожженный. Я просто слышу его голос.
– Ты тоже, – отзывался Славянин. – Неслучайно именно нас с тобой он породил в последнюю очередь. После нас он уже никого не мог создать.
– Или не хотел.
Дождь пошел еще слабее. Славянин снова натряс из пакета в кофемолку и наконец сварил себе кофе. Турок открыл окно и напустил полную кухню мокрого воздуха. Братья сидели за столом, грызли крендельки и ругали немцев.
Маленький трактат о кофе
Кофе Сожженный покупал обычно на Троммсдорфштрассе, недалеко от Ангера.
Там стоял такой густой кофейный запах, что его можно было зачерпывать чашками и пить. Сожженного здесь знали, улыбались и вежливо отвечали на его неуклюжие шутки.
«Вы, наверное, сами не можете его пить», – говорил он девушке, расплачиваясь.
«Извините?»
В магазинчике было шумно, сбоку трещала кофе-машина.
«Здесь такой сильный запах. – Сожженный подергал носом. – Надышавшись им, наверное, уже не хочется пить кофе…»
«Ну нет, мы очень любим кофе», – девушка улыбнулась.
Эта улыбка ему понравилась. Он мысленно сфотографировал ее и держал в памяти, выходя на солнечную штрассе. Через несколько минут изображение в голове стало гаснуть. Сквозь него всё отчетливее проступали дома и идущие вперед и назад люди. Бледнеющая улыбка была уже такой… какой? Можно было вернуться и снова сфотографировать ее мозгом. Он не стал.
Он еще прошел немного, прижимая к пальто два теплых пакета с кофейными зернами. Пока не догадался сунуть их в спортивную сумку. Кофейная улыбка успела полностью погаснуть.
Возможно, всё дело было в запахе. Да, конечно, в запахе.
Тонкий свитер, джинсы, которые он успел заметить на ней, нижнее белье – всё, наверное, хранило этот проклятый запах. Он вышел на Ангер.
«И ее кожа, наверное, тоже», – подумал.
Сам он попробовал впервые кофе лет в девять.
Это была коричневая жестяная банка. На банке было изображено что-то желто-индийское. Банка хранилась на второй полке подвесного шкафчика как драгоценность.
Тогда вообще было много индийского. Индия просто истекала на Союз. Хинди руси бхай-бхай. Братья навек. Особенно в Средней Азии: не только бхай-бхай, еще и соседи. Индира Ганди, смуглые поцелуи дружбы. Движение неприсоединения. Кофе.
В Ташкенте открыли магазин индийских товаров «Ганга». В нем продавались платья, напоминавшие крашеную марлю, и пестрые металлические вазы, в которые нельзя было ставить цветы. Если щелкнуть по вазе, она долго и обиженно гудела.
Итак, лет в девять перед ним поставили кофе, утром, из той индийской банки.
Кофе был зверски разбавлен молоком, поверхность стянута резиновой пленкой. Когда он вытащил ложку, пленка повисла на ней… «Сделай хотя бы глоток», – раздался голос из мира взрослых, голос силы и утренней власти. Он стряхнул пенку и сделал «хотя-бы-глоток»… Остаток допивала мама. «Ну и глупый», – говорила она, ставя чашку в раковину. Он молчал и смотрел. На дне чашки слизью блестел сахар.
Кофе он заинтересовался уже студентом, курсе на третьем. Его занимал вопрос о соотношении индивидуального времени и коллективного. Гипотеза состояла в том, что ускорение первого может странным образом замедлять второе.
«И что, – спрашивала его она, переставая тереть пол. – При чем тут кофе?»
Она вымыла почти половину магазина. Вторую половину обещал вымыть он. Он помогал ей. Он думал, что помогал ей.
Он брал у нее швабру и говорил, что скорость группового времени не есть простое среднеарифметическое от сложения скоростей индивидуального времени у каждого из членов этой группы…
«И что?»
Она уже сидела в кресле и качала голой ногой в сером носке. А он стоял и тер шваброй пол.
…А то, что у тебя, у меня, у сотен людей время может течь очень быстро, но чем быстрее у нас оно течет, тем медленнее движется общее время.
«Может, сдвинешься наконец? – спрашивала она. – Пять минут трешь одно место».
Он делал шаг вперед и принимался за новый квадрат.
«Ну и почему ускорение моего индивидуального времени замедляет общее? – спрашивала она. – Должно же, по идее, ускорять?»
Потому что главное – не скорость, а направление, вектор. Если импульсы времени движутся в противоположные стороны, они гасят друг друга.
«Очень сексуально, – говорила она, глядя, как он снова елозит шваброй на одном месте. – Откуда у тебя такие движения? Ладно… Давай, уже отдохнула…»
Она отнимала у него швабру и начинала сердито протирать дальше. Он садился в нагретое кресло, кусал губы и смотрел, как она моет.
Она снимала тряпку и быстро окунала в ведро. Он слышал шум воды. Шум воды и ее дыхание.
«Так при чем там кофе?» – спрашивала она.
«Кофе ускоряет индивидуальное время». – Он подходил к ней и снова пытался отнять швабру. Несколько секунд они боролись.
Потом… Что было потом, к кофейной теме уже не относится. Темнота. Темно-коричневая, горькая, быстрая темнота.
Эта темнота ускоряет индивидуальное время. Заставляет быстрее сокращаться маленькие влажные часы. Тук. Тук. Отсасывает время у большого времени.
Через несколько лет он узнает, что это открытие уже было сделано до него. Влияние кофе на время открыли суфии. Те самые кружащиеся суфии.
Они владели секретом замедлять время.
Чувствовали ли турки, что время в их империи замедляется? Да. Чувствовала власть и запрещала кофейни. Чувствовали бородатые законоведы и богословы (не суфии). И издавали особые указы, и проклинали, и трясли бородами.
Напрасно. Напрасно.
Следующий слайд, пожалуйста.
В июле 1683 года турецкие войска осадили Вену. И были, как известно, разбиты. Среди брошенного при отступлении были найдены мешки с кофейными зернами.
В Вене появились первые кофейни.
Очень напоминает сюжет с Троянским конем. Правда?
«Правда».
Они уже вышли из магазина и заворачивают за угол, на Жуковскую. Здесь недавно открыли кооперативное кафе. В арыке вертится деревянный чигирь, постукивая ведрами. Они берут одно пирожное и два кофе. Мимо гудит троллейбус. Вертится, постукивая, чигирь.
Он делает глоток и продолжает.
Мешки с кофейными зернами были мешками со взрывчаткой. С медленно действующей взрывчаткой, подложенной под основание большого европейского времени.
Примечание. Он поднимает палец. В том же 1683 году, когда турок разбили под Веной, Исаак Ньютон пишет трактат «О движении». Он ляжет в основу его главного труда – «Математических начал натуральной философии». Ньютон сформулирует учение об абсолютном времени, времени равномерного прямолинейного движения.
Подержав палец поднятым, опускает.
«А как же “Гамлет”? – Она отщипнула кусочек пирожного. – “Век вывихнул сустав”?»
Она сидела напротив него, и за спиной ее тихо жила улица. Постукивал по воде чигирь, прогудел еще один троллейбус.
The time is out of joint. И что? Время всё равно мыслится как что-то прямое: суставы, позвоночник… Вывих можно устранить. И всё снова будет прямым.
Шекспир жил еще в докофейный век. И Ньютон. Во времена битвы под Веной Ньютону уже было сорок лет. И его теория времени – а это была не его теория, это был сам дух европейского времени, уловленный математическим сачком его теории, – великое наступательное европейское время. Европа, особенно Англия, колониальная Англия, разливается по всему миру… Кофе только добирается до Англии, первые кофейни только-только открываются при жизни Ньютона, они еще дорогие, в них взимают деньги не только за кофе, но и за вход в заведение.
А вот Джамбаттиста Вико всего на каких-то двадцать лет младше Ньютона, но у него было совершенно другое ощущение времени. Он был итальянец, в Италию кофе проник и освоился гораздо раньше. Да и Италия была уже на излете, никуда не растекалась, не плыла, не колонизировала, не грабила, не просвещала. В 1725 году Вико пишет «Основания новой науки об общей природе наций». Там он обосновывает цикличность истории. Да, цикличность… Он чертит пальцем кружок на столе.
Лучше обратиться к музыке. У музыки более тонкая кожа.
Через сто лет после победы под Веной Моцарт пишет свое Rondo alla turca, «Турецкое рондо», ошибочно именуемое «Турецким маршем». Маршировать под такое, конечно, невозможно, даже туркам. Это рондо. Круговое движение.
Моцарт почувствовал. Что? Вместе с кофейными зернами в равномерное и прямолинейное европейское время вошло кружение. Европа, как легендарная Фула, попала в воронку, и время стало останавливаться и остывать.
Он замолчал. Они снова пили кофе. Появился новый звук, это подул ветер и на стол упал чинарный лист, прополз и замер.
Потом они долго и мучительно целовались. Стоит ли уточнять, какой вкус был у ее губ? Где-то шли троллейбусы, шло время.
Они стояли, выпав из времени, выпав из всего. Вкус кофе смешивался во рту с солоноватым привкусом. У него немного кровоточили десны.
Он составил диаграмму замедления большого европейского времени. С восемнадцатого века до дней сегодняшних.
Пики его замедления совпали с пиками потребления кофе.
«Всё равно неубедительно», – сказала она, освобождая губы.
Они будут идти мимо консерватории, из окон будет выплескиваться музыка. Вокалисты распевались, пианисты разыгрывались, шумели духовые. Ему показалось, что слышит «Турецкий марш»…
«А как же “Время, вперед!”» – сказала она. Не спросила, а именно сказала, глядя под ноги. Под ногами были сухие листья. Да, тоже чинарные. Вокруг было много чинар, стволы, чуть покачиваясь, приближались, застывали и отъезжали назад, за спину.
С конца 1920-х – как раз тогда, когда начинается ускорение большого советского времени, – кофе почти полностью исчезает. Его перестают закупать, экономят валюту. Буржуазные излишки, товарищи. Зачем советскому рабочему кофе?
В итоге… (хруст листьев под ногой). Исчезает ускоритель индивидуального времени… (снова хруст). Не единственный, но один из ускорителей. Кофе. Индивидуальное время замедляется. В него вводят еще несколько катехонов вроде всех этих собраний, стояний в очередях, дежурств. И происходит «Время, вперед!», резкий рывок большого времени. Всё это просчитывается математически.
Последнее он сказал не очень уверенно. Он еще ничего не просчитывал; так, наброски… Но она не заметила. Шла, глядя куда-то под ноги.
«А дальше?» – подняла глаза.
Они вышли на солнце, она слегка сощурилась.
«Но тут лиса бежала…» – вспомнил из мультика.
«А может, не бежала», – продолжила она оттуда же.
Сделали еще несколько шагов молча.
«Вот так и все твои теории… Ладно, говори уже. Чем там у тебя заканчивается?»
Не у меня, а у всех нас. С середины шестидесятых импорт кофе оживляется. Из стран третьего мира, наших всяких разных друзей. И бодрая планетарная поступь советского времени начинает затухать. Картина с мешками кофе под Веной, дубль два.
Помнишь, Высоцкий пел: «И тогда обиделось время, и застыли маятники времени…» Семьдесят третий год. Что? Год написания песни, семьдесят третий.
«Как-то всё у тебя в одну кучу. История, кофе, Моцарт, Высоцкий…»
Погладила его по голове.
А жизнь и есть куча. Большая-большая куча… Давай поженимся, закончил неожиданно для себя.
Ее пальцы остановились в его волосах. Она убрала руку и еще немного шла молча. Они подходили к скверу.
«Исключено, – услышал откуда-то издали ее голос. – Я уже говорила. Ты меня убьешь».
Вкус кофе во рту полностью исчез, было только кисло. Он слегка прикусил нижнюю губу.
Они шли по скверу, обошли памятник Амиру Тимуру. Памятник глядел на них неодобрительно.
Ленина на площади (в пятнадцати минутах отсюда) уже не было. Его тихо сняли и положили неподалеку, за забором возле Института геологии. Какое-то время из-за забора торчала бронзовая рука, указывая в небо. Потом увезли и тихо переплавили.
Говорили, что Амира Тимура отлили из расплавленного Ленина. Может быть. Здесь, в Туране, всё движется по кругу, даже кофе пить не нужно. Время вращается на месте, как одинокий суфий.
Пустоту на гранитном постаменте он зафиксировал, идя в библиотеку, без всякой печали. По-хорошему, человек, осиливший гегелевскую «Феноменологию духа», всё же заслуживал памятника. Хотя бы маленького. Манекена.
В газетах написали, что на месте Ленина будет поставлен памятник Свободе. Озодлик. В виде, разумеется, женщины. Тут же возникло предложение Ленина оставить, просто накинуть на него паранджу.
«А мне сквер нравится», – сказала она, когда они миновали бронзового всадника и его тяжелый взгляд.
«Слабая копия Абрамовского бульвара», – сказал он.
Он оставался в сердце самаркандцем. Ташкент казался ему слабой и размытой копией Самарканда.
«Почему ты меня никогда не возьмешь в Самарканд?»
Он пожал плечами. Под ногами снова хрустнуло.
Они шли и еще о чем-то говорили, но это уже не имело никакого отношения к кофе. Потом у него разболелась голова, они поссорились, пошел дождь, перешедший в ливень. В то время он всё еще был цветущим деревом.
77
Здесь нужно остановиться. У нас накопились звездочки, символы примечания. Да, можно было внизу страницы, но зачем. Низ страницы – это ее подземелье, граница Гутенберга (не немца-печатника, а немецкого еврея-сейсмолога), ад.
Сноска первая.
Турок и Славянин стоят на кухне, рассыпанные кофейные зерна, чернильное пятно за окном, ветер порывистый, шквальный. «Что вы создали своего? – говорит Славянин, глотая слюну. – Что-то одно, да, вы создали. А? Подсказать? Это ваше кружение, суфийское кружение на одном месте…»
Славянин ошибся.
Это кружение создали не турки; его создателем был великий Руми, родом из Средней Азии. То ли из Вахша, то ли из Балха. Как все незаурядные уроженцы этих краев, он покинет их. Его тело будет странствовать по земле, пешком и на осле; его дух будет странствовать по небу, поднимаясь и соскальзывая вниз и снова поднимаясь. Однажды, проходя по рынку, он остановится. Он услышал постукивание молоточков у золотых дел мастеров. Лицо Руми зажглось. Губы начали шевелиться, глаза наполнились небом. В стуке молоточков Руми услышал повторение имени бога; он распростер руки и закружился на месте. Базар, прилавки, небо, удивленные лица зевак – всё слилось в одну пеструю полосу. Потом возник свет.
Впрочем, и сами турки – точнее, их предки, огузы и туркмены, – тоже происходили из Средней Азии. И тоже бежали из нее. Такое это место, Туран.
«Абсолютное черное тело».
«Что?»
«Это такое физическое тело, которое способно поглощать все попадающие на него излучения. Да. Все излучения во всех диапазонах».
Чьи это голоса?
Возможно, Турка и Славянина. Возможно, Сожженного и одной из тех женщин, которые слушали его, иногда задавая серые, сбивчивые вопросы.
«А такое тело в природе существует?»
«Нет. Хотя, читал, что-то близкое создали, из углеродных нанотрубок… поглощает порядка девяноста девяти и девяти процентов».
Средняя Азия, Туран. Самый центр Евразии. Место, поглощающее всё. Любые формы исторического излучения, все прозрачные цветы культуры, все библиотеки… Всё с хрустом перемалывается в песок, песок – в пыль, пыль – в небытие.
«Свет внутри абсолютного черного тела невозможен. Но, нагреваясь, оно может само испускать излучение, иметь цвет. Ближайший аналог такого тела в Солнечной системе – само Солнце».
«Тогда всё понятно».
Где происходит этот разговор? На кухне – или. На улице, сквозь дождь и троллейбусную осень – или. В больнице – или. В больнице? (Зрачки чуть расширены, рот приоткрыт.) Да. Возможно… Переходим ко второй звездочке.
Та же кухня. Тот же Славянин возле рассыпанных по полу зерен кофе. Тот же Турок. Тот же дождь.
Голос Турка: «Ты ничего не понимаешь. Ты видишь только внешнее. Ты один раз побывал в Турции, окунулся в Мармара Денизи и думаешь, что познал Турцию».
Компьютерный голос: «Мармара Денизи – Мраморное море».
О пребывании Славянина в Турции ничего не известно.
В Стамбуле под именем Томаса Земана недолго был Сожженный. Жил в маленьком гостиничном номере, мало ел; пил кофе. Иногда выходил на улицу, щурясь от солнца и отбиваясь от торговцев. Был на Мраморном море и внимательно разглядывал волны. Чайки кричали над ним; гудела вода, заполняя уши.
Он медленно поплыл, стуча по воде ладонями. Поднимал и опускал руки и спрашивал себя, хотел бы жить в маленьком доме у моря… хотя бы в гостиничном номерке с запахом канализации из раковины? Возможно. Но тогда бы он был какое-то время счастлив; быть счастливым не входило в его планы.
Он родился в Средней Азии, Туране, абсолютно черном теле. Море там когда-то было, но высохло, выкипело, оставив на поверхности ядовитый пепел.
Он замахал руками и поплыл к берегу.
Возвращался он на пароме. Неподалеку сидела пара французских геев; тот, что младше, со скучающим ангельским лицом читал «Идиота». Чуть подальше помещалась толстая немка с красными, по самые плечи обгорелыми руками. Она грызла соленый арахис; щеки ее, тоже красные, шевелились. Двое русских туристов, весело матерясь, кормили чаек.
Он повернул мысленную камеру левее и увидел ее.
Она сидела одна, ничего не читая и никого не кормя. Судя по слегка отупевшему выражению лица, слушала музыку. Да, вон пластмасса в ушах, видно же. Достала из рюкзачка кока-колу. Ничего, совершенно ничего особенного, женщина-ноль; такие ему и нравились. Точнее, нравилась. Та, оставшаяся в Ташкенте, с мертвым раскрытым ртом; разбитое зеркало. Остальные были ее осколками. Чтобы войти в них и отразиться, уже не требовалось добывать череп. Череп? Да, череп.
Он почесал руку, морская вода и солнце стягивали кожу. А может, на нем снова проступили незримые цветы. Слабые копии тех, ташкентских.
Он глядел на нее, мысленно одевая ее в костюмы разных эпох. Кричали чайки. Она сунула колу в рюкзак и прикрыла глаза. Ресницы! У нее были царские ресницы.
Он подарит их одному из своих двойников.
Когда на ней поверх простреленных джинсов и майки возник серый плащ с высоким воротником, а на голове тускло блеснула корона, она приоткрыла глаза. Вынула из ушей музыку, встряхнула волосами. Корона исчезла. Она снова сидела перед ним голая, в дырявых джинсах и майке.
Он подсел к ней.
«Where’ve you been? – Он смотрел на нее. – I’ve been waiting for you for ages»[15]15
Где ты была? Я ждал тебя целую вечность (англ.).
[Закрыть].
Она задумалась.
Она, кажется, не понимала по-английски. Или понимала, но ее английский был каким-то другим.
Загорелая немка достала какую-то дрянь и стала смазывать загар. Возмущенно кричали чайки.
Он вернулся в свой маленький номер со скользким и холодным бельем, запахом канализации из раковины и видом на мечеть Сулеймание, бледную копию Святой Софии. Остальные мечети, которые он здесь видел, были бледными копиями Сулеймание.
«Ничего своего, – думал он, бессмысленно листая каналы в плоском телеке под потолком. – Всё копии, ничего своего».
В телеке мелькали спортсмены, демонстранты, дети, животные. Появился и исчез выпуклый лоб русского президента; показали Красную площадь. Он нажал кнопку, телек снова превратился в черный прямоугольник.
«А у нас? – продолжал он, разглядывая его. – Много ли своего у нас?»
Он думал о русских. Наедине с собой он считал себя русским.
«Мало», – отвечал один голос. «Достаточно, – возражал другой. – Вот собор Василия Блаженного – чья это копия? Ничья. Византийцы по-другому строили. И в Европе тогда по-другому строили».
«Хорошо, что есть собор Василия Блаженного». – Он погладил ладонью одеяло.
Босиком, поджимая пальцы, прошел в туалет.
Прежние мысли смыло. Пришли новые и наполнили голову горячей водой.
Он медленно бился лбом о зеркало. Он повторял про себя ту девушку с парома. В мозгах стоял крик чаек. У нее были коротковатые ноги.
Черный прямоугольник телевизора смотрел на него. В окне висела Сулеймание, подсвеченная желтоватыми огнями.
Он знал, что эти мысли, эта головная боль о женщине не пройдет даром. Нет, новый фантом ему не нужен. Да еще, вероятно, турок. Сколько можно клепать двойников? Он уже пуст внутри; весь разошелся, распался на копии. Выход? Предохраняться можно при физическом акте, но при ментальном… Он попытался себя остановить, собрать рассыпанные зерна. Зерна чего? Резко отодвинул лоб от зеркала; на стекле осталось белесое пятно.
Дверь осторожно открылась.
Она стояла в том самом плаще; повертев корону, поставила ее на столик.
«Как холодно… Подожди, сама…»
Он пытался отколоть тяжелую брошь, которой держался ее плащ; она отстранила его руки. Плащ упал на ковролин. Она говорила с акцентом.
Ты знаешь русский?
«Выучила, пока шла к тебе… А можно я оставлю себе эту корону?»
Он кивнул. Потом задал ей еще один вопрос. Она снова задумалась, как тогда, на пароме.
«Нет. Я просто кусочек твоего мозга». – Она коснулась его лба. Чем? Губами. Чем еще может касаться лба женщина, пришедшая к тебе в ветреную турецкую ночь?
Потом он стоял у окна и расчесывал руки. Над одним из минаретов он разглядел V.
Но это уже была просто звездочка, ничего не означавшая; абсолютно ничего, кроме самой себя.
78
В те дни Эрфурт мутило.
Город пошел рябью: точно времена, когда в нем ораторствовал доктор Фауст и разрушал монастыри Лютер, снова вернулись. По улице шла толпа.
Турок, потоптавшись и посопев в коридоре, побежал вниз. Славянин доел йогурт и подошел к окну. Увидел на улице джинсы Турка, его куртку. Любимые джинсы Турка в дырочку. Куртка побежала к толпе.
Минут за двадцать до этого Турок сидел за столом и быстро говорил. Звал Славянина пойти вместе; Славянин с хрустом раскрывал очередной йогурт. В луче, падавшем на стол и часть пола, летели мелкие капли слюны Турка.
– …Они договорились с нацистами, понимаешь? – Турок вытер губы. – Им не хватало голосов, они договорились с AfD.
Славянин хмыкнул. Он любовался злым и возбужденным лицом Турка:
– Кто «они»? С кем договорились?
Голос Славянина был еще не до конца проснувшимся.
Турок резко поднялся:
– Ты живешь непонятно где!
Из отверстий в его джинсах выглядывала темная шерсть.
Славянин вздохнул. Ему хотелось в шутку пощипать эту растительность.
– Ты ничего не слышал про «Альтернативу для Германии»? Про «Пегиду»? Поздравляю, ты идиот.
– Рахмат! – потянулся Славянин.
– Не «рахмат»… По-турецки «спасибо» – «тешеккюр».
– «Рахмат» проще. Хорошо, ну и что это за «Альтернатива?» Что хотят? Опять взяться за евреев? Скучно… Стоп. Я понял! Извести всех черномазых.
И пощипал наконец злосчастную шерсть.
Турок дернул ногой:
– Прости, что я назвал тебя идиотом. Ты не идиот. Ты расист. Как и Сожженный.
– Тешеккюр! Я правильно сказал?
– Думаешь, они тебя с твоей белой мордой не тронут? – Турок швырнул чашку в раковину, гневно вытер руки. – Напрасно думаешь. Закончат с нами, возьмутся за вас.
– А мы к ним миллионами не прём.
– Это – пока! – Турок ушел в коридор и стал шумно обуваться.
79
– Ты ничего не понимаешь, – быстро говорит Турок. – Уже давно нет никакой единой Европы. Никакой единой Германии. Всё это только большой экран, на котором что-то движется и пляшет. Помнишь, ты помог расшифровать это имя у Сожженного… ну этого, сказочного русского мальчика. Не смотри так, ты должен помнить. Сказочного деревянного мальчика с большим носом. Как?.. Бу-ра… Да, его. Помнишь, он проткнул своим носом какую-то картину, и за ней оказалась мировая темнота? Хорошо, пусть у Сожженного это была мировая темнота, я не знаю, как было в самой сказке. Я говорю о другом. Я говорю, что Германия – это сейчас такая картина. И достаточно проткнуть ее чем-то длинным… Там будет темнота. Там будет национализм. Расизм. Всё это полезет из дырки. Ты не читаешь новости. Сожженный тоже не читал новости. Ты не слышал о расстреле в Ханнау? Помнишь, мы были во Франкфурте? Это совсем недалеко от него. Мы сидели в турецком кафе. И те тоже сидели в кафе. Тихо, понимаешь? Тихо сидели, курили кальяны. Тихо и законопослушно. Несколько турок, курдов, афганцев. Сначала он забежал в одно кафе, открыл стрельбу, потом в другое. Я хочу сказать, этот парень, Бура… как его? уже делает свою работу. Еще несколько таких дырок, и вся эта красивая картина начнет осыпаться. Понимаешь?
– А ты бы хотел, чтобы эти дырки делал не немецкий Буратино, а какой? Турецкий, арабский? Ваш национализм лучше? Вкуснее? Сексуальнее?
Этот разговор можно не слушать. Вот небольшой стикер, аккуратно отделить от бумажной основы и вклеить сюда. Несколько секунд легкого труда, и всё готово. На стикере изображены несколько улыбающихся молодых людей разного пола и цвета кожи. Все очень симпатичные, сытые и образованные. Густое синее небо; звездочки Евросоюза окружают их головы вроде коллективного нимба. Сбоку торчат шпили Кёльнского собора, как носы двух гигантских закопанных буратин. Синева мягко переходит в черно-красно-оранжевую радугу. Надпись: «Вир зинд айн Фольк»[16]16
Мы – один народ (нем.).
[Закрыть], или что-то в этом духе.
Разговор этот заклеить несложно; его и не было. Обычный «разговор после разговора»; говорящие расходятся, но их мысли продолжают разговаривать. Славянин остался в комнате, освещенной солнцем. Турок, в джинсах, идет по улице. Их мысли, поговорив еще немного, замолкают. Теперь на этот угасший разговор можно наклеить стикер. Вир зинд айн Фольк. Вир зинд айн Лянд[17]17
Мы – одна страна (нем.).
[Закрыть]. Вир зинд айн еще-чего-то. Наклеиваем.
Вот та-ак.
А это что? Это удобная, хорошо заточенная палочка-протыкалочка. Легко протыкает экраны, баннеры, растяжки, не говоря о простой бумаге. Выбираем на стикере любое удобное место… Нет, желательно не на лицах; хотя можно и лица; это пока еще бумага. Но лучше всё же здесь, на синем евронебе с желтыми еврозвездочками.
Вот та-ак.
Из небольшой дырочки дует темнота. Так иногда дует из замочной скважины, когда приближаешь к ней глаз. Если вглядеться в это отверстие, темнота станет немного светлеть. В ней можно различить небо, лес и двух всадников.
80
Мы оставили их в Бухенвальде, на полдороге между городами Эрфурт и Веймар.
Они стоят на небольшом холме, и зима окружает их; из ртов и ноздрей струится пар. Буковый лес окружает их, как зима.
Говорит отец Мартин.
Доктор Фауст молчит. Слушает ли он монаха? Скорее, он слушает самого себя, слушающего монаха.
«Красивое название… – Монах выпускает новую струю пара. – Бухенвальд. Звучит как “Книжный лес”. Наше слово Buch, “книга”, произошло от этого благородного дерева. Древние германцы наносили свои тайные письмена на кору этих деревьев, как сообщает Тацитус в “Германии”. Впрочем, этим же пользуются наши деревенские колдуньи».
По наступившей тишине доктор понимает, что теперь его черед заполнять ее. И он начинает ее заполнять.
«Имена – это маски, которые мы надеваем на вещи. Не умея познать мир, мы заставляем его лицедействовать. Но вещи исчезают, и с нами остаются лишь пустые маски, как скорлупа. Имя этой местности – маска этой местности. Но эта маска глядит на меня, и ее взгляд подобен взгляду пьяной старухи».
Отец Мартин рассмеялся. Он знал, что смех не подобает монаху, тем более в такой день. Но как иначе было ответить на силлогизмы этого учителя крови и пепла?
«Вы не верите, доктор… А я сам видел одну такую табличку с вырезанными на ней именами. Это были имена моих односельчан. Мы жили в поселке рудокопов; над поселком стоял дым, во дворах плавили руду. Я был еще мальцом, старший брат брал меня на руки и нес в школу; у него были крепкие руки, он мог нести меня долго, если я молчал. Так вот, в поселке жила ведьма. Все знали, что она ведьма, и она знала, что все знали это; она много чего знала. Знала травы. Знала камни. Знала, как лечить. И любовь тоже знала. Это ее и сгубило…»
Он посмотрел на доктора, которому следовало подать здесь свой хриплый, простуженный голос. Но доктор молчал. Доктор катал в голове слово «Бухенвальд», и оно, как мяч, отскакивало от сводов его черепа.
Не дождавшись, монах продолжил.
«Все мужчины и парни нашего поселка побывали в ее страшной постели. Жены терпели. Жены и невесты. Я слышал детским ухом какие-то разговоры. Разговоры, как дым от печей, шли днем и ночью. Жены терпели. Моя мать терпела; шла в лес и собирала хворост. И сама была как хворост: сухая, готовая вспыхнуть. А эта – эта была белой, влажной, выходила на улицу с улыбкой. И эту улыбку, такую чужую в нашем дымном поселке, ей тоже прощали. “Пусть, – говорили, – улыбается. Это ее дело”. Главное – молчание. Если бы она сама не проговорилась, так бы годами текло, как ручей подо льдом… Но Эльза (так ее звали) проговорилась. Видно, сидело во рту у нее это слово, жгло ее. Сцепилась с чьей-то женой, не так та на нее посмотрела, что ли… И выкрикнула в сердцах что-то о ее муже. Как у нас говорили, бабий язык до пекла прокопать землю может. Или еще: бабий язык до неба достанет, луну смолой измажет…»
Монах снова поглядел на доктора, ожидая его сло́ва или хотя бы улыбки под украшенной инеем бородой. Но доктор снова молчал. Молчание было наполнено хрустом снега под копытами и звуками леса. Возможно, это и был ответ доктора.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































