Текст книги "Катехон"
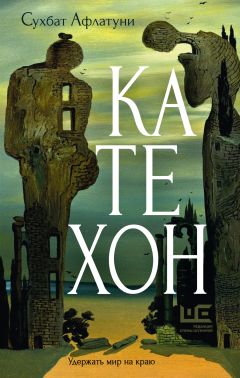
Автор книги: Сухбат Афлатуни
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Они выехали из леса, дорога пошла веселее.
«И тогда жены объединились против нее… Вы не веселы, доктор; сейчас я вас развеселю. Знаете, как ее извели? Вначале хотели позвать священника, чтобы он вошел к ней и совершил священный суд… Но тот, невзирая на подношения, с которыми к нему пришли, отказался. Может, сам побаивался ее. Пришлось отправлять послов в одно дальнее село, где жила еще одна ведьма, ветхая и ученая. Та тоже поначалу отказывалась да и божилась, что никакая она не ведьма, а простая докторка. “Вот если вам корову от поноса вылечить, это пожалуйста; а тут – ах, такие премудрости…”»
Монах так ловко подражал деревенскому говору, что доктор и правда слегка усмехнулся. Монах с довольным видом продолжал:
«Наконец ей пообещали корову, целую корову, да еще черную. И старуха сдалась. Только потребовала, чтобы ту, нашу, подстерегли… не знаю, удобно ли это вашим высокоученым ушам такое услышать… во время, когда та будет забавляться с каким-то из наших рудокопов…» – Монах осекся. Он почувствовал, что доктор насытился своим молчанием, что желудок его ума набит зерном этого молчания и что доктор желает говорить.
«Бедные женщины, – сказал доктор. – Это всего лишь болезнь, и всё происходит от этой болезни. Ее темные соки, поднимаясь снизу, съедают святое начало в их сердце. Почти каждая женщина рождается святой; неблагоприятный воздух и обиды сжигают ее святость, как зной – полевые цветы. Пепел сожженной святости попадает к ним в кровь, и она становится горькой; одной ее капли достаточно, чтобы цветущее дерево, политое водой, в которой она растворена один к ста, на другой день засохло. От горечи в крови возникает злоречие, склонность к возбуждающей музыке и колдовству. В древности таких женщин лечили. Им давали пить ослиное молоко, а окрестности матки окуривали благовониями. Многие получали облегчение».
Отец Мартин дождался, когда доктор закончит свою речь и снова приступит к трапезе молчания. Улыбнувшись, монах отвечал:
«И вот одна из наших поселянок, а они несли постоянную стражу у дома Эльзы, прибежала и доложила своим товаркам, что у той, мол, кто-то есть. Гость! Тут же бросились туда вместе с той ведьмой из дальнего села, которая, чтобы быть под рукой, тайно проживала в те дни у нас; наши женщины ее кормили и развлекали. И вот они бегут туда по снегу, румяные и веселые от предвкушения мести. Тихо подошли и встали вокруг дома, крепко взявшись за руки, как научила их пришлая ведьма. Вдруг из дома раздалось хрюканье. “Мы не знали, что Эльза держит свинью”, – переглянулись женщины, но старуха затрясла головой, а когда те испуганно замолкли, шепотом сказала: “Не свинья. Сама. Но еще рано, пока не так ей сладко”. Так простояли они еще немного, и тут из дома донесся волчий вой, так что бабенки наши чуть не бросились врассыпную, решив, что к Эльзе забралась волчица. Но старуха снова шепотом выбранила их, а про вой сказала, что воет сама Эльза, от наслаждения, но нужно дождаться “третьих песен”, чтобы уж наверняка. Этих “третьих песен” ждать пришлось долго, так что наши сельские Эринии стали уже подмерзать, дуть в ладони и легонько притопывать… Тут вдруг из избы и правда донеслись песни. То есть не песни, а такие дикие звуки, что все так и застыли. Нельзя было поверить, что подобные восклицания могло издавать человеческое горло, да еще от радости… Иные, впрочем, утверждали, что “песни” эти были пожалуй что и красивыми, просто уж больно страшными… “Вот теперь пора”, – прошептала старуха и, держа перед собой заранее приготовленный чан с нечистой кровью, ворвалась в дом; следом за ней бросились еще две из наших, держа перед собой факелы».
Монах замолчал и снова поглядел долгим взглядом на доктора, ища в его лице отклик. Но доктор ушел в себя, куда-то в центр своей головы, где, как в мастерской ваятеля, день и ночь вытачивались фигуры новых и новых мыслей, мужские и женские… Доктор поднял глаза. Всадники уже давно покинули лес, но пространство, по которому они ехали, не было знакомо ни доктору, ни монаху.
«Дальше всё было так, как обещала старуха… – Отец Мартин вздохнул. – Или почти так. Эльзу они нашли раздетой и как бы окаменевшей; когда она, выпучив глаза, попыталась подняться, облили нечистой кровью и прочли заклинание; та снова рухнула и уже не могла шелохнуться. На столе были видны остатки трапезы и череп. Удивительнее было то, с кем Эльза делила эту трапезу и ложе. Парень был не из наших рудокопов; едва к Эльзе ворвались, мо́лодец выскочил из кровати и заметался по горнице, как молния, распахнул окно и сиганул вниз; раздалось ржание и стук копыт. Все, однако, божились, что никакого коня они возле избы тогда не видели, и…»
Не договорив, монах снова тихо рассмеялся.
«Эту историю вы придумали сами, – сказал доктор. – Или вычитали где-то. К чему вы мне ее рассказали?»
«Мы беседовали с вами о буке, доктор. О том, что древние германцы вырезали на нем свои писания, имевшие таинственную силу… Так вот, у той Эльзы потом нашли много таких буковых дощечек. На них были имена жителей, потом всё это сожгли вместе с ее домом… А той, другой ведьме, предлагали остаться: мол, в поселке, как ни крути, должна быть своя колдунья… но она ушла. Забрала корову и ушла».
«Это вы тоже выдумали, – добавил доктор, глядя куда-то в сторону. – У вас какой-то напуганный ум, отец Мартин. И вы слишком щедро делитесь вашим страхом с другими, со всей Германией, со всей вселенной. Вы хотите наполнить ее дымом своего страха».
«Это притча, господин доктор. И рассказана она, чтобы призвать вас к покаянию. Покайтесь, господин доктор!»
«Так я и думал», – вздохнул доктор.
«Под несчастной Эльзой здесь подразумеваетесь вы и ваш несчастный ум. Под посещавшими ее рудокопами, а также духами подразумеваются ваши умственные похоти и философские учения. Остальное вы можете разгадать сами».
«Уже разгадал».
«Покайтесь же».
Доктор молчал. Потом показал рукой куда-то вперед:
«Что это за город?»
«Разве не Веймар?» – чуть приподнялся в седле монах.
Впереди, среди холмов, виднелись стены и башни. Небо над ними было все таким же серым и металлическим.
«Обычная история, – вздохнул доктор. – Furor spatii. Бешенство пространства. Это Наумбург, поздравляю вас».
«Не может быть. Наумбург находится гораздо дальше; мы не могли его достичь так быстро».
«Хорошо еще, что нас не постиг furor tempori, бешенство времени. Мы могли бы прибыть в Веймар… в Веймар! Но – старцами. Или детьми. Или я был бы старцем, а вы – юнцом. Вас бы это больше устраивало?»
«Но у меня нет дел в Наумбурге», – задумчиво сказал монах.
«У меня тоже. Но разве пространству есть дело до наших дел?»
Всадники остановились.
Прямо перед ними по снежному полю шла женщина. Шла медленно и устало и так же медленно помахивала длинной хворостиной. Перед ней, слегка покачиваясь, шла черная корова. Женщина, не слишком старая, тоже казалась какой-то черной; верно, от слишком белого снега, окружавшего ее. Она тоже остановилась и равнодушно поглядела на всадников. Потом махнула хворостиной и снова пошла, поднимая и опуская ноги.
81
– Для чего ты поступил в училище?
– Чтобы получить ответ, что такое ад.
– Получил?
– Он меня не устраивает.
– Это и есть ад.
– Что?
– Когда «не устраивает».
– Меня не устраивает не ответ…
– А что?
– Сама его логика. Что ад есть то, что превосходит наше сознание.
– Чем плоха эта логика?
– Это логика «кирпича».
– Чего?
– Белого кирпича… знак, белый кирпич на красном фоне. «Въезд запрещен».
– Давно не садился за руль.
– А когда-то садились?
– Когда-то садился.
Один голос принадлежал ему.
Второй – тоже ему, но другому. Тому ему, которым он так и не стал.
82
Herr Lieutuant Adam, in Erfurt.
Canon und Professor Agricola, in Erfurt.
Albrecht, Schneider, in Erfurt.
Amlung, Kaufm, in Erfurt.
83
Господин лейтенант Адам, в Эрфурте. Каноник и профессор Агрикола, в Эрфурте. Альбрехт, портной, в Эрфурте. Амлунг, купец, в Эрфурте. Доктор Апелль, в Эрфурте. Пастор Арманн, в Эрфурте.
Продолжаем.
Господин член городского правления Бахманн, в Эрфурте. Профессор Бадер, в Эрфурте. Бадштубе, купец, в Эрфурте. Барт, купец, в Эрфурте. Господин Бартол…
«Что значит Biereige»?
«Что?»
«Вот. Herr Bartol, Biereige in Erfurt».
«А что ты читаешь?»
У него слегка дернулась щека. Ему не нравилось, что эта очередная фрау Фрау так быстро свернула на «ты». И сама она ему тоже не нравилась. И что лезет к нему в планшет своими серыми глазами.
«Вот», – он ткнул пальцем.
«А, швабахер!»
«Что?»
«Готический шрифт, швабахер… Что это за имена?»
За окном электрички возникли белые ветряки. Он стал смотреть на них. Пролетали желтыми пятнами поля цветущего рапса. Когда-то он восхищался ими.
«Ну, Bier – это пиво, – в ее голосе теплился огонек обиды. – Biereige – кто его делает».
«Спасибо», – кивнул и снова принялся за имена.
Господин Бартол, пивовар, в Эрфурте. Аптекарь Бауэр, в Эрфурте. Байхлинг, токарь, в Эрфурте. Профессор Беллерман, в Эрфурте. Бендлеб, житель Большого Госпиталя, в Эрфурте.
Чтение имен его успокаивало.
Имена людей, когда-то живших. Давно. Что от них осталось? Имя. Вся их одежда, все молекулы, пот, волосы, пуговицы, нечаянные слова, кашель – всё сжалось до имени.
Имя останавливает время, притормаживает его, как красный огонь светофора.
Предположим, идет дождь. Включается звук: шум капель, урчание мотора, сопение девочки на заднем сиденье. Красный свет на ветровом стекле машины, размноженный каплями. Так и имя.
Особая тишина кладбищ. Имена, только имена. Картотека имен: ниже годы жизни, иногда фотография. Ходить, молчать и читать, изредка облизывая сухие губы.
То же и библиотеки. А не потому что «Соблюдайте тишину!». Особенно каталожные залы. Люди движутся по ним с кладбищенской сосредоточенностью.
Выдвигают длинные ящики, перебирают карточки, как плоские пыльные кости.
Он снова посмотрел в стекло.
Ветряки кончились, зажелтели рапсовые поля.
Снова начались ветряки.
Некоторые едва шевелились, другие – довольно быстро; некоторые стояли.
Сегодняшняя фрау Фрау сидела как восковая фигура, глядя перед собой. Он вспомнил, как на вокзале она звонила в какую-то клинику; долго, с аппетитом что-то обсуждала, его анализы, снимки. Сколько ей, интересно, лет?
От нее он не смог бы создать ни одного двойника. Ни одного.
Она что-то почувствовала и моргнула. Достала кока-колу из рюкзачка, приготовила губы к контакту с горлышком. Жидкость уменьшалась, толчками, пуская бурую пену.
Он снова спрятался в имена.
Это была книга об Эрфурте, старая книга, «Эрфурт унд даз Эрфуртише Гебит, нах географишен, физишен, штатлихен, политишен унд гешихтлихен Ферхэльтниссен».
Эрфурт и эрфуртская область в географическом, физическом, государственном, политическом и историческом отношениях.
Отпечатано в Готе, год 1793-й.
Несколько раз уже брался за эту книгу, сидевшую у него в планшете. И всякий раз увязал в именах. Это был список людей, подписавшихся на эту книгу. Ферцайхнис дер Геррен Субскрибентен.
Эти имена, казалось, говорили больше, чем все эти «физишен» и «политишен».
Их ряд тянулся по рапсовому полю, бесконечно, как эти ветряки. Они стояли и глядели на проносившийся мимо поезд. Некоторые снимали шляпы и махали ими.
84
– Почему вы решили уничтожить этот мир?
– Я хотел помочь Богу.
– Он лично попросил вас об этом?
Разговор имел место в кабинете. Отвечая, Сожженный разглядывает кабинет.
Аквариум.
С нового абзаца: Аквариум с рыбками. Подсвеченный искусственным лунным светом. Это тоже с нового абзаца? Нет, можно в этом же…
Что такое аквариум в комнате? Катехон.
– Итак, вы признаете, что вашей первой пробой был теракт одиннадцатого сентября?
Он вздохнул и поправил стягивавший горло свитер:
– Это не был теракт.
– Хорошо, что это было, по-вашему?
– Я уже говорил. Совмещение двух хронотоков.
За столом задвигали пальцами, что-то проверяя в планшетах. Если бы не боль…
– Поток альфа, стабилизирующий настоящее. И один из дельта-потоков, вызванный из темпорального архива.
Перед ним поставили стеклянную емкость, наполненную зеленоватым светом. В ней, как в аквариуме, плавало что-то серое и жалкое.
– Что это? – Он поднял глаза.
– Фрагмент вашего мозга.
Он наклонился и стал разглядывать.
85
Он еще раз посмотрел на фрау Фрау. Надо всё-таки дать ей какое-то имя… Гретхен. Будешь Гретхен. Стоп. У нее ведь может иметься свое имя. Она как-то представилась. «Меня зовут… (шел ряд звуков). Я буду сопровождать вас в Наумбург». Вот этот ряд звуков он не мог сейчас воспроизвести. Его мысленные руки шарили в каталоге, выдвигая длинные ящики.
Звучало: Господин Бартол, пивовар, в Эрфурте. Аптекарь Бауэр, в Эрфурте. Байхлинг, токарь, в Эрфурте. Профессор Беллерман, в Эрфурте…
Можно было, конечно, спросить. Простите, у вас ведь, кажется, должно быть имя. Не могли бы снова его про-из-нес-ти?
Ее обиженное лицо станет еще более обиженным.
Вид за окном стал замедляться. Они подъезжали к Наумбургу.
86
Они подходили к собору. Он вспомнил, для чего они сюда приехали: ради этого колючего собора. Даже не самого собора, а той, кто жила в нем своей холодной жизнью.
В соборе было и правда холодно. На улице был май, в соборе темнела осень. Он не удивился, если бы услышал здесь звук палой листвы под ногами.
Он быстро замерз в одной рубашке. Вероятно, он как-то это выдал, каким-то движением. Поежился, например.
Он вспомнил свою поездку в Фульду. Туда он ездил ради женщины, ради Мерги.
И сюда он приехал тоже ради… Что-то мягкое легло на плечи и пошевелилось, он оглянулся. Фрау накидывала на него куртку. Судя по движению губ, просила надеть ее.
Стоит подумать об одной женщине, как рядом возникает другая. Как будто подглядывает за его сознанием через замочную скважину в затылке. Потом резко открывает дверь и входит в голову, как вот сейчас с этой курткой.
Бедную Мергу сожгли. Как ведьму – см. выше. Таково было решение Европейского суда, оно не подлежало обжалованию. В животе у нее был ребенок. Они были уверены, что отцом этого ребенка был падший ангел. У них были неопровержимые доказательства.
Даже в куртке здесь было зябко.
Он сделал еще два шага вперед и поднял голову.
«Ну вот я и приехал».
Она посмотрела на него сверху и улыбнулась.
87
На ней были тот же плащ и та же корона, какие он видел в Турции. Но там было солнце, а здесь… Рядом стоял Эккехард. Неудобно назначать свидания в присутствии мужей, пусть даже каменных. У Эккехарда были круглое лицо и круглые, чуть навыкате, глаза. Широкая шея и каменные кудри с облупившейся темной краской.
Муж держал в руках каменный меч и молчал.
Она стояла рядом, и ей тоже было зябко. Она куталась в длинный плащ, но он не согревал. Она подняла воротник. Звали ее Ута. Ута – а ту? Мерга. Но речь будет об Уте. Он застегнул куртку на молнию.
Ута фон Балленштедт, год рождения – около 1000-го, в щели между двумя тысячелетиями. Из щели дуло Великим Холодом. Тук-тук. Германия ожидала конца света, лавки закрывались, повсюду были слышны удары молота: заколачивались окна. Тук-тук. В тот год она родилась; родилась и заплакала, как все новорожденные, вносящие за вход в этот мир пошлину из слез. Она воспитывалась в монастыре, читала, играла на органе, знала лекарственные травы. Конец Света, которого так жадно ждали и к которому запасли столько святых и безумных дел, так и не наступил. Ее маленькие пальцы нажимали на клавиши, орган гудел. Ее выдали замуж. Да, за этого, с длинным мечом. Возможно, она любила его. Возможно, была с ним одной плотью, как и положено добрым супругам. Но детей не было. Она молилась, чрево оставалось пустым. После его смерти она ушла в монастырь Гернроде. Неподалеку отсюда, но он туда не поедет.
Свидание продолжалось ровно пять минут.
Он несколько раз тихо поцеловал ее глазами. Эккехард стоял, чуть отвернувшись. Скорее всего, уже привык. Только сильнее сжимал меч, до белизны пальцев.
На свидание с живыми женщинами приносят цветы. На свидание с умершими – тоже. Он не догадался захватить букет. Впрочем, что бы он сейчас с ним делал?
«Прости меня, Ута».
Молния стыда прошла сквозь него и погасла о камень. Камня вокруг было много.
Он почувствовал запах лилий. Лилий нигде не было. Он почувствовал слезы. Глаза его оставались сухими.
«Прости меня, Ута», – сказал он. И подумал о так и не рожденной слезе. О том, что из этого холодного собора он выйдет таким же беременным слезами и с молоком стыда в сосцах на плоской мужской груди.
Запах лилий ушел в небытие. Запах слез ушел в небытие.
За спиной раздался сухой хохот.
«Ну уж этого я от вас не ожидала, господин Ирис!»
Он вздрогнул? Нет, он не вздрогнул.
«Ирис» было одним из его имен. Это имя он, скорее всего, выбрал для себя сегодня. Как рубашку. Как майку. Как эту куртку, наброшенную на плечи.
А голос продолжал: «Явиться в самое попсовое место и проливать слезы, как тинейджер! Да поглядите же на нее! (Голос закашлялся.) На ней миллиметра не осталось, где еще не успели лизнуть сентиментальные пошляки. Жестокие и сентиментальные».
Он стоял, раздумывая, обернуться или нет. Голос был женским.
«Ее очень любили нацисты! Тип арийской женщины…»
Он наконец повернулся.
Фрау Фрау стояла к нему спиной, глядя куда-то вверх. Он почувствовал, как напряглась ее шея, как сжаты губы. Голос был не ее. Или ее; это не имело значения. Вся она, большая, с каплями пота на переносице, не имела сейчас никакого значения. И очень хотела его иметь.
Она опустила голову и отерла переносицу рукавом свитера. Она была в свитере.
Они вышли на улицу.
Маленький трактат о времени (1)
Всё дело в совмещении. В совмещении хронотоков.
Он уже говорил об этом во время своих вечерних лекций в длинных, как труба, коридорах института.
Кто присутствовал на его лекциях?
Перечисляю. Тихий воздух. Гаснущий день за стеклом и фонарь. Кулер с питьевой водой. Две-три люминесцентные лампы.
Не такая уж плохая аудитория, если разобраться.
Ньютон открыл пространство и время. Они, конечно, существовали и до него и были заполнены людьми и вещами. Но он первый их открыл, как Колумб – Америку. Америка ведь тоже была населена. Или как Кук – Гавайские острова и остров Рождества.
Эйнштейн, как известно, сделал следующий шаг. Открыл зависимость пространства от времени и времени от пространства.
Ньютон был англичанином с еврейским именем. Эйнштейн – евреем с англо-германским.
Так всегда. Что? Говорю, так всегда. Вначале приходит англичанин, потом приходит еврей. Англичанин открывает и заселяет новые земли. Еврей к открытию новых земель не стремится; новые земли для него – земли нового рабства. Он стремится вернуться в одну-единственную, где текут молоко и мед.
Эйнштейн пришел, когда вся земля уже была открыта. Семя Исаака (Ньютона) населило землю; белый человек, англо-германец, деловито распространился по ней. Не стало нового пространства и нового времени. Следовало их объединить, пространство и время.
Эйнштейн объединит их. Поставит их в зависимость от массы, от материи. Ньютоновский человек, живущий в расширяющемся мире, уступит эйнштейновскому, чей мир будет непрерывно сужаться. Время потечет всё стремительнее, пространство уплотнится и сгустится, и людей и предметов в нем будет всё больше.
Теперь нужно сделать третий шаг. Соединить пространство и время с сознанием. С мозгом. Для этого нужен третий человек. Не англо-германец и не еврей. И тот и другой живут сегодня в угасающем времени.
Нужен человек из места, где времени никогда не было. Где оно, даже возникая, съедается пространством. В области абсолютного черного тела. В Туране, Великом Туране. В столице его, Самарканде, который основал царь Турана Афрасиаб.
Следующий слайд, пожалуйста.
Как-то он оказался в компании физиков.
Один из друзей привел его туда. Тогда у него еще были друзья; потом почти все они аннигилируются, как частицы и античастицы. Но тогда они были. У них были теплые ладони, которые они протягивали при встрече; иногда друзья обнимали его и он обнимал их. Тот, кто привел его туда, к физикам, на тот момент считался лучшим.
Компания была трезвой и злой. Он поискал глазами бутылки, вначале на столе, потом на подоконнике, на который присела часть спорящей человекомассы… Оказалось, на такие споры здесь с какого-то времени распространялся сухой закон. Кто-то даже вешал на двери табличку с перечеркнутой крест-накрест бутылкой. Итак, спиртного нигде не было. Его потянуло тихо, нашарив кроссовки в коридоре, исчезнуть. Но он остался.
Спорили «струнники» и «ударники». Сноска. Сторонники теории струн и сторонники петлевой квантовой гравитации, их почему-то называли здесь «ударниками», кажется, от столкновения (удара) протонов в коллайдере, о котором кто-то из них делал доклад. Больше он нигде такого обозначения не слышал; возможно, его придумали, когда на таких спорах еще водилось что-то спиртосодержащее. Он молча слушал, потом молча присел на подоконник.
Спорили о времени.
Был сделан доклад; к их приходу доклад окончился; женщина с усталым лицом разливала чай. Стаканчики были бумажными; кто-то пытался ими чокнуться.
«Время, – сказал кто-то, – нужно выбросить на помойку».
И закурил. Курить на этих афинских ночах не запрещалось.
«Теоретическая физика в этом понятии больше не нуждается».
Стемнело, включили свет. Говорил один из «ударников». У них была красивая модель мира, где пространство и время состояли из небольших квантовых ячеек.
«Чтобы выбросить время на помойку, потребуется определенное время». Это был его голос, Сожженного. На него посмотрели. Усталая женщина подлила ему чай.
Было еще несколько реплик. Нужно было молчать, потому что доклад он пропустил и не имел права открывать рот. Он должен был сидеть на подоконнике, пить чай и слушать. Какое-то время он этим и занимался. Пил и слушал, как голоса спорящих натыкаются друг на друга.
Потом возникла тишина. «Тихий ангел пролетел», – сказала женщина. Она уже не разливала чай, а сидела на ковре и курила. Ей, кажется, тоже нельзя было участвовать. Судя по тому, как она курила и стряхивала пепел, ей этого и не хотелось.
А он смял бумажный стаканчик и сказал: «Ну вот что, господа “струнники” и “ударники”, в вашем оркестре зияет брешь. Вам не хватает “духовиков”».
«Кого?» – переспросили его.
Он повторил: «Духовиков. Тех, кто сделает третий шаг. Кто свяжет пространство и время с духом. Точнее, с человеческим мозгом».
«Старая песня, – сказал один из “струнников”, – Иммануил Кант».
«Кант? – Он ожидал этого. – Кант считал пространство и время формами нашего восприятия. Формами того, как наш мозг отражает реальность. Я говорю о другом. Мозг не просто отражает их – он их генерирует. Он создает время и проецирует его вовне».
«И пространство?»
«И пространство».
Снова наступила тишина. Женщина встала, стряхнула с джинсов пепел, вышла и вернулась с мокрыми яблоками в пластиковом тазике. «Поешьте, с дачи», – тихо говорила она. Ее вежливо прогнали: «Уйди, Маня, со своими яблоками».
Начался допрос, его стали допрашивать: «Ну хорошо, и как мозг это делает?»
«По-разному. Нужно просто сосредоточиться… – На него вдруг напало косноязычие, слова исчезали во рту. – Который час?» – резко спросил он.
Один из физиков быстро сдвинул рукав: «Без десяти восемь… – блеснули командирские часы. – Если мой мозг не ошибается» (усмешка).
«Ваш мозг не ошибается, потому что он сам сгенерировал это время. А мы, наш мозг… наши мозги этот импульс приняли».
Говорить ему становилось всё труднее.
«И?»
«Теперь посмотрите снова. Который час?»
«Без пятнадцати восемь… Стоп! Было же без десяти… Вы передвинули стрелки назад? Гипноз?»
«Нет, – он вытер пот, – просто послал импульс, чуть более мощный, чем ваш предыдущий. И частично вернул прошлое… частично».
Все стали проверять свои часы. И у всех было без пятнадцати.
Дверь открылась, вошла тихая Маня с мытыми яблоками. Стала обходить мужчин: «Поешьте, с дачи». Мужчины переглянулись.
«Уйди, Маня, со своими яблоками, – сказал один и, испугавшись, прикрыл рот ладонью. Быстро взял у Мани одно яблоко и повертел его в руках. – Совпадение?»
Сожженный пожал плечами.
Договорились, что через неделю соберутся снова, он сделает доклад. Стал готовиться. Созвонился с лучшим другом. Тем, который его туда привел. Идем? Лучший друг что-то мямлил, дышал в трубку, молчал. «Знаешь, – родил наконец, – они всё отменили». Что отменили? «Всё… тебя, доклад». Он не стал спрашивать почему. Стало вдруг неинтересно. Совершенно неинтересно.
Через месяц он встретил ту самую яблочную Маню на Алайском. «Выздоровел? – спросила Маня. – Жалко, тогда не получилось тебя послушать…» «Ваши же отменили», – сказал он. Маня подняла брови: «Наши? Ты что, они ждали тебя. Просто (она назвала имя его лучшего друга) позвонил и сказал, что ты заболел. Теперь-то придешь?»
Он помог донести ей сумки до остановки.
К физикам он так и не пошел. Лучший друг тоже вскоре исчез, растворился, распался на серые молекулы. Где-то живет, дышит, потеет, но уже не в качестве друга.
88
Они пообедали недалеко от собора.
Прямо на улице, под тентом. Белые скатерти, ласкаемые солнцем и ветром; вилки, ножи, стекло. Фрау Фрау завела про какую-то диету; он вначале решил, про свою. Да, глубоко и широко уважаемая Фрау, сбросить килограммов шесть-семь вам не лишне. Прислушался. Нет, речь, оказывается, о его диете.
Он успел отогреться на солнце и был в неплохом настроении. Принесли вино.
«Prost!»
Кто это сказал? Он? Она? Стекло звякнуло.
Собор стоял перед ними как огромная отфотошопленная открытка. Не хватало только какой-нибудь идиотской надписи в прозрачном небе. «Привет из Наумбурга!»
Сувениризация соборов. Сувениризация городов, целых стран. Сувениризация, идущая на смену суверенизации.
А вино было кисловатым; он разбавил его водой из пластиковой бутылки. Поймал взгляд фрау Фрау. Да, он знает, что здесь так ne prinjato. Плевал он на ваше «принято» с высокой башни. Да, вон с той, со шпилем.
Сама фрау Фрау прихлебывала пиво.
Принесли рыбу; огромные тарелки с кусочком рыбы, чипсами, майонезом.
89
Они шли по Наумбургу.
Топ-топ. (Его шаги.)
Топ-топ. (Ее шаги.)
Топ.
Их ноги остановились.
Он сидел перед ними на небольшом возвышении, черный с коричневатым отливом.
Черными с коричневатым отливом были и его знаменитые усы. Он был не по сезону в пальто, ноги вытянуты, одна на другую. Слева от него стояла девочка-подросток в короткой юбке, справа – две аккуратные старушки. «Вер ист даз?» – тихо спросила одна. «Ни́че», – так же осторожно ответила вторая. «Ах, Ниче…»
А девочка-подросток ничего не сказала: она тоже была статуей. Черной с коричневатым отливом. Просто молча глядела на «Ниче», в своей юбочке, руки на пояс.
Надо же, совсем забыл о нем. Он ехал к Уте. А здесь жил еще один памятник. Устало сидел на площади, вытянув металлические ноги. Усталый бронзовый манекен. «Ниче», провалившийся внутрь себя, в свои мысли. Загородившийся от мира стеной лба и оборонительными усами. Судя по ряби морщин на бронзовом челе, у господина доктора Ницше был очередной приступ мигрени. Просьба не беспокоить.
Он расстегнул верхнюю пуговицу.
В России часть памятника была бы уже отполирована до блеска. Носки туфель. Ладони, пальцы. Маленькие груди девушки. Поцеловать, потрогать, обнять, прижаться губами. «Энергетика… Иди в меня, родненькая!» К нему бы приезжали новобрачные и возлагали цветы. И тоже бы слегка терлись. Сами или кто-то из родни. Из немолодых женщин, едко пахнущих парикмахерской.
Но здесь Германия, страна тактильной мерзлоты. Никто не потрется. Никто не сунет под ноги букет.
Старушки, почтительно пошептавшись, исчезли. Он подошел к памятнику и потер ладонью шершавый носок ботинка.
Маленький трактат об ударе молнии
Наумбург, 6 апреля 1866 года.
Молодой Ницше застигнут грозой во время одинокой прогулки в окрестностях города. Молнии так и сверкают. Он спешит забраться на холм, где приметил убежище.
«На вершине была хижина, – напишет он на следующий день другу, – человек, резавший двух ягнят, и его сыновья. Тут со страшной силой разразилась гроза, с ветром и градом, – я испытал ни с чем не сравнимый подъем».
Он стоял в хижине у окна. Позади него резали животных, пахло кровью; он слышал блеянье ягнят и хриплые голоса крестьянских детей. Всё это почти заглушали удары грома и стук градин. Он стоял у окна с приоткрытым ртом и горящими глазами.
«Что мне было до вечных “ты должен”, “ты не должен”! – делился он ощущениями, нахлынувшими на него. – Как не похожи на это молния, буря, град, свободные стихии, не имеющие морали! Как счастливы, как могучи они, чистая воля, не замутненная интеллектом!»
Он написал другу не всё.
Не всё можно вложить в письмо, в буквы и запятые.
Он не написал, что случилось с ним при подъеме на холм, когда вокруг сверкали молнии.
Одна из них ударила рядом с ним. Он упал в траву. Ослепительный серый свет залил его. Его спину, поджатые ноги и лохматый затылок. Показалось, молния вошла в его голову. Показалось, что он умер. Всё это длилось одно мгновение – беспредельное, нескончаемое мгновение. Удар грома вывел его из оцепенения. Он вскочил и побежал наверх, на вершину холма, где стояла хижина, текла кровь и резали ягнят.
Тема для размышления: Лютер, 21 год, попав в страшную грозу 2 июля 1505 года под Эрфуртом, переживет религиозное перерождение и решит стать монахом.
Ницше, 21 год, попав 6 апреля 1866 года в грозу под Наумбургом, переживет антирелигиозное перерождение. Отныне он будет поклоняться не Богу, но молниям и прочим freien Mächten, ohne Ethik[18]18
Свободным стихиям, лишенным морали (нем.).
[Закрыть].
«Но где же та молния, которая лизнет вас своим языком? Где то безумие, которое необходимо привить вам?»
Так напишет он в своем «Заратустре». Его самого слепящий язык молнии лизнул в мозг.
Хижина на вершине холма превращается под его пером в подобие капища; такие устраивались иудеями, отпавшими в язычество, на высотах. Вряд ли упоминание двух закалываемых агнцев было случайным. Он чувствовал себя жрецом новой веры. Новой философии. В нем играла кровь священников.
Перерождение, произошедшее с Лютером, лишь вначале привело его в монашество; в итоге путь его, извилистый и раскаленный, как молния, закончился Реформацией. Церкви и монастыри закрывались, священники изгонялись; вспыхнула война, из ее пепла стала прорастать новая Германия. Та, которая будет уже при жизни Ницше окончательно объединена «железом и кровью».
Куда приведет Германию перерождение, произошедшее с Ницше, тоже известно. Не при его жизни, несколько позже, но с его именем. Церкви и монастыри будут закрываться, священники – сажаться в концлагеря; вспыхнет война, из пепла которой начнет прорастать новая Германия. Вот эта, которую мы видим сегодня, здесь и сейчас. «Старая добрая Германия». Слишком старая и оттого слишком добрая. От которой даже у памятника способна разыграться головная боль. «Вер ист даз? – Ниче. – Ах, Ниче…»
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































