Текст книги "Всё в твоей голове"
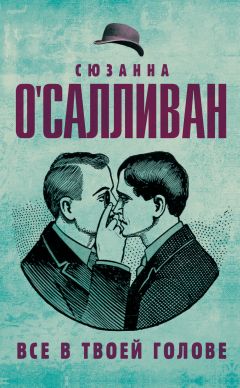
Автор книги: Сюзанна О'Салливан
Жанр: Медицина, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
На самом деле, конечно, никаких клопов не было, хотя зуд и боль от укусов воспринимались как реальные. Впечатлившись обстановкой, разум воспроизвел соответствующие ощущения. Пусть это было лишь игрой воображения и с тех пор прошло много лет, но я постоянно вспоминаю тот день. Пережитый опыт помогает мне работать с пациентами, у которых проявляются диссоциативные судороги, – так я больше верю в бессознательную природу их припадков.
Об этом же свидетельствует и поведение больных. Я всякий раз наблюдаю один и тот же сценарий. У пациента за полгода было несколько приступов – пять, может быть, десять; в сумме конвульсии длились не больше часа. А потом больной приходит ко мне на прием – и припадок случается в зале ожидания или прямо у меня в кабинете. Или я отправляю его на ЭЭГ, и приступ происходит во время процедуры. Последний вариант – большая удача, это значит, что я, основываясь на данных электроэнцефалограммы, могу поставить точный диагноз. А может, удачей было то, что пациент так вовремя забился в судорогах?..
Когда на твоих глазах человек падает на пол, хочется обвинить его в симуляции. В желании привлечь внимание. В попытке произвести впечатление. В стремлении обмануть ради какой-то выгоды.
По молодости мне было непросто отогнать эти мысли. Да, я могла испытывать к пациенту жалость, но при этом считала, что он делает это осознанно. Лишь со временем я поняла, что мои опасения напрасны. Пациенту во всех подробностях рассказывается, что можно увидеть с помощью электроэнцефалограммы. Зачем же имитировать припадок в тот самый момент, когда обман раскрыть проще простого? Может, человек на это и рассчитывает?
Допустим, вы хотите впечатлить нового друга и говорите, будто прекрасно играете на гитаре. А у него – представьте себе! – как раз есть инструмент, и он жаждет услышать вашу игру. Если вы не уверены в своих силах, вряд ли согласитесь. Так и здесь: забиться в судорогах, будучи подключенным к аппарату ЭЭГ, – не лучший способ симулировать симптомы. Скорее, это доказательство невиновности, крик о помощи из подсознания.
На мой взгляд, если пациенты охотно демонстрируют симптомы, это свидетельствует как раз о подсознательной природе заболевания. Мэтью педантично перебирал все возможные диагнозы. Ивонна и Полин вновь и вновь проходили разнообразные и зачастую неприятные процедуры, лишь бы найти причину своей болезни. Симулянт никогда не будет столь дотошным. Если я притворяюсь больной, врачи со своей диагностикой представляют для меня угрозу. Ивонна, Мэтью и Полин такой угрозы не видели. Напротив, они умоляли о помощи.
Я считаю, что психосоматические расстройства никак не подчиняются воле человека. Однако многие мои коллеги это убеждение не разделяют.
Однажды я решила повысить квалификацию и пошла на курсы по детской неврологии, в частности эпилепсии. На одном из занятий нам предложили посмотреть ролики с записью судорог и поставить диагноз на основании одного лишь видео. В аудитории мало кто специализировался на лечении эпилепсии, в то время как я проработала в этой сфере уже несколько лет. Кроме этого, у меня был опыт диагностики по видео – правда, со взрослыми пациентами, – так что в нашей группе я была, пожалуй, самой опытной. Поэтому я не торопилась отвечать первой.
В самом конце показали видео с девочкой лет четырнадцати. Ее припадок заметно отличался от предыдущих, и, на мой взгляд, с ней все было очевидно. Преподаватель прошелся по аудитории, спрашивая мнение моих коллег.
– Фронтальная эпилепсия.
– Тонико-клинические судороги.
Я сидела в конце ряда и отвечала последней. Кроме меня больше никто не предположил, что припадок носит диссоциативный характер. Меня попросили обосновать ответ, и я пояснила.
Не успела я договорить, как один из моих соседей повернулся и с нескрываемой злостью прошипел:
– По-вашему, бедная девочка притворяется?!
В этом-то и проблема. Неважно, ошиблась я тогда с диагнозом или нет, – для того врача диссоциативные судороги были синонимом симуляции. Да, он говорил так из сострадания к ребенку, но что, если когда-нибудь, столкнувшись с дилеммой, он поставит неправильный диагноз?.. Вдруг сердце просто-напросто не позволит ему уличить пациента «в обмане»?
Я все чаще с этим сталкиваюсь – с тем, что врачи боятся ставить психосоматический диагноз.
– А вдруг я ошибаюсь? Может, на всякий случай выписать лекарства от эпилепсии?
В результате этого «на всякий случай» человек остается без должного лечения. Происходит это по разным причинам. Иногда врач понимает, что пациент отреагирует не лучшим образом, и пытается избежать скандала. В других случаях врач сомневается в своей опытности: вдруг он что-то упустил и болезнь все-таки органическая? Никому не хочется получать судебный иск…
В 1965 году видный психотерапевт Элиот Слейтер опубликовал в «Британском медицинском журнале» статью, где привел результаты десятилетних исследований истерии. Он сообщил, что у двадцати пяти процентов больных в итоге все-таки обнаружили органические заболевания. Слейтер писал: «Диагноз «истерия» покрывает невежество врачей и поощряет их многочисленные ошибки. Это не просто заблуждение – это ловушка». Под влиянием его работы многие врачи перестали диагностировать конверсионные расстройства. Слейтер ловко сыграл на худших их страхах.
Сомневаюсь, что мои современники читали эту статью, но подобное отношение к истерии невольно сохраняется и сегодня. Что бы ни думали пациенты, на самом деле врачи очень боятся допустить ошибку: вдруг через несколько лет появится новая методика обследования, которая опровергнет диагноз? Поэтому они, не видя в этом ничего зазорного, предпочитают вовсе его не ставить. Однако за пятьдесят лет, прошедших с момента публикации статьи Слейтера, многочисленные клинические исследования так и не подтвердили его выводы. Технологии XXI века позволяют с максимальной точностью исключить возможные физические причины болезни, а психотерапевты, занимающиеся лечением психосоматических расстройств, в свою очередь, подтверждают малое количество ошибочных диагнозов – всего четыре процента, обычный уровень для заболеваний, диагностика которых не ограничивается одним анализом.
Поставить неверный диагноз и подвергнуть жизнь пациента опасности – кошмар для любого врача. Впрочем, при первичном диагнозе такое случается довольно часто: многие психосоматические расстройства маскируются под органическую болезнь. Однако упорствовать в этой ошибке нельзя – причиненный вред может быть несоизмерим.
Во-первых, в попытке «сохранить лицо» мы часто упускаем момент, когда пациент еще готов принять новый, психиатрический, диагноз. Смириться с ним очень непросто. Чем дольше человек упорствует в заблуждениях, тем сложнее дастся ему лечение. Если хоть однажды обнадежить его, что болезнь органическая, шансы на выздоровление стремительно падают. Это подтверждено и научными исследованиями: среди больных с диссоциативными судорогами, считавших, будто у них эпилепсия, процент выздоровевших значительно ниже. Возможно, здесь замешан фактор времени; ошибочный диагноз не позволяет вовремя начать лечение. Возможно, играет роль настрой самого пациента; когда человек верит, что у него серьезное и опасное заболевание головного мозга, избавиться от этой убежденности практически невозможно. Если вы считаете, что не сможете пробежать марафон, – не станете и пытаться.
Это касается любого симптома, спровоцированного стрессом. Вот, например, пациент жалуется на боль в шее. Рентген показывает износ позвоночных дисков. Любой человек старше среднего возраста тут же спишет неприятные ощущения на преждевременную старость, даже не попытавшись объяснить их чрезмерным мышечным напряжением и, тем более, нервным расстройством. О лечении можно забыть.
Во-вторых, неверный диагноз имеет и другие опасные последствия. Человек принимает ненужные токсичные препараты. Бросает работу или учебу; изменяет свою жизнь, приспосабливаясь к болезни. Но все это – бесполезно!
Впрочем, нежелание ставить психосоматический диагноз не всегда объясняется столь благородными порывами. Некоторые специалисты до сих пор считают, что психогенного паралича не существует, пациенты его якобы имитируют. Или что диссоциативные судороги вызваны намеренно. Прежде, когда представление о врачебной этике было более размытым, такие пациенты испытывали на себе весьма радикальные методы лечения. Например, в XIX веке один врач практиковал лечение судорог клизмами. Он считал, что пациент не сможет одновременно биться в конвульсиях и контролировать кишечник. Другой запирал парализованных больных в кабинете, предлагая им самим подойти и открыть дверь.
В наши дни врачам приходится держать такие мысли при себе – хотя и не всегда. Я встречала пациентов, которых открыто обвиняли в симуляции. Им ставили диагноз и велели «взять себя в руки». Такой поступок наносит больше вреда, чем кажется. Он ставит на человека клеймо и напрочь убивает веру в возможности медицины.
Джудит направили ко мне с подозрением на эпилепсию. Лечащий врач сообщил, что она лечилась от лейкемии, и намекнул, что эпилепсия может быть вызвана осложнением. Джудит рассказала мне свою историю.
Она родилась в Англии, но в детстве вместе с семьей переехала в Майами. Спустя шесть месяцев Джудит заболела. Все началось со странных синяков. Терапевт не придал им особого значения: дети всегда падают и набивают синяки. Затем Джудит подхватила тяжелую инфекцию дыхательных путей. По анализу крови врач заподозрил неладное; биопсия костного мозга подтвердила острый лейкоз. Джудит прошла ряд неприятных обследований, затем курс химиотерапии. У нее выпали волосы. Ей облучали мозг и вводили в спинномозговую жидкость радиоактивные вещества, чтобы проверить, не затронул ли рак нервную систему. Иммунитет ослаб, Джудит то и дело подхватывала разные инфекции, резко потеряла в весе, целую вечность провела в больнице. Однако после трехмесячной ремиссии рак вернулся. Единственная надежда оставалась на пересадку костного мозга. К счастью для Джудит, ее старшая сестра стала идеальным донором.
Перед операцией родители отвезли их с сестрой в Диснейленд. Она никак не могла понять, был ли тот день лучшим или худшим в ее жизни. Впервые за долгое время она развлекалась, как все обычные дети.
– А я ведь знала, что этого не заслужила.
– Чувствовали себя виноватой перед сестрой?
– Не совсем. Я не понимала, почему должна быть ей обязана. Это я мучилась от рака, не она, – спокойно, даже равнодушно пояснила Джудит.
Всю следующую неделю она провела в полной изоляции, чтобы исключить любую инфекцию. Лишь изредка виделась с родственниками, при этом с головы до ног укутанная в стерильную одежду и с маской на лице.
Впрочем, долго это не продлилось. Вскоре кровяные клетки стали восстанавливаться. Карантин закончился, Джудит отпустили домой. Правда, ей по-прежнему приходилось жить по определенным правилам: например, меньше общаться с людьми, чтобы не подхватить инфекцию. Мать сама готовила ей пищу, соблюдая все возможные санитарные нормы. Джудит целыми днями сидела перед окном спальни и смотрела, как другие дети играют в баскетбол и едят пиццу. Она с тоской вспоминала тот день в Диснейленде.
С тех пор прошло двенадцать лет. Семья Джудит вернулась в Англию. Девушка сдала выпускные экзамены и поступила в колледж. Переехала в Лондон, устроилась работать няней. Однажды, играя с ребенком, упала на пол и забилась в конвульсиях. Ей вызвали «скорую». Очнулась Джудит уже в больнице.
– Там все выглядело таким знакомым, словно я оказалась дома.
Врачи решили, что эпилепсия стала побочным эффектом облучения мозга. Джудит выписали лекарства, которые, однако, не смогли снять приступы, поэтому ее направили ко мне.
В юности я полгода работала в команде гематологов. Видела больных раком детей много раз, некоторых с грустью вспоминаю до сих пор. А вот история Джудит совершенно меня не тронула. И я даже знала почему: потому что я ей не поверила. Все факты сами по себе были верными, но в общую картину не складывались. Джудит говорила так, будто читает по бумаге, – по крайней мере, такое возникло впечатление от ее рассказа. Были и другие мелочи, намекающие, что моя пациентка фантазирует или, что еще хуже, намеренно лжет. Почему она не принесла больничные записи? Люди с таким медицинским прошлым всегда берут с собой выписки из карты, результаты анализов, письма от врачей, старые рецепты… Или почему она пришла одна? Нет, конечно, в двадцать шесть лет она не нуждается в сопровождении взрослых, но после такого серьезного заболевания, как лейкемия, родные обычно проявляют больше заботы.
Я вдруг поняла, что пытаюсь поймать ее на деталях.
– Какие антибиотики вы принимали после операции? – Правильно…
– Куда именно делали пересадку? – Опять верно.
– Не помните, какого вида была пересадка: аллогенная или аутологичная? – Ага, угадала…
Мне было чуточку стыдно, но я не могла остановиться.
– Как называется больница, где вы лечились?
– Центральная больница Майами.
Странное название. Надо будет проверить, есть ли такая.
– А как звали лечащего врача?
– Доктор Мэрроу.
Доктор Мэрроу! Нет, только представьте: доктор Мэрроу (от англ. marrow – костный мозг) занимается трансплантацией костного мозга! Хотя… почему бы и нет? Был же известный невролог сэр Уолтер Брэйн (от англ. brain – мозг). Может, доктор Мэрроу с иронией отнесся к выбору будущей профессии?
Уже одно это странное имя заставило меня насторожиться. Возможно, такова обратная сторона моей работы – со временем сердце черствеет, и девушка, рассказывающая свою историю без лишних эмоций, воспринимается лгуньей. Решив, что расспрашивать дальше бесполезно и даже цинично, я попросила Джудит сесть на кушетку для осмотра. Рефлексы оказались в норме – впрочем, такое часто встречается у людей с эпилепсией.
Напоследок я решила проверить кое-что еще.
– Джудит, а где был вставлен катетер Хикмана? – Я спрашивала о тонкой пластиковой трубке, через которую вводят лекарства при химиотерапии.
Джудит, даже не замешкавшись, стянула футболку и ткнула в пятнышко чуть ниже правой груди. Не шрам – обычную родинку. Совершенно не там, куда вставляется катетер Хикмана. Это был первый вопрос, на который она дала неверный ответ. Впрочем, с тех пор прошло немало времени. Джудит тогда была ребенком, она могла просто забыть…
Я попросила ее повернуться, чтобы взглянуть на спину – идеально гладкую, белую, без малейших следов от многочисленных шрамов, оставленных биопсией. Как такое возможно?
Закончив, я велела Джудит готовиться к госпитализации, чтобы мы могли понаблюдать за ее приступами. Доказательств у меня не было, одни лишь подозрения, от которых, увы, никак не удавалось отделаться. Однако мне надо быть объективной. После ухода Джудит я набрала в поисковике «Центральная больница Майами». Как ни странно, такая и в самом деле нашлась.
Спустя пару недель Джудит приехала на обследование. Мне так и не удалось раздобыть ее старую медкарту. В больнице Майами было отделение гематологии, но доктор Мэрроу там не работал. Девушка из регистратуры хихикнула, когда я о нем спросила. Может, он уволился, ответила она. Но самое главное – там никогда не лечили онкобольных и не делали трансплантацию костного мозга. А еще у них не нашлось никаких сведений о пациентке с фамилией Джудит.
– Джудит, вы ничего не напутали? У вас не сохранились оттуда какие-нибудь документы?
– Нет.
– Я им звонила, они сказали, что такие операции никогда не делали. Может, вы лечились в другой клинике, просто ошиблись с названием?
– Не помню.
– А может быть, помнят ваши родители?
– Не знаю.
– Давайте им позвоним, надо кое-что уточнить.
– Они сейчас на работе и вряд ли ответят.
– Вы у них спросите вечером?
– Хорошо, но не обещаю, что они вспомнят.
– Ничего страшного, это на всякий случай.
На ночь Джудит поместили в палату функциональной диагностики. Что бы там ни было в ее прошлом, нам предстояло разобраться с нынешними приступами. Следующим утром медсестра сказала, что обнаружила девушку на полу без сознания. Она тогда отвлеклась на другого пациента и не знала, что именно произошло. Джудит сильно ушибла руку. К счастью, обошлось без перелома.
Я промотала видео до нужного момента. Медсестра зашла в четверть десятого. До этого Джудит весь вечер сидела на кровати: листала журнал, смотрела телевизор. Около девяти она встала и подошла к двери. Прикрепленные к голове датчики не давали ей выйти из палаты. Какое-то время Джудит вглядывалась в коридор, потом закрыла дверь. Снова пересекла комнату, встав у изголовья кровати. То, что случилось дальше, меня просто шокировало: Джудит подняла правую руку на уровень плеча, примерилась и что было силы ударила в стену. Скорчилась от боли (меня передернуло вместе с ней, и я невольно потерла собственную кисть), после чего ударила снова, еще раз и еще. Затем легла на пол, нарочно зацепив при этом тарелку. На звон битого стекла вбежала медсестра. Она стала приводить Джудит в чувство, та не реагировала.
И внезапно на меня нахлынула волна сочувствия, которого Джудит не удалось добиться слезливой историей про больную раком девочку. Меня невероятно тронуло, с каким простодушием она это сделала. Камера открыто висела под потолком, Джудит о ней знала и не пыталась от нее спрятаться. В этом-то все и дело – часть ее сознания хотела нам показать, что происходит. Ей в самом деле было очень плохо, и только так она смогла добиться нашего внимания.
Каждый психосоматический больной опасается, что его обвинят в том же – что он намеренно причиняет себе вред. Однако пациентов, которые сознательно симулируют болезнь, крайне мало. В среде медработников часто ходят слухи о женщине, капавшей кровью в мочу, имитируя серьезное заболевание почек. Или о мужчине, втиравшем в раны грязь, чтобы вызвать инфекцию. Правда в том, что большинство врачей сталкиваются с подобными случаями буквально пару раз за всю карьеру, а симулянты заставляют подозревать в нечистых намерениях каждого, чьи симптомы выглядят странными.
Это явление корнями уходит к личности Карла Фридриха фон Мюнхгаузена, «барона-лжеца». Синдром Мюнхгаузена – симулятивное расстройство, при котором человек искусственно вызывает у себя симптомы болезни. Делается это не ради пособия по инвалидности или денежной компенсации, а затем, чтобы получить внимание и заботу. Таких людей осуждают, над ними смеются, недооценивая при этом всю серьезность проблемы. Пациенты с синдромом Мюнхгаузена готовы принимать любые самые ядовитые препараты или ложиться под нож хирурга – вплоть до ампутации конечностей. Они могут разрушить свою жизнь, лишь бы вызвать сочувствие окружающих. Если раскрыть их замысел, они будут все отрицать, замкнутся в себе и наотрез откажутся от психологической помощи.
Синдром Мюнхгаузена практически невозможно вылечить.
К счастью, встречается он редко. Через мой кабинет прошло немало пациентов с конверсионными расстройствами, можно было бы ожидать, что среди них оказалось немало таких симулянтов. Однако на самом деле я сталкивалась с ними лишь трижды. Третьей стала как раз Джудит.
Первый случай был в самом начале моей карьеры. Женщина жаловалась на головные боли и проблемы со зрением. При осмотре выяснилось, что левый зрачок расширен и не реагирует на свет. Однако сканирование мозга никаких отклонений не выявило. Это поставило в тупик все отделение – пока медсестра не зашла случайно в туалет, где пациентка закапывала в глаз мидриатик, препарат для расширения зрачков.
Вторую такую пациентку я встретила через пять лет. На первый взгляд в Джоан не было ничего необычного. У нее случались припадки, похожие на эпилептические; правда, врачи с диагнозом не торопились. Первая серия тестов ничего не выявила, поэтому Джоан поместили под наблюдение. Первый зарегистрированный приступ случился, когда она смотрела телевизор. Второй – когда сидела в кресле. Оба раза она вдруг бледнела и медленно заваливалась набок. Судя по видео и результатам ЭЭГ, у нее случалось что-то вроде обморока. Никаких признаков эпилепсии. Но молодая и здоровая женщина не должна беспричинно терять сознание.
Первым заподозрил подвох лаборант, с которым мы смотрели видео.
– Что это она делает с платком? – спросил он.
Мы увеличили картинку и прокрутили ролик заново. А потом недоумевали, как не заметили это сразу. Джоан достала платок и вроде бы вытерла нос. Однако на замедленной скорости мы четко разглядели, что в платке лежал маленький пузырек. Джоан двумя пальцами открутила крышку и глубоко вдохнула содержимое. Затем аккуратно сложила платок и убрала в карман. А пару секунд спустя побледнела и упала на кровать.
Когда мы сообщили ей о своих подозрениях, Джоан сбежала из больницы. Мы так и не смогли проверить, что в том пузырьке. Впрочем, догадаться было несложно. В таких флакончиках хранится амилнитрит – летучая жидкость с резким запахом, которая позволяет стимулировать работу сердца. Этот препарат применяется в самых крайних случаях, потому что имеет весьма неприятный побочный эффект – резкое снижение кровяного давления, которое может привести к обмороку.
Эти случаи кажутся забавными, пока не понимаешь, что такой пациент способен причинить вред себе и окружающим. Я так и не узнала, что именно двигало Джудит. Как и Джоан, на следующий день она сбежала из больницы, не показавшись психотерапевту. Я о ней больше не слышала. Не знаю, откуда она взяла историю про лейкемию. Вычитала в книге?.. В художественной прозе не бывает таких технических подробностей; может, ее рассказ отчасти был правдой? Некоторые пациенты с синдромом Мюнхгаузена в детстве серьезно болели. А к чему был тот странный и неуместный рассказ о поездке в Диснейленд? Джудит неспроста уделила ему столько внимания. Она упоминала, что очень злилась на сестру… Может, история про рак настоящая, только больна была другая девочка?
Люди нередко лгут врачу. Скотт чем-то напоминал Джудит, хотя мотивы у него оказались другими.
До болезни он работал грузчиком на складе. В семье Скотт обеспечивал основной доход; он платил алименты на троих детей бывшей жене, содержал свою девушку Дэбби и двоих ее сыновей. Дэбби тоже работала, но в школьной столовой платили очень мало. Поэтому, когда у Скотта начались проблемы со здоровьем и ему пришлось тратиться на лечение, в семье грянул кризис.
Впервые Скотт почувствовал боль после нескольких особенно изнурительных смен. Он взял пару выходных, чтобы отлежаться. Боль вроде бы прошла, но теперь почему-то он ощущал слабость во всем теле. Ему стало труднее подниматься по лестнице. Грузы казались вдвойне тяжелее. Изредка накатывали новые приступы боли. Через месяц Скотт не выдержал и попросился в недельный отпуск, чтобы пройти обследование. Врач назначил болеутоляющее и направил его на физиопроцедуры. Вернувшись к работе, Скотт понял, что у него проблемы: он поднимал груз, однако не мог с ним идти – ноги не слушались. Начальник перевел его на другую должность: водить погрузчик. Так продолжалось шесть месяцев. Скотту полегчало, но это была лишь ремиссия перед новым рецидивом. Вскоре он опять лег в больницу. Начальник потерял терпение и пригрозил увольнением. Впрочем, это было уже неважно – за две недели слабость в ногах усилилась так, что о работе пришлось забыть.
За год Скотта полностью парализовало ниже пояса. Он оказался в инвалидной коляске и во всем зависел от окружающих людей. Дэбби ушла с работы, они переехали из дома, где прожили десять лет, в незнакомый район в квартиру на первом этаже. Детям пришлось сменить школу.
Врачи долго передавали Скотта друг другу, не в силах найти причину его болезни. В конце концов он попал ко мне с подозрением на функциональный паралич. На электрической инвалидной коляске он заехал в мой кабинет. Рядом шла Дэбби. Скотт выглядел недовольным. Он сразу дал понять, как ему надоело выслушивать одно и то же – что врачи, мол, не знают, в чем дело. Слушая его рассказ и листая записи, я боялась, что и мне придется сказать то же самое.
Пересесть на кушетку он не сумел, пришлось осматривать его прямо в кресле. Дэбби помогла мне снять ботинки и закатать штанины.
– Как же вы дома справляетесь? – спросила я.
– Выкручиваемся, – пожал плечами Скотт.
Я осмотрела ноги. Насколько могла судить, с мышцами все было в порядке. Суставы двигались свободно. На боль Скотт не жаловался, он вообще ничего не чувствовал.
– Вы занимаетесь с физиотерапевтом? – уточнила я.
– Нет, я сама делаю с ним упражнения, – ответила Дэбби. Для Скотта она стала круглосуточной сиделкой.
Затем я попросила пошевелить пальцами. У него ничего не вышло. Я с силой надавила на стопу – он опять-таки не отреагировал. На этом осмотр закончился, и я стала опускать штанины.
– Дэбби сама справится, – остановил меня Скотт.
– Хорошо.
Усаживаясь за стол, я заметила, как Дэбби неловко натягивает носок на правую ногу. Мне показалось, что Скотт шевельнул стопой. Я стала заполнять карточку, краем глаза поглядывая на них и убеждаясь все больше: Скотт определенно ей помогал.
Все анализы указывали на одно – функциональное расстройство, так что Скотт вполне мог неосознанно двигать ногами. Такое случается.
Я сообщила, что при желании Скотт может пересдать анализы, но вряд ли они покажут что-то новое.
– Вы верите, что я парализован? – спросил Скотт.
– Да.
– Ну и зачем мне снова сдавать анализы? Признайте уже, что вы, как и все остальные, не знаете, в чем дело. И давайте с этим покончим!
Скотт ушел от меня крайне раздраженным, пообещав напоследок, что больше никогда ко мне не обратится. Я ответила, что, если он передумает, буду рада его видеть. Впрочем, этот мужчина был не из тех, кто бросает слова на ветер, и скорее всего, мы бы и впрямь больше никогда не встретились, если бы не одна досадная случайность.
Мой рабочий день как раз закончился, так что я собрала вещи и вышла. Машина стояла на парковке в десяти минутах ходьбы. Свернув за угол, я увидела впереди Скотта и Дэбби. Он ехал в инвалидной коляске, она шла рядом. Я уже почти нагнала их, когда эти двое остановились возле большого черного минивэна. Дэбби села на пассажирское сиденье. Задняя дверь автомобиля открылась. Скотт встал с коляски, поднял ее и положил в багажник, после чего занял водительское место. В этот момент я поравнялась с их машиной. Скотт повернул голову и, увидев меня в окно, отчетливо выругался.
Скотт вовсе не был невинной жертвой болезни. Таких людей очень мало, но почему-то именно по ним судят обо всех остальных. И это ужасно. Он единственный из сотен и даже тысяч моих пациентов, кого я с уверенностью могу назвать симулянтом, но из-за него под подозрением оказываются все прочие больные с функциональными нарушениями.
Функциональные нарушения, симулятивные расстройства и симуляция – это три разных группы. Первые две – болезни, последняя – нет. Функциональные нарушения имеют подсознательную природу, и пациенты не знают, что и почему с ними происходит. При симулятивном расстройстве больные вредят себе намеренно, нуждаясь в чужой поддержке и внимании. Они не понимают, что ими движет, и не могут себя контролировать. Симуляция – нечто совершенно иное. Это умышленная имитация болезни с целью наживы: чтобы выиграть суд или избежать призыва в армию. Симулянт нарушает закон, и нужен ему не врач, а хороший юрист.
Согласитесь, вроде бы все просто? «Руководство по диагностике и статистике психических расстройств» не расценивает симуляцию как болезнь. Этим людям не назначают лечение и не оказывают врачебную помощь. Но всех ли симулянтов можно судить одинаково?
Вот женщина, бежавшая из охваченной войной страны. Она потеряла всех родных. Просит политического убежища, но безуспешно. Узнав о скорой депортации, она имитирует болезнь, чтобы избежать отправки домой.
Вот мужчина, который поскользнулся на мокром полу в магазине. Он притворяется парализованным, чтобы отсудить солидную компенсацию.
Вот молодой парень. Он рос в неблагополучной семье, родители ни дня не работали, перебиваясь на пособии. Они не дали ребенку образование, не научили его ставить цели и добиваться их. Вполне логично, что в будущем какая-нибудь надуманная болезнь станет для него отличным предлогом не искать работу.
Все ли они одинаково заслуживают нашего презрения?
Меня часто спрашивают, как вывести симулянта на чистую воду, а я всегда отвечаю, что не стоит этого делать. Я исхожу из того, что мой пациент в самом деле болен, не тратя время на поиски доказательств обратного. Кто-то с такой позицией может быть не согласен. Люди представляют, как парализованные больные дома вскакивают с кресел и танцуют джигу. Возможно, с кем-то так оно и есть – некоторым нравится обманывать систему, – но лучше смириться с их возможным существованием, чем оттолкнуть всех остальных. Я слишком часто имею дело с конверсионными расстройствами и знаю, как оскорбляет больных любой намек на сомнения.
Я написала письмо лечащему врачу Скотта, где подробно изложила увиденное: как «парализованный» пациент не только ходит, но и поднимает тяжелую коляску и водит автомобиль. Тот ответил, что Скотт судится с работодателем – якобы причиной паралича стала производственная травма. Одновременно с этим я получила запрос от юриста, который интересовался медицинским заключением. Я переслала им медкарту, к которой приложила оба письма. Не знаю, чем закончилось дело. Вряд ли Скотт добился успеха. Иногда, правда, меня грызет совесть. Мы были с ним практически незнакомы, меня крайне возмутил этот низкий поступок, но кто я такая, чтобы его судить? Он много лет трудился на тяжелой низкооплачиваемой работе, содержал две семьи. Да, Скотт выбрал неправильный путь, но, возможно, ему просто не оставалось иного выхода. Если бы мы лучше разобрались в его мотивах, то, быть может, не относились так строго…
Настоящие симулянты встречаются редко. А еще их легко разоблачить: они ведут себя не так, как обычные больные. Что бы ни заставляло человека врать, он всегда сознает свою ложь и пытается ее скрыть. Он многое недоговаривает. Избегает анализов и обследований. И не стремится, как Ивонна, любой ценой узнать причину своей болезни.
Я не знала, встречу ли когда-нибудь Ивонну снова. Пациенты, не согласные со своим диагнозом, редко возвращаются в ту же больницу. Они идут к другому врачу в надежде услышать что-нибудь новое. Или предпочитают смириться с болезнью. Иногда, очень редко, человек выздоравливает сам – и называет это чудом. Я надеялась, что Ивонна все же справится. Из-за слепоты вся ее жизнь рушилась, и так не могло больше продолжаться.









































