Текст книги "Художественный мир новокрестьянской литературы"
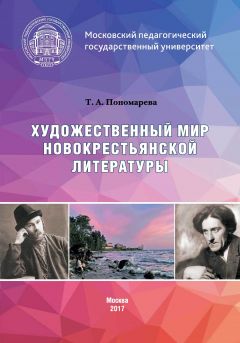
Автор книги: Татьяна Пономарева
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Дымом половодье
Зализало ил.
Желтые поводья
Месяц уронил.
Еду на баркасе,
Тычусь в берега.
Церквами у прясел
Рыжие стога.
Заунывным карком
В тишину болот
Черная глухарка
К всенощной зовет.
Роща синим мраком
Кроет голытьбу…
Помолюсь украдкой
За твою судьбу
(курсив мой. – Т. П.).
А У Клюева «галка-староверка ходит в черной ряске» (между 1915 и 1917 годом).
Или в есенинском «Ах, как много на свете кошек» (1925)
Все прошло. Потерял я бабку,
А еще через несколько лет
Из кота того сделали шапку,
А ее износил наш дед.
отзывается клюевский мотив «Избяных песен»: «Хозяйка в небесах, с мурлыки сшита шапка. / Чтоб дедовских седин буран не леденил».
Не исследовано взаимодействие цветописи Есенина и Клюева, в частности, мы видим явное сходство красно-золотой палитры обоих поэтов в пору революционной эйфории и в переходе от «солнечного» к грязно-желтому, осеннему, когда наступает разочарование в идее русского Преображения, но у Клюева этот процесс начинается позже и, вероятно, не без влияния есенинской поэтики.
Не проанализировано воздействие клюевского принципа литургичности природы, ее восприятие как храма на поэтическую картину мира раннего Есенина, не рассмотрено соотношение эпоса и лирики в творчестве Клюева и Есенина двадцатых годов. И этот ряд примеров можно продолжить.
Эволюция Есенина-лирика и поэзии Клычкова также имеет немало общего – от мифопоэтического восприятия мира в десятые годы к реалистической лирике двадцатых годов.
Ждут своего исследователя творческие взаимосвязи А. Ганина и Клюева, в частности их поэмного творчества.
Не вписана поэзия П. Орешина и А. Ширяевца в пути развития новокрестьянской литературы. Книга А. И. Михайлова «Пути развития новокрестьянской поэзии» (Л., 1989) лишь наметила общий вектор развития. Нет анализа общих мотивов и поэтики прозы А. Ганина и П. Орешина.
Только начинает изучаться тема традиций классической русской литературы и Серебряного века в творчестве новокрестьян. В диссертации С. И. Субботина поставлена проблема влияния народнической лирики на поэзию раннего Н. Клюева, в работах Н. Солнцевой – тема «Гоголь и Клычков», в моей монографии – Клычков и Куприн, некоторые мотивы и образы русской классики анализируются в диссертации Н. Кудрявкиной, статьях Е. Демиденко, А. Филимонова, Ю. Изумрудова, В. Хомякова, традиции С. Клычкова в деревенской прозе и поэзии XX века стали предметом исследования А. Герасименко, А. Большаковой, Е. Дьячковой, Л. Калининой [114]. М. Нике обратился к проблеме Клычков и Булгаков [137], чуть-чуть затронута тема Блок и Клюев, Клюев и А. Белый. Требуются дополнительные исследования сказовой традиции в прозе Клычкова. Н. М. Солнцева указывает на актуальность тем С. Клычков и русские поэты начала века, С. Клычков и авангард, его отношения с пролетарскими поэтами, РАПП, Перевалом [138].
Не ставилась задача изучения творчества новокрестьян в аспекте коммуникативных стратегий, концептосферы и т. д.
Таким образом, исследование новокрестьянкой литературы остается перспективным и научно значимым.
Глава вторая
Циклизация в литературе новокрестьян
2.1. Концепции бытия в публицистическом цикле Н. Клюева и романной трилогии С. Клычкова
Циклизация – одна из фундаментальных проблем современного литературоведения. Основы изучения цикла были заложены в шестидесятые годы прошлого века в трудах В. А. Сапогова, И. В. Фоменко, Л. Е. Ляпиной, посвященных поэтическим циклам, Ю. В. Лебедева, А. С. Янушкевича в работах о прозе. К концу XX столетия изучение циклических жанрообразований превратилось в самостоятельное научное направление – цикловедение. Его итоги отражены в монографиях, докторских диссертациях [139; 140; 141; 142; 143; 144]. Объектом исследования становится сама история цикловедения [145; 146].
Важным результатом научных исследований стало, во-первых, осмысление цикла как системной структуры и анализ способов создания циклической целостности, во-вторых, разграничение цикла как жанрового образования, то есть совокупности произведений одного автора, имеющих признаки единства, и циклизации как тенденции к объединению произведений в различные типы и формы художественной целостности – от собственно цикла до подборки; в-третьих, понимание того, что цикл предполагает большое количество вариантов, обусловленных творческой индивидуальностью, авторскими задачами, родовой природой произведений, образующих цикл, типом художественного сознания и, наконец, эпохой.
В первые десятилетия XX века циклизация была продуктивной тенденцией. Тяготение к «большой целостности» проявляется у самых разных художников. Циклические черты обнаруживаются в прозе А. Белого, А. Ремизова, А. Толстого, Вс. Иванова, М. Горького (известен также его цикл пьес тридцатых годов о «других»), в поэзии А. Ахматовой, О. Мандельштама, В. Маяковского, М. Волошина, С. Есенина [147; 148; 149; 150]. Романы А. Веселого «Россия, кровью умытая» (1927–1932) и П. Романова «Русь» (1923) вобрали в себя куски опубликованных ранее «малых» текстов. Этот ряд примеров можно легко продолжить.
Творчество новокрестьян, при всей уникальности и особом трагизме писательских и личных судеб, вписывается в общее развитие художественной мысли первой трети XX века. Циклы стихов характерны для поэзии С. Есенина: «маленькая трилогия» («Возвращение на родину», «Русь уходящая», «Русь советская»), «Персидские мотивы». Известны циклы С. Клычкова «Из главы “Полон”»? «Заклятие смерти», исследователи выделяют еще и пак называемый «волчий» цикл. И. Клюев является автором многих стихотворных циклов, которые создавались на протяжении всей его творческой жизни: «Избяные песни», «Песни из Заонежья», «Земля и железо», «Поэту Сергею Есенину», «Спас», «Вороньи песни», «Новые песни», «Стихи из колхоза», «Разруха», «О чем шумят седые кедры».
Тенденция к циклизации прозы обнаруживается у новокрестьян в конце 1910 – первой половине 1920-х годов. В первую очередь она связана с малыми и средними жанровыми формами: статьи Н. А. Клюева 1919 года и его автобиографическая проза, поэмы А. А. Ганина, рассказы П. И. Карпова/ Вторая половина 1920-х годов свидетельствует о циклизации «больших» жанров новокрестьянской литературы. Поэтический эпос Н. Клюева (поэмы «Деревня», «Заозерье», «Погорельщина», «Песнь о Великой матери») можно рассматривать как целостное жанровое образование об «отлетающей» Руси. С. Клычков после книги лирики «Домашние песни» (1923) обращается к прозе и задумывает цикл романов «Живот и смерть». Идея «пятикнижия» трансформируется в «девятикнижие», но художник не смог полностью реализовать замысел. Были опубликованы романы «Сахарный немец» (и его сокращенный вариант «Последний Лель»), «Чертухинский балакирь», «Князь мира» и три главы из романа «Серый барин», образующих «чертухинскую» трилогию.
Развитие прозаической циклизации в литературе XIX–XX веков совпадает в главных проявлениях с эволюцией лирического цикла и свидетельствует о переходе от формального (внешнего) единства цикла, выраженного в заглавиях, цифровой упорядоченности частей ит. д., к содержательному (внутреннему), которое может выражаться во внешней архитектонике, но может и оставаться авторски «не оформленным».
Многие закономерности формирования эпических циклов XIX столетия, отмеченные Ю. В. Лебедевым [142], сохраняют свое значение в литературном процессе первых десятилетий XX века: традиции циклообразования выявляются в преимущественном развитии двух форм «малого» прозаического цикла – очерковой и новеллистической, внутри которых наблюдается рождение эпической целостности.
Публицистическая проза Н. Клюева – 11 статей 1919 года за подписью поэта и около двух десятков анонимных заметок, опубликованных в газете «Звезда Вытегры» в 1919–1923 годах, – занимает промежуточное положение между авторским циклом как особым типом целостной организации и так называемым «несобранным» циклом, осознание целостности которого читателями заменяет формально не зафиксированную авторскую волю к объединению самостоятельных произведений в единый текст.
Единство «вытегорских» статей Клюева обеспечено концепцией революции как Красной Пасхи и системой межтекстовых схождений. Ремифологизация современности, прямое наложение евангельских событий – Пришествие Спасителя, голгофские муки и смерть Сына Божьего и сына человеческого на кресте ради спасения человечества, Его Воскресение, предвещающее грядущее Преображение мира – на конкретные исторические события в России, понимание революции как Второго Пришествия представляют собой «крестьянский уклон» в восприятии Октября, присущий С. Есенину и его собратьям по «купнице».
Концептуальность, прямое выражение авторского отношения к изображаемому является отличительной чертой «очерковых» циклов. Каждая статья Клюева существует как самостоятельный текст, обладает смысловой и композиционной завершенностью и одновременно является частью «большой» целостности, которая обеспечивается внутренним единством (концепцией действительности, сходством мотивов и образов) и внешним – системой «запрограммированных» (И. Фоменко) и незапрограммированных связей-скреп на уровне поэтики, стилистики, ритма.
Циклическая целостность статей формируется на основе эстетизации «избяного космоса» и мифоромантической поэтики Великого Воскресения. Все уровни художественной системы Клюева: ритмический, речевой, предметный, образный, сюжетно-фабульный, композиционный, авторского сознания, проблемно-тематический – скреплены неомифологической концепцией. Между отдельными самостоятельными произведениями Клюева возникают системные межтекстовые связи, говорящие о цикловых отношениях частей и целого: «первоэлементы целого оказываются подобны ему по своей целостной организации» [142, 7].
Внешним признаком целостности становится тематическая общность. Внутреннее концептуальное единство обеспечивается системой композиционных и мотивных скреп на уровне заглавий, словесной изобразительности, цветописи, стилистики, лексики, ритма.
Шесть клюевских статей – «Красный конь», «Красные орлы», «Красный набат», «Алое зеркальце», «Огненное восхищенье», «Огненная грамота» – образуют «красный цикл»[2]2
Здесь и далее курсив мой. – Т.П.
[Закрыть], что акцентировано цветовым эпитетом заглавия, раскрывающим идею революции как Красной Пасхи. «Огненный» цвет заявлен также в подзаголовке статьи «Газета из ада, пляска Иродиадина»: «Малая повесть о судьбе огненной, русской» (курсив мой. – Т. П.). Жанровое определение малой повести говорит о стремлении Клюева к «большой» целостности статей. Еще в мае 1918 года, выступая на вечере памяти Карла Маркса, Клюев назвал свою речь «малым словом». Определение ориентирует на «большой» контекст «малого» («слова», «повести»). Малый красный цикл образует ядро большого публицистического цикла, который сопрягается с дореволюционными статьями-письмами В. С. Миролюбову и автобиографической прозой.
Семантика красного обусловлена мотивом крестной смерти-воскресения, голгофской крови, пожара апокалипсиса, цветом революционного знамени. По нашим подсчетам, в «красном цикле» из 508 словоупотреблений прилагательных и причастий (без учета заглавий) на долю цветовых определений приходится 82, среди которых доминирует красно-огненный спектр (57), дополненный пятью «золотыми» и двумя «солнечными» прилагательными. Другие цвета встречаются гораздо реже: черный (темный) – 10, белый (светлый) – 8, остальные единичны. Такая же картина наблюдается и в статьях, не входящих в «красный цикл». Это доказывает, что действительность 1919 года была окрашена Клюевым в красно-золотые, солнечные тона.
Сквозными в статьях Клюева становятся конфликт цивилизации («образованности вонючей») и культуры («русской душеньки»), противостояние «всемирной буржуазии», «злочестивого, прескверного и злосмрадного капитала» и России, которая «мчится на огненном тарантасе» революции, понимаемой как восстание против «железа», а также мотивы «порчи», «духовного гноения» русского народа в романовскую эпоху, обличение «казенной синодской церкви».
Циклообразующими средствами в публицистике Клюева становится прием «наращения смысла», наложение разных смысловых оттенков слова, которые переносятся на другие тексты писателя и сопрягаются со многими пластами мировой культуры, а также соединение мифологических, фольклорных, христианских, в том числе старообрядческо-сектантских, образов и мотивов в одном тексте (Древо Жизни, свадьба/битва, всадник на коне с копием, Вавилон, Ирод, пляска Иродиадина, Усекновение Главы, Голгофа, страсти, Дьявол).
Внутрицикловыми скрепами также служат повторяющиеся детали, приметы русской бытовой и обрядовой жизни, национального, чаще всего севернорусского пейзажа, автобиографические реалии. Это приводит к сочетанию высокой поэтической лексики, версейного стиха, агитационных лозунгов и призывов с интонацией устного рассказа и просторечиями.
Введение диалектной и просторечной лексики говорит о слиянии авторского мировидения с народной точкой зрения на события современности.
Тяготение к циклической целостности возникает не только в публицистике Клюева, но и в его автобиографической прозе. Автобиографическое начало обнаруживается и внутри публицистической прозы. В статье «Алое зеркальце» и «Огненное восхищенье» появляются воспоминания о доме, матери, биографические сведения, описания крестьянского быта. Автор предстает в образе рассказчика, сближающегося с лирическим героем. Мотив личной победы над смертью через сопричастность библейской идее воскресения переходит в тему бессмертия народа, единства личности и народного целого. Образ Великого четверга-«свечечки» соединяет «мамушкину пречистую могилу», «деревенщину» и «посадчину русскую» – «алмазное сердце родины».
Три мемуарных текста Клюева «Из записей 1919 года», «Гагарья судьбина» (1923) и «Праотцы» (1924), несмотря на внешнюю фрагментарность, представляют собой художественное целое, близкое к циклу. Воспоминания объединяет концепция судьбы поэта – посланца «поддонной» Руси, тема «жизни на родимых гнездах», сюжет поисков и обретений веры.
Воспоминаниям присуща жанровая неоднородность: сочетание мемуарного, житийного и мифологического в рассказе о себе.
В архиве критика М. Клейнборта сохранились отрывки рассказа Клюева о себе, где фрагмент «Праотцов» соединен с «Записями 1919 года». Такой же монтаж представляет заметка в первом номере журнала «Красная панорама» за 1926 год, что является дополнительным доказательством того, что поэт стремился к целостности своих воспоминаний.
Во всех текстах есть общие темы и мотивы, многие образы и детали повторяются: осознание «корней выгорецких» своего рода и «себя-поэта», мотивы избранности и божественной отмеченности, множества путей к вселенской церкви, повествование о «странствиях по русским дорогам-трактам», бытовые и портретные детали, подробности пребывания на Соловках, указания на любимый цвет (синий), камень (хризопраз).
Автор использует одинаковые мифообразы, метафоры, символы при характеристике одних и тех же персонажей, ситуаций в разных текстах. Отметим особую роль числа три и прием версейности в стиле.
Образуя циклическое единство, автобиографическая проза Клюева обнаруживает также родство с его публицистикой, обусловленное его взглядами на действительность и роль поэта (мотив голгофских мук, сочетание высокого стиля с прозаизмами, использование библейского стиха верее).
Циклизация свойственна и прозе П. И. Карпова. Его сборник рассказов «Трубный голос» (1920), к сожалению, до сих пор непереизданный, являет собой не собрание самостоятельных текстов, а цикл, объединенный темой революции в деревне. Внешняя композиция подчинена логике развития темы и авторской воле [152]. Из двенадцати рассказов сборника девять входят в обозначенный самим автором цикл «Подспудные ключи». Последовательность расположения текстов в нем задана цифровой нумерацией. Проблематика этого «малого» цикла найдет продолжение в трех «нецикловых» рассказах. Выделение внутрициклового ядра является свидетельством концептуального и композиционного единства книги.
Целостный «большой» текст позволяет Карпову увидеть в локальном жизненном материале глобальные процессы всей русской социальной и духовной жизни, воссоздать мир «селяков» с его «роевым» сознанием. С одной стороны, реалистически, в конкретных бытовых подробностях показана социальная действительность первых послереволюционных лет («керосину, соли, мыла, гвоздей нету», «ситцу не достать»), с другой – в сборнике воплощается мифопоэтический образ светлой революции. «Трубный голос» отразил мифопоэтическое восприятие событий революции, особенности крестьянского мировосприятия.
В книге Карпова нет таких внешних скреп, как повторяющиеся топографические названия и «бродячие» персонажи. Внутрицикло-вые взаимодействия выявляются в постоянных образно-символических повторах, раскрывающих два лика времени – «жизнь-сказку» и «жизнь-золушку», свет и тьму. Большую роль играют ассоциативные связи между отдельными текстами на уровне сюжета, композиции, лексическое и стилистическое многообразие.
Особенностью циклообразования в «Трубном голосе» является нарушение «чистоты жанра» и совмещение признаков очеркового и новеллистического цикла. Бесфабульные и сюжетно не завершенные рассказы-фрагменты, очерковые зарисовки чередуются с новеллами, повествующими об острых событиях, или с текстами, раскрывающими народные характеры. На жанровую двуплановость указывают и заглавия. «На родине», «Канун», «Легенды дня» описывают деревенскую жизнь и отражают особенности народного сознания. В них действуют коллективные герои: «мужики», «селяки», «бородачи». Вторую группу составляют рассказы, повествующие об отдельных судьбах. Персонажи представляют яркие типы времени или воплощают русский национальный характер, что также отражено в заглавиях: «Читарь», «Выборный поп», «Поэт из деревни», «Лазарь четверодневный».
Новеллистический цикл 1920-х годов характеризуется функциональным единством «сюжетных вариантов темы, которое предопределяется темой, а не перипетиями сюжета» [152, 51]. Очерковый цикл также стремится к изображению целостной картины действительности не через сюжетную выстроенность, а через подбор одинаковых (или подобных) реалий, деталей, образов, систему ассоциативных связей. Вариативность становится средством создания циклической замкнутости. Соединение признаков очерковой и новеллистической циклизации приводит к эпизации повествования, эпическому масштабу обобщения, предвосхищая романное мышление в литературе второй половины двадцатых годов.
Романы С. Клычкова «Сахарный немец», «Чертухинский балакирь» и «Князь мира» – это своеобразная мифопоэтическая трилогия из задуманного писателем девятикнижия «Живот и смерть». Три романа образуют циклическое единство, рожденное осознанным авторским стремлением к художественной целостности и к общему решению философской проблематики «человек и природа», конфликта добра и зла, что приводит к появлению общих структурных признаков, различных внутрицикловых скреп.
Такими скрепами являются, во-первых, единство места действия (село Чертухино и его окрестности, чертухинский лес, светлое болото, город Чагодуй), во-вторых, наличие общих персонажей. Так, во втором романе «Чертухинский балакирь» рассказывается о молодых еще Феклуше и Митрии Семеновиче, родителях Зайцева Николая, который является главным героем первого романа «Сахарный немец», о его деде Спиридоне Емельяновиче и дяде Андрее Емельяновиче, также упомянутых в «Сахарном немце». Свекор Пелагеи Прекрасной Аким и его жена Мавра, персонажи этого романа, станут героями «Чертухинского балакиря», как и колдунья Ульяна. В «Князе мира» развертывается история барина Бачурина, фонового персонажа из второго романа. «Завет колдуна Филимона, которому на свадьбе балакиря Петра Кирилыча предпочтут колдунью Ульяну, определит в последнем романе судьбу «Святого Михайлы», отца «серого барина» Бачурина. Иван Недотяпа, ставший святым Варсанофием, армяк которого в «Чертухинском балакире» Спиридон подарил Петру Кирилычу, – превратится в объективированного героя повествования в «Князе мира» и т. д. Автор неоднократно предваряет судьбу героев краткими замечаниями, впоследствии подробно описывая уже известные факты.
В-третьих, сюжетной закольцованностью, повторяемостью обладают мотивная и образная структура романа, что проявляется в обращение к одним и тем же мифообразам, метафорам, символам, ставшим лейтмотивными и связанными с авторским утопическим идеалом, таким, как «счастливое озеро», «разголубая страна», «сорочье царство», «заплотинное царство», «бесплатежное и беспошлинное царство».
Центральный структурообразующий образ «живота и смерти» появится в «Чертухинском балакире» как воплощение идеи единства и равноправия всех форм жизни. А его образное выражение – заветная книга «Златые уста», аналог «библии природы» (М. Никё) и Книги бытия, – возникнет уже в первом романе. В нем также появляется и образ мифологического «неразменного рубля», определивший главную тему «Князя мира». Повторяются также бытовые детали и реалии, топографические характеристики. Объединяет романы образ рассказчика, повторяющиеся оценки будущего страны.
Концепция действительности и человека, совпадающая с крестьянским миромоделированием, приводит к единству форм повествования в прозе С. Клычкова, представляющей собой смешанный сказ, в котором сказ, ориентирующийся на выражение народного «роевого» сознания, сочетается с «рассказом рассказчика» от третьего лица и изложением событий всезнающим повествователем.
Главной темой всех трех произведений станет поиск гармонии жизни и истинной веры. Оппозиция лада/разлада, добра и зла, вечная борьба Бога и дьявола за души человеческие, богоотступничество и власть «князя мира» образуют сквозной сюжет романа. Уже в «Сахарном немце» выявляются ставшие сквозными темами трилогии несколько типов дьявольских соблазнов, которых не выдерживает человек: искушение убийством, «железной цивилизацией», придумавшей машины для убийства и разрушающей природу, «непомерной плотью» и «неразменным рублем». В результате персонажи превращаются в «святых чертей», весь мир становится обращенным, а природа гибнет. Тема гибели выражена через характеристику настоящего времени (будущего для героев) как антиприродного, как «последних времен природы».
Основу клычковского художественного мышления в «чертухинской» прозе составляет мифопоэтическое мировосприятие: «В мире нет ничего неживого», «Вера человека – весь мир», идея природной гармонии, воплощением которой становится праведная книга «Златые уста». Это образ утраченной современным человеком природной библии и Книги Божественного Знания, которое недоступно человеку с непросветленной душой. Идея «природного лада», «круглого мира», у которого «нету конца», с одной стороны, вобрала языческое народное мироощущение, а с другой – явилась своеобразным воплощением концепции соборности А. Хомякова, всеединства В. Соловьева. Сквозными персонажами романов станут леший Антютик, добрый дух чертухинского леса, выведенный из сферы зла и противопоставленный нечистому, «черту», а также месяц («лунный чародей»), лунный свет, туман.
От романа к роману усиливаются сомнения автора в возможности достижения идеала. В «Сахарном немце» природная гармония еще мыслится как реальность, в «Чертухинском балакире» заветная книга становится участником событийного сюжета и один из героев меняет ее на мельницу В последней части «чертухинской трилогии» о судьбе книги неизвестно даже рассказчику, ее сменяет «богонравная книга», которую читают «по памяти», не пытаясь постичь смысл: «Рази ее когда дочитаешь».
В «Князе мира» главной темой становится неразличимость человеком добра и зла, господство дьявола и его верного спутника, «неразменного рубля». Вера в добро, убеждение в неотвратимости Божьего наказания сохраняет один лишь повествователь, в сознании которого возникает другая книга – Судеб. По замыслу писателя, в последующих романах книга «Златые уста» должна была окончательно утратить сакральное значение, превратившись в поваренную книгу.
Эволюции идеала сопутствует изменение поэтики, конкретных образов, имеющих характер внутрицикловых скреп. В гамме цветов первых двух романов доминирует голубой, красный, золотой, в «Князе мира» преобладает серый и черный.
В раскрытии философских конфликтов трилогии большую роль играют сказки как внефабульные элементы повествования, вставные жанры. Сказки выражают идеал праведности и говорят о его искажении в народном сознании. Сказки соотносятся друг с другом и с событийным сюжетом романов. Царство Зазнобы из «рассказки» «Сахарного немца» соответствует образу «разголубой страны», о которой мечтает главный герой по кличке Зайчик. Леший Антютик – персонаж сказки о «праведных старцах» из первого романа – станет героем сюжетной истории о сватовстве Петра Кирилыча в «Чертухинском балакире» и выразителем философии «круглого мира», у которого нет конца. Мотив «беса в соборе» также объединяет сказочную и мифологическую романную реальность.
Принцип зеркальной симметрии сказок проявляется, прежде всего, в архитектонике «чертухинской трилогии». Двум «рассказкам» в первом романе соответствуют две сказки в последнем. Во втором романе сказка как вставной жанр уступает место сказочности всего сюжета. Внешнее композиционное подобие отражает образно-тематическое сближение, которое акцентирует изменение народного идеала. В первом романе Сорочье царство было синонимом «разголубой страны», идеального Счастливого озера. В «Князе мира» царство Премудрой сороки становится царством «неразменного рубля», «запродажная» цена которого – человеческая душа. Власть денег, безыдеальная действительность раскрывается в повествовательном сюжете последнего романа.
Таким образом, целостность художественной картины мира в романах С. Клычкова обеспечена фольклорно-мифологическим мировосприятием и системой межтекстуальных отношений, общих образов и мотивов.
Стремление новокрестьян к циклическому единству самостоятельных текстов совпадает с процессами циклизации в русской литературе, явственно обозначившимися к середине двадцатых годов («Конармия» И. Бабеля, «Партизанские повести» Вс. Иванова, «Донские рассказы» М. Шолохова» и др.).
Описанный Ю. В. Лебедевым и Л. Е. Ляпиной принцип исторического бытования циклизации применительно к литературе XIX столетия сохраняется и в XX веке. Он заключается в чередовании жанровых циклообразующих традиций от эпохи к эпохе. «Помимо постоянной выработки новых типов цикла, происходит последовательное укрупнение самих этих типов (не по объему, а по масштабности параметров» [143, 173].
Понятие же литературной эпохи в послереволюционной литературе стремительно сужается до нескольких лет. Циклизация малых жанров в начале 1920-х годов не только подготовила появление романа, утвердившегося в середине десятилетия, но и предсказала циклообразующие тенденции в больших повествовательных жанрах, что привело, с одной стороны, к созданию романов-эпопей, наглядным примером которых является «Тихий Дон» Михаила Шолохова, а с другой – циклов романов, о которых говорит творческий опыт С. Клычкова.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































