Текст книги "Сказки на ночь для взрослого сына"
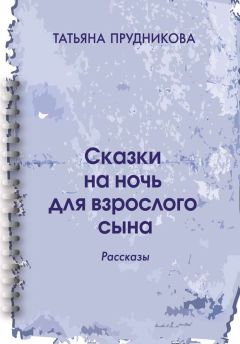
Автор книги: Татьяна Прудникова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Начальник взял из онемевших Аниных пальцев листы и порвал их на мелкие части. Сложил в своей пепельнице и поджег.
Анна всё еще не могла прийти в себя: она прочитала анонимный донос на своего мужа, которого обвиняли в подрывной деятельности и антисоветской пропаганде.
С трудом овладев собой, спросила:
– Вы знаете, кто написал?
– Не знаю. И тебе выяснять не советую. Нет этой бумаги. И не было… Вон, пепел один остался! Но… Думаю, из вашего с Павлом ближнего круга бумага появилась. Кстати, может, Павлу об этом пока не стоит говорить?
Анна вернулась на свое рабочее место. Задумалась.
По некоторым деталям, «фактам», фигурировавшим в доносе, ей стало ясно, что его сочинил кто-то из Бариновых либо Крузиных. Вот тебе, Аня, воскресные обеды! И Большая советская энциклопедия…
Ничего она не скажет Павлу!
Но вот по каким семейным обстоятельствам им уехать домой?
Через полчаса в Аниной голове с аккуратной укладкой «перманент» все выстроилось по полочкам; она придумала, что нужно делать. Домой с работы она вернулась в хорошем настроении, даже веселая.
В середине октября Павел и Анна оформили завершение своей загранкомандировки. По семейным обстоятельствам. И начали паковать вещи, переживая за «Мадонну» и недавно купленное немецкое пианино.
Накануне отъезда Аня и Павел позвали всех близких знакомых, коллег на прощальный ужин. Все радовались за Павла и Анну: они уезжали на родину. Германия, прощай!
Пролетело еще несколько месяцев. В родной Ленинград из Германии уехали Бариновы, уехали и Крузины – в Казань.
В июне 55-го года на свет появились семейные обстоятельства Анны и Павла. У них родилась дочь.
В Германии они больше никогда не были.
Вышли из моды и сносились немецкие платья и костюмы, побилась привезенная посуда, но в серванте стояла синяя с золотом «Мадонна», радовало своим звуком немецкое пианино, на котором играли дети. И навсегда остались «немецкая» привычка к аккуратности во всем, да рис в солонке.
С Бариновыми и Крузиными обменивались поздравительными открытками к праздникам. Встречались редко, если у них случались командировки в столицу; пару раз проезжали через Москву на отдых – вот и всё.
Анна так и не проговорилась мужу о доносе. Однажды, уже после его смерти, она поведала эту историю, что называется, в педагогических целях, взрослой дочери, с которой жила в маленькой, но отдельной хрущобе. Времена, правда, наступили другие, но она все-таки решила рассказать. Мало ли…
Когда Анна умерла, пережив Павла всего на три года, ее взрослые дети сообщили об этом печальном событии всем, кто знал Анну в молодости. Написали в Ленинград Бариновым. И в Казань – Крузиным.
Алексей Онуфриевич Баринов позвонил по телефону, посо-болезновал. Сказал, что и сам он, и Валентина Ивановна много болеют. Неловко пошутил: они с Валей уже готовы к свиданию с Павлушей и Аннушкой. В конце разговора его голос задрожал; Валентина Ивановна вообще не смогла произнести ни слова – она плакала.
А из Казани спустя месяца два пришло длинное письмо, написанное скачущим почерком. Краткое содержание письма таково.
Людмила Георгиевна Крузина соболезнует, но ее положение – отчаянное, ей не с кем поделиться своими бедами, не с кем посоветоваться, вот и Аня – умерла.
Со своим старшим сыном Крузины давно утратили взаимопонимание, он шокировал их своими сомнительными связями, которые бросали тень на всю семью.
А ведь Владимир Иванович – доктор философских наук, профессор университета, ждал тогда назначения на должность проректора; она сама – Людмила Георгиевна – заслуженный учитель республики, у нее ученики! Поэтому они вовсе перестали общаться со своим старшим сыном и его ужасной женой.
Младшего, Димочку, талантливого и успешного, студента третьего курса университета, комсомольца и отличника, направили на стажировку за границу, в ГДР; он там пропал. Из компетентных органов Крузины узнали, что Дима познакомился с профессором из Западной Германии, убедил немца в том, что Димины родители – алкоголики, издевались над ним и их лишили родительских прав, что сам Дима воспитывался в детском доме, что в Союзе он якобы бедствует и мечтает жить в свободной Германии. В общем, Дима теперь – где-то в ФРГ и какие-либо сношения с родителями прекратил, они не знают его адреса. Крузиных трясут эти самые компетентные органы: шутка ли, член семьи – невозвращенец!
У Владимира Ивановича – удар, его парализовало, сама Людмила Георгиевна не знает, как и зачем жить дальше…
…Анина дочь читала письмо; рука ее потянулась к купленной по талонам пачке «Явы».
Женщина закурила, поймав себя на том, что никогда не сделала бы этого при матери.
Прочитала.
Прочитала еще раз. Отложила листки в сторону.
Что ответить?
Она вспомнила Людмилу Георгиевну и десятилетнего Диму, заглянувших к ним по дороге в санаторий в Минводах: приятная женщина в «джерси» и накрепко приклеенный к ней вежливый мальчик… Надо же!
Какое-то непонятное ей самой чувство медленно подымалось внутри. Анина дочь резко взяла письмо в руки и порвала. Сложила в пепельницу, поднесла зажигалку к обрывкам, но вдруг рассмеялась. «Не в кино», – подумала она и вытряхнула пепельницу в мусорное ведро.
Le muguet de mai
Жил-был Кузя.
Кузя – не имя, а прозвище. Но „прозвище к Кузе прилипло, так его звали практически все. Даже родная мама частенько называла сына Кузей, а себя, соответственно, Кузькиной матерью.
Кузя отзывался на Кузю совершенно спокойно, с юмором.
Кузя – необыкновенно позитивный, не пьющий и не курящий! Самые строгие мамы, только один раз взглянув на Кузю, со спокойным сердцем отпускали с ним подросших дочерей и в театр, и в кино на последний сеанс, и в поход с ночевкой. И мамы, в отличие от дочерей, в Кузе не ошибались.
Еще он был физкультурный и общительный: пробежки рано утром в любую погоду в парке рядом с домом, турник и зарядка, причем не в одиночку, а с максимальным вовлечением в полезное дело соседей-сверстников. И утро встречало его прохладой, и река (в соответствии с утверждением советского поэта) – ветром, а не водой[1]1
«Нас утро встречает прохладой, // Нас ветром встречает река. // Кудрявая, что ж ты не рада // Веселому пенью гудка?» («Песня о встречном» из кинофильма «Встречный». Слова Бориса Корнилова, музыка Дмитрия Шостаковича).
[Закрыть]. Вместе со всеми кудрявыми и некудрявыми, которых Кузя своим пением смог разбудить на заре.
Кузя, как любой уважающий себя молодой человек тех времен, умел извлекать звуки из гитары, любил это дело и делал его радостно. В Кузином исполнении незабвенное: «Я вас люблю, мои дожди, мои тяжелые, осенние…»[2]2
«Я вас люблю, мои дожди» (автор-исполнитель Вадим Егоров).
[Закрыть], – вызывало скорее желание маршировать, нежели печалиться; такой уж Кузя обладал исключительной мажорностью. Мажорностью не в смысле мальчик-мажор, а в смысле до-мажор.
Всегда с друзьями и подругами, всегда – в гуще событий; ходил, посещал, навещал, смотрел и т. д., и т. п.
Но девушки у него не было.
Сей досадный пробел решила восполнить Кузина мать, которая высмотрела рядом, практически под боком, комсомолку, студентку, отличницу и красавицу, просто Варлей номер два[3]3
Наталья Варлей – актриса, сыгравшая главную роль в комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».
[Закрыть].
Мама у Кузи – энергичная и целеустремленная; знакомство с родителями отличницы, а потом и самой красавицей, Кузькина мама в долгий ящик откладывать не стала.
Девушка ей понравилась. Во-первых, хорошим воспитанием, наличие которого мама Кузи установила при личном контакте. Во-вторых, умением готовить и шить, о чем свидетельствовали собранные оперативные данные. В-третьих, художественными способностями: студентка неплохо рисовала и пела. (На три голоса с матерью и сестрой «Подари мне платок» – заслушаешься!) В-четвертых, умом… Впрочем, положительные качества комсомолки не исчерпывались перечисленными.
Кузькина мама не сомневалась, что первый и второй пункты из списка сына пока не сильно заинтересуют, а вот следующие два – заинтересуют наверняка. Короче, в один прекрасный вечер Кузя, начищенный и наглаженный, снабженный мамиными инструкциями и двумя дефицитными[4]4
Дефицитность – одна из сущностных характеристик социалистической экономики периода развитого застоя. В дефиците могли быть самые различные «товары народного потребления»; дефицитными были и билеты в популярные театры.
[Закрыть] билетами в театр, позвонил в указанную ему дверь.
На следующий день Кузя звонил в ту дверь уже утром, приглашал красавицу на утреннюю зарядку. В завершение дня состоялось музицирование в дружеской компании: гитары и песни – как же без них?
Гуляния, спевки под гитару, разные совместные культурные мероприятия…
Но год для Кузи и отличницы был не простой, а преддипломный. Поэтому события развивались с поправкой на производственную практику, выпускные госэкзамены и защиту диплома.
Как известно, сказка сказывается скоро, а дело делается совсем не так. Не удивительно, что объяснение между Кузей и его подругой всё откладывалось и откладывалось.
Но – случилось.
Что сказал Кузя, что она ответила – осталось между ними. Однако доподлинно известно: примерно через полгода она вышла замуж.
Не за Кузю.
А Кузя продолжал дружить с красавицей. И с мужем ее дружил.
В Кузиной жизни началась пятилетка чужих свадеб. Его друзья, его знакомые и его собственная младшая сестра занялись активным строительством семейного счастья: женились, выходили замуж, разводились, снова женились, рожали детей, начинали копить деньги на байдарки, магнитофоны, телевизоры, мебель…
Кузя (по долгу дружбы, так сказать) побывал у многих из них свидетелем на свадьбах. Но сам – нет, не женился. Тем более что семейная жизнь друзей наглядно показывала: прежней свободы уже не видать. Ни театров тебе, ни посиделок с песнями, разве что по праздникам. В общем, в холостой жизни тоже есть определенные плюсы.
Кузя не терял времени зря – поступил в аспирантуру и в положенный срок защитил кандидатскую диссертацию. По экономике социалистической промышленности. Кузины родители тоже без дела не сидели: они поднапряглись (средствами, связями) и построили для Кузи однокомнатную кооперативную квартиру.
И превратился Кузя по всем позднесоветским меркам в очень, очень и очень завидного жениха. Женатые друзья и замужние подруги Кузи, не сговариваясь, подыскивали ему невест. Но добиться успеха на этом поприще никому из них не удалось.
Кузя влюбился без всякого дружеского участия по месту работы в научно-исследовательском институте экономики народного хозяйства в одну умную стройную замужнюю натуральную блондинку.
Он быстро оценил свои шансы. Его избранница, окруженная повышенным мужским вниманием, относилась к этому доброжелательно, но с холодноватым спокойствием, и вольностей в общении с собой не допускала: она не собиралась менять имеющееся у нее семейное положение ни на какое другое. Звали ее, ну, допустим, Ермилова. (Она предпочитала, чтобы к ней обращались именно по фамилии.)
И тут Кузю потянуло на подвиги.
Он приносил Ермиловой цветы, советские красные гвоздики – она терпеть их не могла; из цветов она больше всего любила 1е muguetde mai. Это по-французски. Что означает в переводе на русский язык «ландыш». Вообще, Ермилова когда-то в детстве жила в Париже и обожала всё французское. Всякие там Годары-Ренуары, Сартры-Прусты-Кокто и «Tombe la neige»[5]5
«Tombe la neige» (франц.): «Падает снег» – песня бельгийского автора-исполнителя Сальваторе Адамо.
[Закрыть] — обязательно.
Она даже посещала МИДовские курсы французского языка. Кузе казалось, что она сама пахнет ландышем, хотя с обонянием у него с детства были определенные проблемы.
При первом же представившемся случае Кузя попытался увлечь ее песнями Окуджавы и Никитина – Ермилова не любила громкой самодеятельной музыки; у нее от громкой музыки, особенно на субботниках, болела голова. А из современных советских композиторов она выше других ставила Шнитке и Канчели.
Кузя тратил кучу времени на то, чтобы занимать для нее с подружками очередь на престижные выставки и вернисажи – Ермилова относилась к Кузиным подвигам просто: разве не так должен вести себя каждый интеллигентный человек?
Они читали разные книги, смотрели разные фильмы; одни и те же события оценивались ими чаще всего противоположно. Казалось, что они говорили на разных языках и жили в разных странах.
Всё было против Кузи. В том числе и наличие у Ермиловой мужа и дочери.
Но он был влюблен, настойчив и неутомим.
Кузя думал-думал и придумал, каким образом завоевать внимание Ермиловой. А может – и нечто большее.
Кузя затеял грандиозное дело: решил, что вырастит le muguet de mai ко дню рождения Ермиловой в феврале. И подарит ей!
Воплощая свой проект в жизнь, упорный Кузя месяца два или три изучал всё обнаруженное им в Ленинской библиотеке[6]6
Ныне – Российская государственная библиотека.
[Закрыть] по поводу того, как растут, размножаются и цветут ландыши.
Оказалось, что его затея с досрочной выгонкой ландышей – не совсем безнадежна. Главное, найти корневища ландыша с почками. Еще Кузя выяснил: после того как почка превратится в цветок и ландыш отцветет, эту почку уже нельзя будет использовать для повторной выгонки.
Вооружившись необходимыми знаниями, Кузя организовал в своей однокомнатной квартире настоящую опытную оранжерею и заполнил ее бесчисленными цветочными горшками, в которые высаживались бесчисленные корневища ландышей, выкопанные по осени в лесу и привезенные в рюкзаке в Москву. Он четыре месяца экспериментировал с освещением, поливом, температурой…
Наверное, Кузя, рисовал себе картину: ландыш зацветет накануне ее дня рождения…
Будет идти белый серебристый снег, Кузя укутает белый майский цветок и поедет к Ермиловой на Киевскую…
Поднимется по лестнице, по ходу раскрывая горшок с ландышем, и позвонит в ее дверь…
Она откроет, он отдаст ей цветок и скажет: «С днем рождения!» И тогда…
Кузино упорство было вознаграждено. Ландыш сдался и зацвел не в мае, как заведено в природе, а к концу февраля, как этого жаждал Кузя.
Наступил тот решающий день, и все было именно так, как рисовалось в Кузиных мечтах: немного морозно, падал снег. Кузя добрался до Киевской, быстро преодолел расстояние от метро до ее дома, вошел в подъезд. Поднимаясь по лестнице, аккуратно развернул горшок с ландышем. Выдохнул с облегчением: хрупкий цветок выдержал дорогу. Кузя приблизился к той самой двери, собрался с духом и позвонил.
Ответом ему была тишина.
Кузя позвонил еще раз и прислушался. За дверями сначала послышалось какое-то шуршание, потом щелкнул дверной замок.
Перед ним стоял незнакомый ему невысокий худощавый брюнет в очках, за спиной которого пряталась светловолосая девочка лет шести – семи.
Кузя растерялся. Он, как шестиклассник, едва смог промямлить:
– А Люду можно?
– Да ее дома нет! Всё учится! Мы и сами ее ждем, – весело сказал брюнет, поглядывая на ребенка, а не на Кузю.
Кузя, опознавший в брюнете мужа, сунул ему в руки горшок с ландышем, что-то пробормотал, типа: «Вот передайте ей, пожалуйста», и бросился вниз по ступенькам лестницы.
Кузя убегал от серого холодного дома на Кутузовском проспекте, как будто совершал побег из заключения и хотел оторваться от погони. Он не обращал внимания на прохожих, которым приходилось сторониться, чтобы пропустить бегущего молодого человека.
Если бы Кузя бежал чуть медленнее, если бы крушение всех его надежд не застилало его глаза плотной пеленой, он заметил бы то, чего не заметить было невозможно.
На краю тротуара стояла пара: мужчина и женщина. Они прощались: стояли, смотрели друг на друга, держали друг друга за руки и молчали. Так прощаются те, кто не уверен в следующей встрече. Или любовники – перед возвращением к своим мужьям-женам.
Женщина увидела бегущего Кузю, вздрогнула и резко повернулась к нему спиной.
– Мне пора, – тихо выдохнула Ермилова и медленно высвободила свою руку.
Последний поцелуй, и пара распалась, как молекула на атомы, каждый из них полетел в свою сторону…
Кузя постепенно перешел с бега на быстрый шаг. Взгляд его накрепко прилип к падающему большими хлопьями белому снегу, стремительно превращавшемуся в грязное месиво под ногами идущих ему навстречу людей. Кузя миновал вход в метро, проследовал дальше по вечерним улицам зимней Москвы куда-то в направлении Царицына…
На следующий день Кузя и Ермилова встретились на работе, и Людмила сдержанно поблагодарила его за необычный подарок. В ее голубых глазах застыл вопрос, который губы ее не выговорили.
Кузя ответил Ермиловой тоже сдержанно: мол, ничего особенного, просто цветок, обыкновенный ландыш, подумаешь… Никакого вопроса он не угадал.
В начале марта Кузя подхватил на редкость злую инфекцию и, пожалуй, в первый раз в жизни оформил больничный лист. Вернулся на работу недели через две: здоровый телом и оптимистичный.
Всё у Кузи, вроде бы, наладилось: работал, общался с друзьями и коллегами, ходил в пешие и байдарочные походы. И успешно уворачивался от непрекращающихся попыток познакомить его с новой претенденткой на его свободу, зарплату и отдельную квартиру. Но все-таки… потух он, что ли…
Потом Кузя разменял свой четвертый десяток и всерьез хотел зажать празднование, тем более что смолоду исповедовал здоровый и трезвый образ жизни. Однако коллектив воспротивился, и в порядке компромисса в отделе состоялось чаепитие с тортом. Торт Кузя купил вафельный, пралине; процарапал на поверхности торта надпись: «30 лет. Жил-был я», – и засыпал процарапанные буквы и цифры мелкой солью.
Коллеги не обратили на надпись чем-то белым никакого внимания. Пили грузинский чай, хрустели вафлями, удивлялись их вкусу, но, как люди интеллигентные, вопросов не задавали, а поздравляли Кузю с круглой датой.
И только крайне непосредственный завсектором Юр Юрыч, завершив свое цветистое поздравление и вкусив торта, тут же спросил:
– А что это у торта вкус какой-то соленый?
Кузя всё честно рассказал: и про надпись, и про соль. Почему-то в комнате стало тихо. Юр Юрыч хотел грубо выругаться, но сдержался. Выругался завсектором позже, когда Кузя уже ушел.
А Кузя вскоре уволился по собственному желанию, оставив должность старшего научного сотрудника, которую он занимал, вакантной…
Долго ли, коротко ли, но Кузины друзья постепенно смирились с его холостячеством, и шутки по этому поводу отпускали всё реже и реже.
Тогда-то Кузя и познакомил их с умной стройной натуральной блондинкой. Блондинка сходила раньше замуж, но к моменту знакомства с Кузей уже успела развестись. Одним словом, у Кузи случился новый служебный роман.
Блондинку звали Людмилой; кроме того, на одной из своих школьных фотографий новая Кузина любовь разительно походила на Ермилову. Но от Ермиловой ее категорически отличало то, что она не знала французского языка и согласилась выйти за Кузю замуж.
Так всё у Кузи и срослось…
Кузя и его жена отпраздновали тридцатилетие свадьбы. У них взрослая дочь. Замужем.
Кузе уже стукнуло 65. Он немного поседел, немного пополнел, но всё еще громко и оптимистично поет под гитару песни прежних лет на редких посиделках с друзьями. До сих пор Кузя свято верит в то, что хорошую книгу найти труднее, чем встретить хорошего человека.
Правда, его давно не называют Кузей – только старинные приятели; да и те – за глаза.
Кузина дочка родила девочку, долгожданную Кузину внучку. Маленькую, беленькую и хрупкую…
Настоящий le muguet de mai.
Единственные дни
На протяженье многих зим
Я помню дни солнцеворота,
И каждый был неповторим
И повторялся вновь без счета.
И целая их череда
Составилась мало-помалу —
Тех дней единственных, когда
Нам кажется, что время стало…
Б. Пастернак.Единственные дни
В трудах, в воздержании и в молитве Филиппов пост пролетел, как всегда, быстро. Зима в полной силе, снег да мороз.
Иван Николаевич, проверяя под конец года свои траты и барыши, вполне удостоверился в значительном превышении последних. Что ж, поработали на совесть, надежно растет его дело и его состояние. Семейство здравствует. Стало быть, можно и о праздниках подумать.
Подарки семье, артельщикам, работникам – это понятно; и Богу угодно, и для дела хорошо. Младшего сына, Николашку, надо бы на Екатерингофский железнодорожный вокзал свозить, показать ему убранную электрическими гирляндами ель; ее там обычно выставляют к Рождеству. Детвору можно в кондитерскую к Пфейферу свозить, а жену – по магазинам. Жаль, Пассаж на перестройку закрыт; хотя чего ж жалеть-то? Там подряд намечается весьма выгодный…
Проглядывая газеты, Иван Николаевич не без интереса читал заметки про то, как в Европе встречают новый год и новый век.
И появилось у Ивана Николаевича желание, которое он решил всенепременно осуществить.
В фотографическое ателье г-на Андерсона на угол Гороховой и Большой Садовой Иван Николаевич прибыл с супругой своей, Анной Федоровной, и со всем семейством загодя оговоренного срока: он привык все делать основательно.
Их ждали. Его самого с женой усадили в полукресла в центре композиции; рядом стояли приготовленные венские стулья и даже пара низеньких скамеек для детей. Высокий, но неуродившийся телом фотограф прыгал вокруг заказчиков, натурально, как кузнечик, расставляя и рассаживая многочисленную родню Ивана Николаевича.
У Ивана Николаевича большая семья. Сыновей у него четверо: Луко, Антоний, Михайло и Николашка. Еще дочка у него есть, Лизавета, справная, за хорошего человека выдана. Бог только ей деток пока не дает… Зато старшие сыновья, Луко и Антоний, оженившись, уже пятерых внучат ему народили.
Иван Николаевич в дела фотографические не вмешивался: у каждого своя работа. Однако он решительно поставил по правую руку рядом с собою старшего своего сына Луку, слева от Анны Федоровны – младшего, Николашку.
Да, у Ивана Николаевича во всем порядок и прибыток: и в семье, и в промысле. И удача его не чуралась, спору нет, но более удачи помогли ему упорство, ум и спорые на любое дело руки. Потрудился он на своем веку в избытке, никакой работой не брезговал, за все Бога славил и благодарил!
И было за что: вышел Ивашко из подлого сословья; дед крепостным родился – крепостным и помер, а Ивашко вот в столице укоренился, артель у него строительная, кой-какая торговлишка.
Если Бог даст, то году к двенадцатому и дом собственный можно будет поставить, чтоб внуки его, Ивана Николаевича, столичными обывателями сделались. Может, вырастут – в лекари выйдут, а может – и в адвокаты.
Вот Николашка подрастет – и отправит его Иван Николаевич учиться на инженера. Для фамилии большая польза может получиться!
Вспомнил Иван Николаевич, как его отец, Николай Иванович, по которому Николашку-то и нарекли, вписал его, Ивашку, в свой паспорт и на новенького привез в Санкт-Петербург. Случилось это точно уж после царского манифеста о даровании свободы. Ивашкина мамушка, собирая его, плакала безутешно. Когда запрягли коней, а все сестры высыпали из сеней на крыльцо, она вышла из избы их провожать. Потом все шла, шла за санями до околицы, все крестила сына: чуяла она, что и сына будет видеть только изредка.
И надо ж тому случиться, чтобы в тот год попали они с тятей в страшный пожар. Все полыхало вокруг – ух! Пламя все небо застило, жар воздух плавил. И здесь, на Садовой, горело, и в Троицком переулке, и в Щербакове. Тятина со товарищами лавка дотла сгорела. Слухи поползли: как же без слухов-то? Без слухов у нас нипочем нельзя! Баяли: поджоги да нигилисты…
Расследовали – разыскивали, даже с ним, малым, околоточный при тяте беседу вел: не углядело ли дите чего эдакого? А опосля приговорили, что-де на складах ветошь смоляная да пакля полыхнули. Вот вам и все нигилисты-поджигатели!
И никто, вроде, не виноват, а долги отдавать надо, товару погорело – видимо-невидимо. Тяжко тогда пришлось, не выскажешь…
Тятя пристал к артели земляков и принялся с ними в городе дома строить. Ивашко же – сначала на побегушках, потом на подхвате, потом помощником; все ремесло изнутри изучил. Был он не по годам любознателен и сметлив, сам собою выучился грамоте и приохотился читать; читал все подряд: и псалтирь, и газетки вчерашние, и вывески.
И Господь не оставил! Прознал Ивашко про ссудосберегательное товарищество, составленное в Ветлужском уезде местными мужиками, уговорами уговорил тятю Николая Ивановича туда поехать. Приехали они в село Рождественское, побеседовали с добрыми людьми, расспросили их, как у них получилось деньжатами сложиться, да как промысел начать.
Вот они с тятей так же и начали.
И пошло дело!
Собрался капиталец небольшой, артель образовалась знатная: и дома на заказ строили от фундамента до крыши, а потом и вовсе – церкви каменные затеяли ставить. И работы достаточно, и денег, а более всего – уважения.
Тут, конечно, по молодости да по глупости случился грех: загулял Ивашко. Очень уж ему хотелось не только труда да пота в жизни попробовать! Хоть малость самую…
В то время тятя еще в полной силе пребывал, неразумия такого не потерпел и быстро оженил Ивашку на дочери своего товарища Федора; девка в деревне росла, через два двора от их избы. Глазастая и задастая, она спервоначалу не сильно глянулась высокому, статному и пригожему лицом Ивашке, но с тятей, который сказал, что такие как раз для семейной жизни самые справные, он спорить не стал. Обвенчали, сыграли свадьбу. Был Ивашко – мальчишко сам по себе, да топерича вышел весь. Откедова взялся-появился Иван, свет Николаевич, любезный муж-господин Анны Феодоровны?
Свадьбу на Красную горку играли, почитай, всей деревней: кто не родня – так свояк, кто не свояк – так друг-товарищ. Подружки невесты жалобно и высоко выводили: «Она красно красовалася, она баско наряжалася у родимого батюшки, у родимой матушки…» Невеста плакала взаправду. Ивашкины сестры, лукаво переглядываясь, супротивно затянули: «Тятя милой, тятя милой, не жоните брата силой…»
Иван Николаевич с удовольствием посмотрел на супругу свою, дородную Анну Федоровну, и подумал: «И стерпелось, и слюбилось! Вон и сами-то детей нарожали, слава Богу, почти все живы… И внучата-онучата…»
Он чувствовал себя крепким стволом большого дерева, уходящего многими своими ветвями прямо небо, и ветвей этих – не сосчитать!
А в родной земле покойно лежат до Страшного суда его, Ивана Николаевича, корни: тятя Николай с мамушкой, дед Иван и все иные Сомыловы…
Про фамилию дедушко Ивашко внуку своему Ивашке рассказывал так: «Появился в сельце Жилино, что рядом с нашей деревенькой, настоятель храма, батюшка. Шибко не любил он, когда робятню нарекали Поспелком да Первушкой, Жданком да Зуем. Он-то нарекал младенчиков строго по святцам: Агапит, Евфимий, Малахия, Трифон… Вот и назвал он прадедку-то нашего Самуилом, по праотцам. Только ни сам честной отче, ни вся прадедова родня нипочем не могла выговорить такое мудреное имечко. Вот и пошло: Сомыл да Сомылко… А дед-то ужо Сомылов был».
Наконец фотографу удалось всех расставить вокруг главы семейства и все замерли: все семейство Сомыловых внимательно всматривалось в фотографическую камеру и в будущий двадцатый век.
Зимой мальчишки ради смеху делали обманки: выроют ямку, набросают чего-нибудь сверху, припорошат снегом, следы заметут, а сами схоронятся за сугробами и ждут, чтобы подсмотреть: кто, да как в эту обманку попадет.
Николай Иванович, пятидесяти семи лет отроду, аккурат в такую обманку и угодил. И, как на грех, попал ногой, пораненной еще в 15-м году. Теперь он сидел на лавке рядом с печкой, растирал сильно ушибленную ногу и сердился, поглядывая на жену, Александру Михайловну, и старших девок, прибирающих после рождественского разговения.
День, хоть и праздничный, а с самого начала не задался.
Николай с Александрой давно уж рассчитали, что Рождество в этом году выпадет на воскресенье и что можно будет сходить в храм на Праздник.
На Меланжевом работали помногу, по две смены кряду иногда, но вот уже больше года воскресенья частенько бывали выходными. Работникам из «пожилых» советская власть впрямую не запрещала посещать церковь, особенно в последнее время. Ограничивались общественным осуждением несознательного элемента активными партийцами на профсоюзных собраниях. Да и пусть себе лают!
Вот приготовились, как прежде бывало, на Рождественскую обедню, взяли с собой маленькую внучку Галю – причастить; старших-то нипочем нельзя, комсомолия загрызет…
Галя, малая да глупая, ну, кричать:
– Мы идем в цирк! В цирк!
Дед ей:
– Цыц, притыка! Не в цирк, а в церковь!
А она не унимается, голосит: «В цирк! В цирк!», да еще и приплясывает. Дед не сильно, но резко ткнул ее кулаком в лоб, чтобы она в разум вошла да и чтобы прочая ребятня хоть чуток страх Божий поимела.
После службы Саша, оставив Галю на попечение деда, заспешила к одной своей товарке. Та пообещала достать где-то, в одной ей знаемом месте, два ржаных покрытых сахарной глазурью пряника – настоящие рождественские козули. Александра давно задумала порадовать ими внучек.
Повел дед Николай Галю домой. На полпути повстречался им земляк и тезка, Николай Петрович. Они поздравили друг друга тишком с Праздником, негромко обменялись:
– А что, Николай Иванович, правда ль, что в нонешном году Пасха-то на Георгия падает?
– Правда, Николай Петрович, чистая правда!
И оба многозначительно посмотрели друг на друга.
Потом Николай Петрович сказал, что получил от своего сына грамотку с фронта, и зазвал Николая Ивановича письмо это почитать: он знал, что Сомылов – грамотей, читает бойко, не по складам. Но Галю дедка в дом Николая Петровича с собой не взял: мало ли какие там вести с фронта-то; он велел ей стоять на улице и ждать его. А она, окаянница, не послушалась, удрала.
Когда Николай вышел на улицу, то увидел: внучки и след простыл. У него сердце оборвалось…
Пропала! Еще одна девка пропала! Беда!
Николай всю округу обежал, разыскивая эту шельму. Тогда и попал он в обманку-то. Мальчишек он, конечно, не догнал: и стар, и ногу повредил сильно.
Вернувшись в конце концов домой, Николай Иванович еще в дверях закричал во весь голос: «Эта сволочь – тут?»
Александра Михайловна молча заслонила собою внучку.
– Ты, Александра, совсем потаковщицей заделалась! Попосле хватишься! – в сердцах крикнул он жене.
…Да что там день, вся жизнь у Николая и Александры пошла не так! Прожили они вместе без трех годков сорок лет, а сколько из них Сашенька не плакала? Разве что в самые первые и сладкие их годочки! Николай винил во всем себя, хотя умом понимал: не в его человечьих силах было уберечь жену свою ни от смерти детей, ни от войны, ни от нужды, ни от беззакония вселенского…
В 15-м с фронта по ранению вернулся – сразу в деревеньку свою, к Саше, к Вере маленькой. Он уже нутром почувствовал, что из большого города утекать надо, что только у земли можно прокормиться и выжить как-то. А тятя и Лука дело да дом питерский пожалели. Остались. Там и упокоились. Слава богу, Михайло с Антоном уцелели!
Работы Николай никакой не боялся, все жилы из себя вытягивал. Начали они с Александрой обживаться хозяйством, начали детей родить. Да только что толку-то, если власть решила хозяина земли лишить, да со свету сжить?
В канун Рождества в начале 29-го года вернулся он из Костромы в свою деревню не с подарками жене и детишкам, а с плохими вестями: мужиков вовсю агитируют в колхозы вступать, кто покрепче – кулаками объявляют, мироедами. Значит, и к ним в деревню придут, видит Бог – придут! Все разворуют, да по миру пустят. А может, вообще жизни лишат.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































