Текст книги "Лагерные этюды. Повести, рассказы"
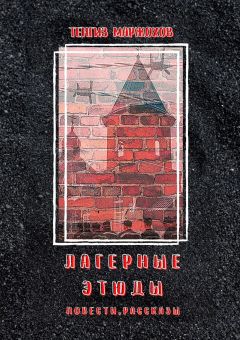
Автор книги: Тенгиз Маржохов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Воробской мужик
Курбан – звали сухопарого мужика, пришедшего к нам в палату попросить чаю и познакомиться. Держался он просто и уважительно, бодрясь и храбрясь. Отвечал заученной скороговоркой. На вопрос – какого образа жизни придерживается, ответил:
– Воробской мужик!
– Воровской?
– Да. Воробской.
– Это как понять? – весело переглянулась молодежь.
– Ну… мужик, но не просто мужик, а… ну…
– Короче, придерживаешься воровских традиций.
– Да. Да.
– Откуда приехал?
– С Бомбея, – покривился он.
– С какого Бомбея?!
Кстати, Курбан очень даже походил на индуса или пакистанского беженца. Характерная копченость под действием холодно-умеренного климата лишь слегка поблекла, но не вытравилась совсем.
– С Барисаглебска, – уточнил он и поискал глазами местных.
– Как там положение?
Курбан сделал жалобное лицо, при этом нервно мял завернутую в газету заварку чая, полученную с общяка. От чифира все равно не отказался, пил смачно прихлебывая. Было видно, больше всего на свете он не хочет обратно в Борисоглебск, и лишь присутствие местных, мешает ему прямо высказаться об этом лагере.
– Откуда сам?
– С Таджикистана.
– Таджик?
– Да, – покивал Курбан утвердительно, не понимая – хорошо это или плохо.
Нужда заставляла Курбана постоянно наведываться в котловую палату за чаем и куревом. Как бедолага, он ничем не брезговал. Хотя с мужиками пытался поставить себя на уровне. Проявлял принципиальность, иногда гордость.
С братвой был вежлив, острые углы обходил. Как старый марабу, блуждающий по лагерной саванне, понимал, куда можно сунуть клюв, а куда не стоит. Короче говоря, был тот еще пройдоха, насколько позволял интеллект фарса и социалистическо-азиатский опыт.
От администрации мог стерпеть многое. Но, бывало, пускался во все тяжкие и сиживал в штрафном изоляторе. Изолятор ему даже нравился – просить насущное не требовалось – крыша хорошо грелась. Попавшие в камеру после Курбана, хвалили его за поддерживаемую чистоту и порядок.
Во мне Курбан нашел родственную единоверную душу, и большую советскую энциклопедию. Сталкиваясь с неразрешимым вопросом, проблемой, приходил ко мне.
– Салам алейукум рахматуло ибн ази… – приветствовал на азиатский манер. – Так дела?
Курбан не мог понять разницу между «как» и «так», и лепил когда как. Если при разговоре это не замечалось, то когда он писал малявы, а бывало и такое, буква «т», стоя не на своем месте, кренилась, как старый пляжный гриб на сухом песке.
Срок у Курбана был семь лет. За что сидит – не распространялся, говорил коротко: «За барана». Никто в душу ему не лез. Чем мог заинтересовать невзрачный таджик без поддержки с воли?
– За какого барана семь лет дают? За курдючного? Или золоторунного? – подкалывал я его, понимая – темнит «воробской мужик».
Много позже, уже в лагере, Курбан рассказал мне, что приехал в Воронежскую область, поселок Семилуки на заработки. Дома у него осталась жена и дети. Ведь кормить семью как-то надо. А на родине гражданская война: Вовчики и Юрчики власть не поделят. Сеют свинец из оставленного после развала Союза оружия, собирают урожай мертвяков. И как простому человеку жить?
Сколотил Курбан какую-никакую строительную бригаду. Ни шатко, ни валко, пошло, вроде бы, дело: меси цемент, клади кирпичи… А тут какой-то семилукский авторитет нарисовался.
При этих словах Курбан понижал голос и озирался.
Начал приставать, угрожать, чтобы платил, мол, ты на нашей земле и все такое. В очередной визит местного рэкетира, они снова не пришли к консенсусу. Блатные угрозы не возымели должного воздействия на пуганного таджикского прораба. Тогда авторитет схватил вилку со стола и воткнул Курбану в нос.
Пытаясь остановить кровь над раковиной, Курбан приметил в углу топор.
Сорок два удара зафиксировал криминалист на трупе потерпевшего.
Подавшись в бега, Курбан осел в приморской Одессе. Постепенно жемчужина у моря отогрела скованную страхом душу. Цветами акации зацвела новая жизнь. Курбан женился и народил двух дочек уже от дородной хохлушки. Он ласково называл жену Аксаначка, и скучал больше по одесской семье. Дома, в Таджикистане его похоронили и даже не вспоминали.
– Сколько пробегал?
– Семь лет, – говорил гордо Курбан. – Одевался в пиджак и галструк…
– Галстук?
– Да. Галструк. Представлялся Насрединовым Фахредином Мухрединовичем, или наоборот… Документов не было. Участковый меня спалил и сдал. А сначала мы как приятели были. Его мамочку еба… Потом по этапу в Воронежскую область привезли и осудили.
– Еще нормально дали.
– Да, – соглашался Курбан, хотя, по его мнению, он заслуживал орден. – Мало дали, потому что брат убитого претензий не имел. Сказал: «Знаю, кем был мой брат, и чем занимался».
Курбан частенько навещал меня. Когда его сажали, если получалось до изолятора, после обязательно и первым делом шел ко мне. Рассказывал о положении под крышей: какая смена козлячая, кто из мусоров падла, а кто нормальный; какие рамсы между собой, и кто прав, а кто нет (на его воробско-мужицкий взгляд). Поделившись, прояснив для себя тонкости арестантской жизни, прихватив гостинцы, со спокойной душой удалялся.
Вообще, общался со мной как с братом. И заодно поднимал себе рейтинг.
– Эти… видят, что я с тобой общаюсь, и не лезут. А так давно сожрали бы, – говорил откровенно.
Иногда, прогуливаясь, когда бывало многолюдно в локалке, он умышленно заводил разговор на серьезные темы.
– Пусть слышат, что мы с тобой не вата катаем, – говорил шепотом, затем в голос. – Я на многих крытых бывал: в Ростове, Новосибирске, Одессе, Караул-Базаре.
Называл, в том числе города, где не было крытых. Я тихо спрашивал:
– Ты имеешь виду крытые рынки?
Курбан ломался пополам, хватался за живот, чтобы не надорваться от смеха, и отбегал. Высмеявшись, подстраивался под шаг. Делал серьезное лицо и громко говорил:
– Я честно рамсил на крытых.
– Да… Не повышал и не понижал цену.
И Курбан в приступе смеха снова отбегал от меня.
– Да! Да! Честно рамсил! Не повышал! Не понижал… Ха-ха-ха! – захлебывался он. – Ты один меня понимаешь.
Я его понимал и поддерживал, как мог.
Как-то подарил Курбану добротную телогрейку. Он подшил к ней кучу внутренних карманов и все свое носил с собой, как улитка. Телогрейка служила ему: одеялом, плащ-палаткой, бронежилетом, и он всегда был готов, как на построение и в столовую, так в изолятор и ПКТ, и даже на этап. Еще она, опять же, повышала рейтинг Курбана. Ведь в лагере просто так ничего не дарят. При случае это вворачивалось: «Тенгиз подогнал».
Так Курбан коротал срок. Ничего его не брало. Ни мороз, ни жара. Ни блатные, ни мусора. Ни изолятор, ни ПКТ. Ни холера, ни тоска. Как блуждающий по лагерной саванне старый марабу, он точно знал, куда можно сунуть клюв, а куда нет.
Когда разменял последний год, повезли его в больницу.
Курбан похудел, почернел. В нем поселился какой-то страх. Ему пообещали актировку по состоянию здоровья. Он стал поддерживать этот имидж и чахнуть. Под комиссию Курбан подошел в нужной кондиции, но его не освободили, отказали, в силу того, что он нарушитель режима содержания.
Курбан поник. То ли больше переживал из-за отказа, то ли от приближающейся неминуемой свободы.
Как-то вечером, перед отбоем, Курбан подсел ко мне.
– Тенгиз, я умираю.
– Не гони… ты до семидесяти лет проживешь. Внуков своих увидишь. Просто ты гонишь перед свободой.
Курбан тяжело дышал, лицо застыло в мученической гримасе. Его потухшие глаза смотрели так, будто от меня зависела теперь его судьба. Он протянул ладонь.
– Посмотри.
Я взял его смуглую, чуть болезненно потную ладонь. Разгладил, как скомканный лист бумаги. Мельчайшие капельки, как капли росы, сидели по стеблю линии жизни, ума и сердца. Линия жизни, когда-то уверенно заходившая за холм Венеры, поблекла. Остался лишь еле заметный след.
– Ты меня переживешь, – бросил я ладонь. – Не падай духом. Сколько осталось?
– Семь месяцев, – дрожащим голосом ответил он.
– Совсем чуть-чуть. К свободе все подганивают. Ты мне это брось.
Я дал Курбану чай, карамель и отправил спать.
Утром меня разбудили голоса сопалатников. Они сидели за пустой кружкой чифира, курили и вполголоса переговаривались: «Зверек крякнул. Какой? Да этот… таджик… Курбан что ли?»
Я присел на кровать. Протер глаза.
– Че базарите?
Они замолчали.
Весеннее солнце утренними лучами простреливало палату, золотило частички пыли, серебрило табачное курение.
В коридоре я прислонился к решке и посмотрел в щель. Напротив дежурки лежали носилки, покрытые белой простыней. Ничего не возвышалось над саваном, кроме бугорка ступней и носа.
Горбатый нос со шрамом, на грани восточного благородства и простонародного уродства, был как цифра «семь». Семь лет бегов. Семь лет тюрьмы. Семь месяцев до свободы…
Я зашел в палату к Курбану, как в келью. Тихо, еле слышно играло радио. Пахло стариками и порядком. На подоконнике по соседству с пророщенным луком стояли иконки. Я присел на заправленную шконку Курбана – синее казенное одеяло, белая наволочка. Напротив сидел пожилой мужик.
– Как умер Курбан? – смотря в одну точку, как бы сам у себя, спросил я.
Мужик вздохнул.
– В пять утра поднялся. Умылся. Помолился. Заварил чифир. И умер.
Полосатик
Полосатик – это не кит, хотя тоже млекопитающее. Так называют на жаргоне тех, кто отбывают наказание на особом режиме. Когда-то, в каторжанские времена, особый режим одевали в полосатую робу, похожую на зебру, и зэки других режимов прозвали их «полосатыми» или «полосатиками». Полосатая роба давно ушла в историю, но понятие осталось. И понятие это хорошо известно каждому зэку. Ни одна душа, сидя на скамье подсудимых, не пожелает получить в довесок полосатый режим – самый суровый в современной исправительной системе. Меньше свиданий, меньше передач. Но это мелочи. С полосатого режима практически невозможно освободиться условно-досрочно (УДО), хотя формально закон предусматривает такую возможность. Для них прозвенит звонок, и прозвенит, как положено, по приговору. Ведь даже всеобщая любимица – амнистия, как недоступная красавица, всегда проходит мимо. И главное, на случай чрезвычайных ситуаций в стране, таких как путчи, перевороты, войны, если общему и строгому режиму усиливают охрану, то полосатый режим, этих Бармалеев, которых не вылечит даже добрый доктор Айболит, пускают в расход. Они подлежат уничтожению как ни на что негодный материал.
Полосатики содержатся отдельно от остального контингента осужденных, содержатся на особом режиме, куда их определяет наш суд, самый гуманный суд в мире. Для них существуют свои клетки и вольеры – тюрьмы и лагеря особого режима. Но, бывает, они попадают в общую массу, как пираньи в аквариум, а попав в аквариум, меняют под себя экосистему.
Так было летом 2000 года, когда «Черный дельфин» – колонию особого режима в Оренбургской области в городе Соль-Илецк перепрофилировали для осужденных к пожизненному заключению. Проще говоря: полосатых, с ограниченным сроком наказания, поменяли на полосатых с билетом в один конец. Жуть.
Просоленный ветер далеких Оренбургских степей донес вести, что пригонят к нам этап полосатиков с «Черного дельфина». К нам – это в лагерь в поселке Кривоборье Воронежской области, в лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ), где не только исправляют, но и лечат (в этом кроется некоторый подвох). Так и есть, пригнали. Правда, появились полосатики не сразу и как-то буднично. Пропустили их через сито межобластной больницы, разбавили, так сказать, в общей массе. Появлялись они по одному – по двое в этапный день, во вторник, и застревали в карантине до пятницы. В пятницу их раскидывали по отрядам, не более одного на локальный сектор, чтобы легче было переварить.
В наш девятый «инвалидный» отряд поднялся, как там говорят, один полосатик. Поднялся, то есть распределили после карантина. Девятый отряд официально инвалидным не числился, просто так назывался среди зэков. И назывался, по-видимому, потому что располагался подальше от вахты, от начальства… в углу между восьмым и десятым отрядами. Был как бы зажат, выдавлен железными щитами восьмого и десятого отряда на предзонник. С крикушатника – вышки, что стояла в жилзоне, он не просматривался, располагался уединено. К тому же от предзонника наш дворик отделяла не обшитая листовым железом решетка. Поэтому в других отрядах были локалки: листовое железо, серый асфальт, кирпичная кладка; видно только небо. А у нас дворик! Посреди дворика клумба. За решеткой зеленеет предзонник. За ним чернеет проборонованная запретка. За ней бетонный забор, отделяющий лагерь от поселка. В углу, где сходятся стороны периметра, шахматной ладьей расположена вышка. На вышке караул. Можно пустить воображаемого человечка – человека в телогрейке по этим запретным полям и проследить последствия. Оказавшись в зеленом предзоннике, на вышке появится часовой. Перебежав на черное поле проборонованной запретки, человек в телогрейке услышит предупредительный выстрел. Подойдя к бетонному забору и предприняв попытку преодолеть его, последует выстрел на поражение. Человек в телогрейке падает. Возвращаем его во дворик.
Зато эти препятствия не мешают взору пускаться в даль. В нашем дворике дышится легче, чем в локалках других отрядов. Близость земли, травы, тополей за забором; вид на бескрайнюю равнину, тонущую в голубизне неба, успокаивает душу арестанта. Посидеть за чифиром во дворике, послушать голубиную воркотню, отвести душу приходили к нам со всего лагеря. Кстати, голуби водились только у нас, только нашим дедам администрация разрешила держать голубей.
Лето 2000 года выдалось жаркое. Лагерь разомлел под солнцем. По лагерю гуляла амнистия и загадывала загадки. Независимо от мастей, всех захлестнула тема амнистии. Горячее темы, после горбачевской амнистии 1987 года, не бывало. По рукам ходила газета и несколько ксерокопий с текстом амнистии. Большая часть населения лагеря не могла разобраться в пунктах, подпунктах и тому подобной мелкой печатной литере, которая стройными типографскими легионами приводила мысли, подзадоренные едким чифиром, в неописуемую чехарду. Потуги полуграмотных арестантов на этом поприще напоминали успехи египтологов в расшифровке символов в усыпальницах фараонов, когда у каждого своя версия толкования. Не было угла в лагере, где бы арестанты ни ломали голову над этими загадками: в бараках, каптерках, столовой, санчасти.
Где угодно можно было слышать такие разговоры: «Эх, когда уже начнут нагонять? Ты-то куда собрался? Домой! У меня сроку меньше трешки! Мамка заждалась. Таких, как ты, малосрочников, вообще выпускать не надо. И так сроку нет, а они – домой. Большесрочники, кто год разменял, тоже попадут. Слыхал, Колючий с четвертого отряда, что тридцать без выхода отсидел, тоже пойдет. Он уже не верит счастью такому. Но отрядник сказал – собирайся. Колючий не поймет – радоваться или плакать? Хочет отказаться. Шутка ли? С семидесятого года чалится. Брежнева, Андропова, Черненко, Горбачева, Ельцина пересидел. При Путине выходит. Еще кого нагонят? Малолеток, инвалидов, вояк, награжденных орденами и медалями. Большие срока резать будут? Резать не будут, но погонят, кто отсидел по средней тяжести более полсрока, по тяжелым две трети, по особо тяжким три четверти. А может и резать будут, хрен их знает. Только это не коснется злостных нарушителей режима, тех, кто уже попадал под амнистию или был помилован, кто раскрутился, и полосатых. В гробу мы видели такую амнистию. Хороших нагонят. Ты пойди, поищи тут хороших. Опять кормушка для мусоров. Кто заплатит – тот хороший. А кто нет… на нет и суда нет».
Зэки обсуждали, спорили, кто видел эту амнистию и как она выглядит. Кому она красна-девица, кому старуха с косой. Стали кучковаться, подтягиваться к местным «адвокатам». В ту пору два «адвоката» практиковало в лагере. Первый Терразини, мужик Таловский. Кого уважает, поможет бескорыстно. А так, примет чай, сигареты, глюкозу. Кто – что даст, короче. Носит с собой тетради, как ветхозаветные талмуды. Набил руку на простеньких жалобах, мыслит шаблонно. При особой надобности достает старые очки на резинках и сажает на нос. Если сам разобраться не может, запутает собеседника, заведет в дебри непроходимые. Мужики на себя грешат, мол, сами бестолковые неучи, поэтому и не понимаем. А если не проканает авторитет его консультации, берет на голос, горлопан. Позднее прослыл Терразини кляузником.
Второй Немец, интеллигент из Таганрога или Ростова-на-Дону, не помню теперь. Прожил шесть лет в Европе, больше всего в Германии, отсюда и погоняло – немец, хотя по национальности грек. В лагере жил как интеллигент, своеобразно. Мужики к нему подходили реже, уж больно мудреный он был: не местный, даже не москвич, непонятно откуда. К нему церемония подхода требовалась. А мужики этого не любят. Он, бывало, стоит в сторонке, слушает публичный разговор, потом деловито проговорит абракадабру какую-то и пойдет себе гусаком. Одним словом, немец. Зато кто разобрался в его абракадабре, к Терразини больше не подходил.
Немец меня принимал, уважал даже. Я подход находил почти к каждому, разбирался, где какая церемония уместна, по понятиям, короче. Подсяду, бывало, в проход к Немцу, подожду пока он в личной тумбочке шлёмками да кругалями погремит, поводит, как флюгером, крупным греческим носом, выкажет недовольство всем, что вокруг себя видит. Портсигар хромированный достанет из кармана суконного жилета, пустит дым, портсигар захлопнет, можно начинать разговор. А если раскрытый портсигар тебе протянул – куревом угощает, так, вообще, сам расположен поговорить.
– При Сталине эксперимент провели – кого надо лучше кормить, тех, кто физическим трудом занимается, или кто умственным? Оказалось, на выработку нормы на лесоповалах, рудниках пайка влияет. А на работоспособность в шарагах, нет. Вывод: плоть должна хорошо питаться, а мозг может и на этом работать, – указал Немец на шлёмку с застывшей, как густой ил, сечкой. – Значит, мозг, то есть разум, сильнее.
– В Европе богатые люди и средний класс живут за городом. В городе служащие, беднота, нищие. В России наоборот. Село нищает, в мегаполисы все съехались. А так, я всю Европу проехал, много интересного повидал. Самые красивые девушки в Чехословакии… Полячки красивые… везде есть красивые, но самые красивые чешки.
Про эту амнистию, к 55-летию Победы в Великой Отечественной Войне, я понял, и Немец подтвердил, что в первоначальной редакции, как вышло Постановление, я попадаю, и к осени могу пойти домой.
– Только не будет этого, вот увидишь, – говорил Немец. – Месяц не продействует указ, зарежут амнистию, внесут поправки. Кроме беременных афганцев, награжденных орденами и медалями, никого не нагонят. За месяц подсуетятся, кого надо, для кого эта амнистия и объявлялась, освободят, остальные будут сидеть, как сидели.
И правда, не прошел месяц, как линза старого черно-белого телевизора, стоявшего в комнате личного времени, показала, как коммунист Ильюхин, потрясая с трибуны Государственной Думы пролетарскими кулаками, ходя желваками и брызжа слюной, настращал сонных депутатов «холодным летом 53-го года» и внес поправки. Эта же линза показала, как попытался заступиться за нас министр юстиции Крашенинников, но его голос потонул в безразличии общественности. Получалось, Постановлением об амнистии нас освободили, а через месяц заново приговорили. Такое только в России возможно. Тогда много у кого крыша поехала. Последние гуси улетели. Поговаривали, среди первых амнистированных пролез один козел с большим сроком, хозяин не смог ему отказать, так козла этого после поправок вернули в лагерь под конвоем. А говорили, закон обратной силы не имеет. В России закон имеет и обратную силу и конкретно направленную. Больше ни один большесрочник за периметр лагеря не вышел.
Немец сказал, что подаст исковое заявление в суд, дойдет до Конституционного суда, если надо до Европейского суда по правам человека. Вероятность добиться правды мало, но попытаться надо. Времени у него уйма – пять лет. Заняться нечем, вот и будет писать. Ничего не теряет, все и так потеряно.
Лето 2000 года выдалось жаркое. Солнце прокалило, смазало горячим маслом кирпич, железо, асфальт. Горькое человеческое тесто припекло, как в чугунной формовке. Черная роба просится с тела. В жару не носится она, выходит из моды. Появись днем в робе на плацу, как черный таракан в пустыне. Солнце будто в увеличительное стекло прижаривает, прямо, кажется, дым пойдет. Мозги плавятся в голове и вареной сгущенкой прилипают к черепной коробке, в которой завязли с трудом шевелящиеся мухи – мысли. Бараки по лагерю распахнули все окна, двери, приглашали сквозняки – где вас носит? Поливали дворик из шланга, чтобы хоть как-то остудить раскаленный асфальт. Клумбу с цветами поливали утром и вечером, а дворик весь день. Политый асфальт чернел, и не проходило четверти часа, как он обратно светлел, и над ним колыхалось марево. От испарения становилось тяжело дышать. Одни говорили: «Не разводите сырость, и так дышать нечем». Другие: «Полейте дворик, посвежее станет».
Вечером ветерок начинал расчесывать гребешком травы предзонника, становилось прохладнее. Мужики выходили во дворик и коротали время до вечерней поверки. Голуби начинали ворковать и топать на чердаке каптерки, будили старого каторжанина, Васю саратовского, пахана по блатной иерархии отряда.
Саратовский жил не как все, в секции барака, там, в угловом проходе лишь шконка за ним числилась. Жил он в каптерке, как блатной. Правда блата такого и даром не пожелаешь. Полжизни полувековой по тюрьмам и лагерям прочалился. Где-то мусора палку перегнули – копчик ему отбили. Сидеть толком не мог, либо стоял, либо лежал. И лежать мог только на жестком. Злой был, как старый волчара. Лютовал на всех. А шнырей так разносил в пух и прах. Бывало, шутка какая растянет лицо в улыбку и то, проскрежещет, как ножом по консервной банке, и в конце концов – всех разэтаких бродить перебродить!..
Вывезли Саратовского в больницу и больше в лагерь не вернули. Год прокряхтел в пятом отделении и на свободу вывалился. Занял каптерку Алик перс. Личность преинтересная. Тут разобраться нужно, сразу не понять этого человека. На первый взгляд приятный молодой человек: опрятный, аккуратный, держится достойно: кепка, четки, фильтровые сигареты. Одним словом, представитель блаткомитета, смотрящий за отрядом. Все так, но тут подвох – за отряд отвечал как бы Перс, но Саратовский имел последнее слово и на нужную мозоль, когда надо, давил. В отряде ни одно решение, не перетерев с Саратовским, Перс принять не мог и, надо отдать ему должное, не пытался, соблюдал субординацию.
На спальном месте Перса, на бирке было написано: Анурин Олег Юрьевич. Да и выглядел он как русский. Но родом был из Азербайджана, из города Гянджа. Азербайджанская диаспора в лагере называла его на свой лад не Олег, а Алик, Алик гянджинский. Это местные, воронежские, за его кавказское происхождение и рост прозвали Персом. Роста был высокого, в отряде выше не было. Когда на поверке стоял, как каланча над строем возвышался. По-русски говорил хорошо, без акцента. По-азербайджански… судя по тому, какие собирал аудитории среди земляков, говорил отлично. Вообще, пользовался среди земляков большим авторитетом.
Сначала, по моему прибытию в девятый отряд, мы вроде бы поладили. Одного поколения (Перс меня постарше на три-четыре года). Оба с Кавказа. Пришли с Москвы. У обоих большой срок. Но позже разладилось у нас. Я человек прямой и, бывало, прямотой своей задевал тонкие материи. На Северном Кавказе в чести удаль и надежность слова. Наши Закавказские братья больше хитростью и витиеватостью слова приобретаются. Так вот, Персу не по душе стал такой самостоятельный персонаж, как я, и он, улыбаясь в глаза, начал приискивать за мной косяки. Приискав косяк всегда можно приземлить человека. Хотел поставить меня в такое положение, в котором сам находился до отъезда Саратовского. Кстати, Саратовский на меня открыто не рычал, уходил в свое логово. Видно, жизненный опыт ему подсказывал – не по зубам молодой «мосол», не перегрызть, а проглотить – отравишься. Во всяком случае, так мне казалось.
Перс же решил попытаться. Избрал тактику холодной войны. Расставил капканы. Сидеть нам долго, потеряешь концентрацию, ошибешься, проглядишь и попадешься. Но я не попадал в расставленные Персом капканы, они мной прочитывались. Кое-какой опыт был. Улица родного города Нальчика восьмидесятых годов была своеобразной школой. Только в лагере я понял, что обратная сторона нашего социализма работала так, что улица Нальчика была пропитана лагерными понятиями, как роба заключенного тюремной вонью. И теперь я всего лишь получил высшее образование в московских тюрьмах: Бутырке и Матросской тишине, и пошел на ученую степень в лагере.
После ужина, перед отбоем, самое тихое время в лагере. Фонари мерцают, перемигиваются из жилзоны в запретку. Коты гуляют, им решетки не помеха. По внутреннему распорядку это личное время осужденных. Начальство не показывается. Контролеры без надобности не тревожат сидельцев, гоняют чай на вышке, да по кабинетам.
Бывало, в такой час соберет Перс сходняк в отряде. Позовет в первую секцию барака всех, кого посчитает нужным. Рассядется в угловом проходе молодежь и достойное мужичье. Перс шныря напряжет чифир сварганить и, вообще, суету навести. Любит тюремное дворянство, когда челядь прислуживает: статус подчеркнуть, чтобы все знали, кто здесь пахан. Перс сдвинет кепку на затылок, как запыхавшийся водитель, сделает знак, чтобы чифир разливали. Погуляет кружка чифира по кругу. Шнырь пепельницу поставит. Перс закурит. Пачку сигарет на стол положит, а сам, между прочим, замечает, чья рука к сигаретам потянется. По понятиям, раз на стол положил, а не в карман, значит, на общак, только не каждой руке позволено тянуться к общему.
Перс долговязым пауком плетет паутину из лагерных понятий, а как по мне так: гоняет порожняки, пережевывает словесный нудняк. На днях Морячок проявил инициативу, собрал мужиков отряда пообщаться. Прошелся по бытовухе, коснулся и общих вопросов. Персу это не понравилось.
– Ты насущ общие вопросы решать? – обращался Перс не к Морячку и не к кому-то конкретно. – С одной стороны, собрал мужиков отряда пообщаться, ничего плохого в этом нет. А возьмем другую сторону, не поставил в курс, в обход смотрящего, ты не знаешь постанову в отряде и касаешься общих вопросов. А если на общем отразиться?
Короче говоря, Перс как будто не предъявлял Морячку, а вел разъяснительную беседу, расставлял точки над «i». Но делал это так, как мог только он. Часами сидеть в угловом проходе, собрав гривотрясов, и переливать из пустого в порожнее. И делать это как-то деликатно, по-своему изящно: «Общее это святое, инициатива наказуема, ты насущ…»
Меня убаюкивал его деликатный нудняк. Я мысленно успевал подумать о доме, как там родители, братья; подумать о институте, о девочке-пай, которая учиться на пятерки и пишет письма красивым почерком; подумать о чем-угодно… Остановить взгляд на аквариуме, попасть под гипноз монотонного покачивания водорослей и фланирования гуппи. Вдруг заметить, как один сомик нарушает идиллию водного пространства, быстро извиваясь, всплывает к поверхности, затем ныряет, бороздит по дну, поднимает муть; и так несколько раз: всплывает, ныряет, мутит воду.
«Насущ» слышу я и как бы просыпаюсь. «Насущ, насущ, насущ…» – что-то я не знаю такого слова. Может быть, он имеет в виду «сведущ»? Короче, не важно, что он имеет в виду.
– Перс, – перебиваю я. – Говори прямо, что хочешь сказать.
Было понятно, что прямо Перс не скажет Морячку, впредь не прыгай через голову. Во-первых, Морячок местный, воронежский, и какая-никакая братва за ним стоит. А может быть, и одобрил кто из главшпанов его инициативу, мол, посмотрим, проканает или нет. Во-вторых, натура у Перса такая, мастер закулисных постановок, открыватель вторых сторон. Саратовский наорал бы уже сто раз на Морячка, пригрозил бы жестяным своим голосом: «Еще раз криво въедешь, бадик об хребет сломаю!.. новый пора заказывать», и все на этом. А Перс будет часами вокруг да около ходить, подводить, разводить… только курят все как перед расстрелом – дым коромыслом, да чай переводят. Я лучше пойду во дворик, прогуляюсь, воздухом подышу, или книгу почитаю, чем здесь сидеть, чесотку эту слушать. Перс, надо отдать ему должное, в такой момент не вступал со мной в диалог, сделает демонстративную паузу, мол, еще один невоспитанный, и продолжит мусолить одно и то же.
Ночник и аквариум подсвечивают угловой проход, остальная часть барака тонет в вечерней тьме. Тут же притаилась тишина, которую, бывает, нарушают звуки барака: глухо хлопнет дверцей тумбочка, скрипнет старухой шконка, продерет чье-то горло кашлем, шепот мужицкий прошелестит и стихнет, провалится подпол.
Уходил я с таких тягомотных сходняков, показывая по арестантскому укладу неуважение, понимая, что за спиной потянется недовольная бубня. Но просиживать без толку часами в прокуренном бараке, слушая, как кто-то гонит порожняк, было выше моих сил. Получалось, я невыдержанный, сам себе на уме, оппозиционер, одним словом, отрицательный персонаж. Только неспроста я так себя вел, дал повод Перс, сам уронил цену своим словам.
Когда в конце августа 1999 года я пришел в отряд, поднялся из карантина. (Подняться из карантина – это тюремный жаргон. В тюрьмах карантин, транзитные камеры, сборки, расположены в подвалах или на первых этажах. Поэтому, когда тюрьма принимает новоиспеченного арестанта и он прошел транзит или карантин, говорят: «Поднялся в хату»). Так вот, когда я поднялся в девятый отряд, он был переполнен. Да и лагерь в целом был набит, как близкий к линии фронта госпиталь. Сюда свозилась хворая арестантская масса с областной больницы и пяти лагерей. В отряде тогда пустовала одна «пальма» – шконка на втором ярусе. По принципу – не место красит человека, а человек место, пришлось забраться на «пальму». Конечно, залазить на «пальму» и слазить неудобно и, помимо прочего, это не козырное место. Правда, лучше начинать с «пальмы», чем с козырного, блатного места переселиться на нее.
На днях пришел в отряд познакомиться Хамат-Хан. Еще на этапе я слышал по сарафанному радио, что в лагере есть авторитетный человек, Хан, который может любого причесать по понятиям. На сходняке имеет привилегию предъявить кому угодно, будь то смотрящий за лагерем или кто из его окружения. Иначе говоря, ни под кого не подстраивается, на все имеет свое мнение, смотрит своими глазами. Обычно такие люди стоят костью в горле, как у блатных, так и у администрации учреждения. Почему Хан имел привилегию предъявлять, не взирая на лица? Ведь, чтобы быть таким человеком, надо иметь большую силу духа. А так себя поставил, не был ни портянкой, ни промокашкой. Хан представлялся мне крепким физически. С поддержкой с воли. Воображение рисовало силу человека, выраженную материально. А он оказался противоположностью моему представлению. Невысокого роста. Сорока годов. Волосы уже обильно посеребрила седина. Одет был просто на арестантский манер. На первый взгляд ничем не примечательная фигура. Но, как мы знаем, внешность бывает обманчива. И это становилось понятно, когда он начинал говорить.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































