Текст книги "Лагерные этюды. Повести, рассказы"
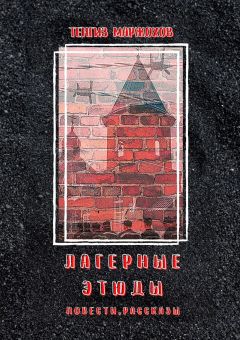
Автор книги: Тенгиз Маржохов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Почему пацана на пальму положили? – поинтересовался Хан у Перса. – Что, поднять некого? Если я начну поднимать, пол барака на пальмы переселю!
Перс горбатился, чтобы подстроиться под невысокого Хана и говорил в том смысле, что отряд переполнен, дедов и инвалидов он поднять не может, а из молодежи кто на низах лежит, все на своих местах и сплошь хорошие люди. Хан припомнил Персу, как встретили его самого, когда он пришел в лагерь, и кто его поддержал перед Саратовским. На что Перс сказал, что все помнит, ничего не забыл, и пообещал Хану, как только достойное место освободиться, я займу это место.
С одной стороны, было приятно, что меня поддерживает такой человек, как Хан. С другой, было неловко, что кто-то помогает мне решать бытовые вопросы. Да, опыта у меня в этом плане не было, но внутренний голос подсказывал, что торопиться не стоит, важно понять течение лагерной жизни. В Бутырке меня тоже приняли по одежке – начинал с «пальмы», провожали: баул мой помогал нести до транзитной камеры смотрящий той хаты, где я начинал с «пальмы».
Почему шконарные вопросы такие важные? Потому что шконка и тумбочка – это твой дом, твоя квартира, твой угол на долгие годы. Сколько тебе определили по приговору, столько и проведешь на шконке. Не одну зиму будешь согреваться под казенным одеялом и бушлатом. Не одно лето закисать от духоты. На тумбочке будет стоять рамка с фотографией жены, девушки, или «той девочки, какой давно потерян след…»
Есть люди, которые стремятся в блаткомитет, чтобы спать на лучшем месте, пользоваться поблажками, которые предоставляет блатная жизнь. Таким человеком был Перс. Для него быть лидером, смотрящим означало, что, если не из уважения к нему, то из уважения к статусу, мужики вниманием не обойдут. С каждой передачи, посылки, с каждого ларька, даже с игровых куражей, у Перса законно чешется ладонь. Это позволяет худо-бедно не опускаться до самокруток, а курить фильтровые сигареты. Пить не третьесортную солому, а кучерявый чай. И пить чай не как бедолага с рандоликами – сухарями, а с шоколадными конфетами, и порой даже с лимоном. Короче говоря, жить с налаженной бытовухой: и доход, и приход, и уважение.
Помнится, когда посадили Перса в ПКТ – помещение камерного типа, так у него в отряде оказалось две тумбочки, набитые «Примой», личными сигаретами, и это при том, что он не получил ни одну посылку, ни одну передачу, и на интерес не играл.
Только это еще полдела, мелочи. Статус смотрящего давал возможность участвовать в политике, удовлетворять, так сказать, властные амбиции. Подобно съезду народных депутатов, бывать на сходняках, куда собирался весь блаткомитет лагеря. Сидеть там покуривая, и ни одну из сторон не поддерживать, сохраняя нейтралитет. Над серьезными вопросами голову не ломать, но под раздачу общих благ попадать, и потом в отряде со своих рук распределять. А там, по любому, перепадет пол литра самогона, косяк травы, или, что всего слаще, пара кубов ширива. Тогда можно лежать в каптерке на тахте с чувством собственной важности и, опять же, покуривая, почесывать нос, отдавая распоряжения шнырям.
– Почему у меня вены остались? Потому что я умею колоться. Все бабочками, а я крупной иглой колюсь, – как-то сказал Перс, поглядывая на свои руки, и объяснил принцип приложения физики и химии к иглотерапии.
Я же был далек от подобных стремлений. Меня не интересовала иглотерапия и прочая политика. Просто я понимал, что тяжелый поворот судьбы надо пережить, сохранить здоровье по возможности, и не деградировать. И в своих поступках руководствовался этим. Но жизнь так устроена, что за место под солнцем приходиться побороться. Уж больно много желающих на козырное место.
Утром этапного дня угловая шконка опустела. Ушел по этапу в больницу Морячок, не заклиматило ему в лагере. Срок у Морячка был девятнадцать лет строго режима. Поговаривали, после первой ходки недолго погулял он на свободе, толком не рассмотрел быстро меняющихся в свете сумасшедшего ритма жизни воронежских пейзажей. Тетке голову отрезал. Как бес его попутал, не известно. Но известно, что пришел он с подельником к родной тетке денег попросить, мол, радость великая – племяш откинулся, а получилось уголовное дело – убийство с отягчающими обстоятельствами.
В то время я был не суеверный, плохой ауры не побоялся, перекинул матрас с «пальмы» на освободившуюся шконку, перевесил полотенце на дужку, бирку под дужку, протер тумбочку, разложил вещи и прилег отдохнуть. Лежу – кайф! Пол близко, потолок далеко. А то на «пальме» – потолок близко, пол далеко. «Пальму» качает, как гамак в кубрике, спокойно не уснуть. Да и к атавизмам – навыкам мартышки возвращаться неохота. Таким образом, проблема спального места решилась.
В отряде это вызвало тихое негодование. Оно расползлось как тяжелый махорочный дым по непроветриваемому бараку. На меня посматривали как на человека, который сел не на свое место и взял со стола не свой кусок. Никто не решался сделать замечание, но по углам шептались. Шептались по большей части гривотрясы, для которых Перс был авторитетом и чуть ли не родным отцом. Остальным мужикам было не до этого, их больше заботило, что будет в столовой на обед, когда откроют ларек и тому подобные вопросы. Перс тоже молчал. В свойственной ему манере, недовольно задрал нос. Я же помнил его обещание Хану, что как только место освободится, я займу это место. Оказывается, из этой мудреной постановы нужно было понять, что какие бы слова смотрящий не сказал, я должен был предварительно пойти к нему на поклон, получить добро на то, чтобы занять освободившееся место, то есть зафиксировать оказанную услугу. Я не придавал значения таким «китайским церемониям», и рассуждал так: кому надо сам подойдет, остальное меня мало волнует.
Позже Перс собрал отрядный сходняк, как обычно: позвал в первую секцию барака всех, кого посчитал нужным. Собралась в угловом проходе почтенная публика – молодежь и достойное мужичье. Перс напряг шныря сварганить чифир, и долговязым пауком расплел паутину лагерных понятий.
– Шконка освободилась… ты занял шконку, упал в угловой проход. Все правильно, бродяга ни к кому подходить не должен, сам знает, как себя вести, – начал жевать словесный нудняк. – Но возьмем другую сторону… ты не знаешь постанову в отряде… может на эту шконку рассчитывали люди… вон, Удав хотел переехать… а если завтра достойный бродяга заедет?
Я сидел как на иголках, потому что дело касалось меня. Но Перс, как и в случае с Морячком, подводил гнилую постанову – не говорил прямо, а ходил вокруг да около, как будто этого человека нет среди нас. Я бы сильней его зауважал, если бы он подошел ко мне или позвал на разговор, и прямо сказал, что ему не нравится то, что я самовольно приземлился в угловой проход. А не возить по мужицким гривам эту тягомотину. Когда стало понятно – к чему Перс клонит, я сказал:
– Если заедет достойный бродяга, я первый уступлю ему место.
Возразить почтенной публике было нечего. Я покинул этот тягомотный сходняк, оставляя за спиной недовольную бубню.
На следующий день, под вечер, зашел Хан. Прошел по бараку, как по плацкарту, поглядывая на разномастных пассажиров, крутнулся в угловом проходе – посмотрел, как я устроился, и позвал во дворик. Раньше он приходил к нам в отряд проведать деда Пионера и Саратовского, теперь молодой земляк стал поводом заглянуть в девятый отряд.
Мы прогуливались по дворику, как по ночному перрону. Прожектора и лагерные фонари подсвечивали металлическую решетку локальных секторов, светящуюся, как зубы негра в ухмылке вечерней темноты. Барак походил на пассажирский вагон. В желтевших окнах вагона застыли мутные картинки.
Хан одобрял то, как решился мой бытовой вопрос, даже, можно сказать, был доволен. Он поддерживал меня и высказывался в том духе, что срок у меня большой, сколько здесь, в этом отряде проведешь, одному Аллаху известно, поэтому надо сразу занять достойное место. Про Перса Хан сказал, что гнилой оказался «зверек», памятуя слова деда Пионера. И хорошо, что в этой ситуации он показал свое лицо. Хоть будем знать, что от него ждать.
– Ты бы видел его, когда он сам пришел в отряд, – как-то брезгливо сказал Хан. – Мы с Исой тогда за него слово замолвили, земляк как-никак. Саратовский сожрал бы его…
В этот момент из темноты выплыли две фигуры. Они шли по плацу со стороны «кремля» – седьмого отряда. В седьмом отряде жил смотрящий за лагерем, там был лагерный котел – общак, и арестанты шутя называли его «кремль».
Перса я сразу узнал: высокий, худощавый, в кепке, как строительный гвоздь. А вот второй… второй был Ваха, смотрящий за лагерем. Ваха родом был из Ростова-на-Дону. Звали его Вадим. Только погоняло на кавказский манер «Ваха».
Ваха и Перс подошли к калитке нашего отряда. Мы с Ханом тоже подошли к калитке. Получалось, нас разделяет решетка. Мы с Ханом со стороны дворика. Ваха и Перс со стороны плаца. Показалось, Перс не ожидал увидеть Хана, он разочаровано поздоровался, а меня как бы и не заметил. Хан представил меня Вахе. Ваха пожал мне руку. Несколько раз повторил – посмаковал слово «Нальчик». Сказал, что когда-то в этом городе жила его мать. Перекинулся парой фраз с Ханом, попрощался и ушел. Перс, повесив нос, зашел в барак.
– Понял, что это было? – поинтересовался Хан.
Не подавая вида, он ликовал, его выдавали глаза и еле заметная улыбка.
Было понятно, что Перс пригласил смотрящего за лагерем, как поддержку. Только Хан спутал им все карты. Ваха сразу все понял, ушел. То, что одно присутствие Хана на него так повлияло, говорило о многом.
Прогулявшись еще немного, подышав воздухом, Хан вполне серьезно заключил.
– Не могу сказать, что здесь красный ход. Видишь сам – локалки открыты – гуляй по жилзоне… за форму одежды не сажают… крыша греется… бить не бьют, если сам не выморозишь. Но не могу сказать, что здесь черный ход… Здесь бандерложий ход!
До поры до времени на этом улеглось. Наши отношения с Персом вернулись к холодной войне, которая внешне никак не проявлялась. Каждый тянул свою лямку, балансируя в одном пространстве под названием отряд. Если мы пересекались в других местах лагеря, Перс делал вид – будто мы не знакомы. Меня это устраивало, ведь общего с этим человеком у меня было мало. И хотя холодная война внешне не проявлялась, все капканы, расставленные Персом, были на месте. Я чувствовал, только дай повод… Так продолжалось бы довольно долго, если бы в отряде не появилась новая фигура.
Как я уже говорил, к нам в отряд поднялся полосатик, пришедший по этапу с колонии особого режима «Черный дельфин» города Соль-Илецк Оренбургской области. По бараку прошел слух: «Полосатый поднялся… полосатый поднялся… последним этапом пришел с особого…» Новость гуляла по бараку, подвешивая интригу. Всем было интересно, что за зверь такой – полосатик? Хотя в лагере немало чалилось тех, у кого режим был особый. Но одно дело – чалиться полосатым в ЛИУ, другое – прийти непосредственно с особого режима. (Подвох, про который я упоминал ранее, был в том, что здесь содержались не по режимам, здесь был режим смешанный: и вчерашние малолетки, и общий режим – такие первоходы, как я, и строгий режим – строгачи, как Хан, и особисты-полосатики). Предвкушение было такое, будто в провинциальный шахматный клуб приехал знаменитый гроссмейстер.
Сам полосатик появился под вечер. Полдня он просидел в каптерке у Перса.
В угловом проходе под тусклое барачное освещение за маклевым столом собралась группа молодых людей, среди которых был и я. Мы встречали полосатика. Ритуал встречи проходил неизменно за чифиром. В процессе общения мы пытались понять, что за человек к нам попал. А человек пытался понять, куда он попал. Я был настроен дружелюбно, ведь полосатик, как «дед» в армии, перед нами – «духами» и «черпаками», заслуживал определенное уважение. Да и кавказское воспитание призывало уважать старших, хоть тюремные понятия не приемлют этого.
К нам попал типичный представитель тюремно-лагерной системы. Казалось, вот он настоящий зэк, который мотает взаправдашний срок. Его черная роба и картуз пропитались каторжанской копотью уходящего века. По сравнению с ним все здесь казалось ненастоящим. Наш лагерь казался пионерским лагерем. От него тянуло и холодом крытого режима, и дымом костра с лесоповала. Этот персонаж гармонично вписался бы в банду Горбатого. Звали его Виктор, родом из города Тамбова. Он был одного поколения с Саратовским – под полтинник, когда человек поживший, матерый, но старым не назовешь. Казалось, время, проведенное в заключение, превратило его в восковую фигуру, в которой поселилась смерть, смотревшая на все черными крысиными глазками и до поры прикидывавшаяся жизнью. Гладкая лысая голова, как у облученного. Бледный тюремный загар. Он смачно отхлебывал горячий чифир оттопыренной нижней губой. Эта губа, когда он говорил, характерно влияла на дикцию. Когда он улыбался, обнажал железные зубы. Короче говоря, он производил неприятное впечатление с гражданской точки зрения. Но там и без него было полно уродов. Порой я жалел, что под рукой нет фотоаппарата, с удовольствием бы сфотографировался в компании некоторых персонажей, с которыми не соскучишься даже в аду. Правда, разница между нами была в том, что я осознавал, что я урод, а они, скорее всего, нет. «Ладно, поживем – увидим, – подумал я». Витя Тамбовский (такое погоняло прилипло к нему), расположился на шконке по соседству.
Первое время Тамбовский ходил по лагерю, знакомился. Видимо, на особом режиме такой лафы не было, и теперь он гулял от вольного. В лагере к нему был взаимный интерес, везде его принимали как дорого гостя и одаривали, чем могли. Каждый пытался не ударить в грязь лицом. Только простые некрасовские мужички, далекие от политики, не интересовались такими глупостями, они промышляли насущными проблемами: что будет на обед и когда дадут посылки.
В большой части лагерного блаткомитета Тамбовский произвел эффект Хлестакова. В каждом лагере ждут, как мессию, достойного бродягу, который приедет и раскидает все рамсы по справедливости, всех обездоленных одарит, всех униженных возвысит, со всех недостойных получит, всех кровожадных накажет. И настанет на земле мир и черное братство! И кто будет ближе к этому бродяге, тот, считай, ухватил бога за бороду и саму удачу за хвост.
Тамбовский не ожидал такого приема, но решил воспользоваться случаем. Он возвращался в отряд из лагеря и, как правило, тащил термосок. Под его шконкой завелась коробка, куда он складывал съестные припасы. В тумбочке поселились сигареты козырных марок, кучерявый чай и шоколадные конфеты. И как завершение натюрморта благополучия – банка кофе. К Тамбовскому был приставлен лакей – шнырь. Может быть, Перс распорядился, но судя по рвению, которое проявлял шнырь – Репка, он подрядился сам. Шныри тоже не дураки, знают, где вторяки погуще.
Как-то раз в обеденное время Тамбовский решил трапезничать. Послал Репку подогреть на плите в комнате приема пищи баланду. Репка вернулся и ждал новых распоряжений. Тамбовский выдвинул из-под шконки коробку и перебирал овощи. Почему-то он не мог определиться с помидором, какой взять? Огурцы и помидоры были подарены ему арестантами из разных передач, а значит, из разных огородов.
Когда он, наконец, остановил выбор на бокастом розовом помидоре, то протянул его Репке и велел.
– Пойди, помой.
Репка принял помидор в обе ладони и, водя носом, принюхиваясь к аромату, заискивающим голосом спросил:
– Вить, а знаешь, как этот сорт называется?
Тамбовский, еще согнувшись над коробкой и что-то подсчитывая, небрежно бросил:
– М-м… бычья залупа.
– Нет, – проговорил Репка торжественно. – Женская радость.
– Это одно и то же, – отрезал Тамбовский. – Иди, мой.
Я, наблюдавший за этим анекдотом, про себя хихикнул, и подумал, что забыл, когда последний раз кушал свежие помидоры. Но Тамбовский мне не предложил бы, а просить я бы не стал. Отношения у нас не позволяли. С первых дней не заладилось у нас. Ни на кого из молодых пацанов он не смотрел криво, а на меня взъелся. Ничего плохого не сделал, но почему-то стал для него врагом. Все, что ни скажу, не туда – вызывает в нем, мягко говоря, критику. Все, что не сделаю, не так. Я понимал, значит, не своими глазами смотрит, предвзятое отношение. Перс научил… Тем хуже для него. Когда у человека полвека позади, а он живет не своим умом, бывает катастрофа.
Мы, живя по соседству, не разговаривали неделями. Когда случался между нами разговор, это был не разговор, а выяснение отношений. Тамбовский отрабатывал на мне дешевые тюремные «прихваты», на которые ведутся наивные первоходы и недотепы. Попасть в серьезный капкан я повода не давал, но было не просто. Если Перс жил в каптерке и в каждодневной бытовухе мы не соприкасались, то с Тамбовским получалась другая ситуация: сосед, который на глазах роет тебе яму.
Я же придерживался принципа: «Когда ты задумаешься над тем, как подгадить сопернику, начинается твоя деградация». Авантюрных ставок не делал и старался жить своим умом. Когда кого-то характеризовали за глаза, брал во внимание, но такими словами не руководствовался. Поэтому общался в лагере со всеми. Находил полезную беседу с любым некрасовским мужичком, будь то цирюльник, голубятник, маклер и т. п. При правильном подходе в мужицкой массе огромная сила обретается. Правда, были люди, с которыми я общался доверительно. Таких было не много, но были. Одним из таких был Хан, который стал мне как старший брат. Многие вопросы и тупиковые ситуации разрешались благодаря разумности и опыту этого человека.
Хан походил телосложением на Высоцкого, да и, порой, взрывным характером. Правда, до взрыва надо было довести, потому что выдержка у него была необыкновенная. Я ни разу не видел Хана вне рамок умиротворенной силы. Но в лагере знали, под горячую руку Хану лучше не попадать. Что стоила одна лишь сцена, удиравшего через плац на вахту хозяйского шныря – куска за центнер, на которого за козлячее балабольство Хан замахнулся дежурным правилом – дрыном.
Родом Хан был из города Малгобека. Ингуш по национальности. Строгач (до этой, за плечами две ходки), кавказец, но человек советский, какими были мы все, рожденные до поганых времен перестройки. Как я уже говорил, он стоял костью в горле, как у братвы, так и у администрации учреждения. Для администрации это был неподконтрольный элемент, обладающий большим авторитетом. А для братвы – он слишком высоко поднимал планку соответствия. Никто тебя за язык не тянет, но дал слово – держи, – был один из его принципов. И вообще, придерживался старых понятий и традиций, заложенных еще при Бриллианте.
Как-то раз Гена Карп, местный блатной, смотрящий десятого отряда, пришел к Хану за советом. В ситуации, вызывавшей вопросы у Карпа, фигурировали три грузина, точнее, один грузин и два мингрела. Обрисовывая ситуацию, покручивая четки, Карп назвал грузин «пиковые». Хан прервал Карпа и поинтересовался.
– В колоде еще три масти… ты, какой будешь?
Карп, попав в неловкое положение, замолчал. Когда он вышел, Хан сказал:
– За глаза они нас называют пиковыми, зверями… но, чтобы так… совсем уже рамсы попутал Карп.
Когда Хан заходил на содняк или в какое другое общество, все замолкали – развязанные языки мигом подматывались, требовалась перенастройка коммуникации. Он не позволял себе вольности в виде мата, пошлого жаргона, и от других требовал того же. Но если человек заслуживал, брошенное Ханом определение звучало как приговор.
Я часто приходил к Хану в десятый отряд. Хан жил в каптерке, в которой была чистота и порядок. Пол и стены были обшиты деревянными панелями, над ними келейно-белый высокий потолок. Большое окно показывало панораму жилзоны до вахты, где весь лагерь был как на ладони. Скрашивали арестантский быт магнитола, цветной телевизор, видеомагнитофон. Короче говоря, было все, что могло составлять разрешенное внутренним распорядком благополучие в лагере.
Обычно мы пили чай. Бывало, я разделял с Ханом скромный, аскетичный обед, за которым Хан делился новостями, какие знал не каждый представитель блаткомитета.
– Как там Крокодил Гена поживает? – поинтересовался Хан, когда очередной раз я заглянул в гости.
Я не понял, кого он имеет в виду, и глупо улыбался.
– Ну Тамбовский… Полосатик… Или как там его? – добавил он.
– А-а… Тамбовский… Витя… Но почему Крокодил Гена? – не понимал я.
– А что?.. Похож же лысой башкой и черным котелком на Крокодила Гену? – иронически сверкнул глазами Хан.
– Похож, – согласился я.
Правда, если у Крокодила Гены были большие добрые глаза, то у этого… маленькие злые глазки. И на гармошке он не играл.
Между тем я не разделял веселье Хана. Для меня этот Крокодил Гена добрым персонажем не являлся. Не знаю, что наговорил ему Перс, но с первого дня он дышал ядом на меня.
Хан поинтересовался подробностями наших взаимоотношений, внимательно выслушал, пытаясь понять – почему нашла коса на камень, и стал говорить серьезно:
– Тамбовский – это торпеда. Пойми, здесь прямо никто ничего не делает. Ко мне бывает тоже приходит какой-нибудь провокатор и начинает борзеть. Но я знаю, это торпеда. За ним стоят другие, которые прямо ко мне не подойдут. И моя задача обработать торпеду так, чтоб ударила в обратку – по тому, кто ее запустил. Тут торпеду запустил Перс. А Тамбовский… – Хан махнул рукой, – просто полосатая торпеда. Обычно торпеда – это бешеный фраер, который ищет одобрения тех, кто над ним. Своей головой не думает и, как правило, попадает в пиздаворот. Таких после выбрасывают как использованный гондон. Но Тамбовский не простой фраер… тот еще проходимец. Будь осторожен. Повода не давай, – предупредил Хан. – На днях я получил маляву… По этапу, где-то в транзитке, этот Крокодил Гена обыграл молодого пацана на тридцать тысяч. Воспользовался наивностью неопытного простака. Поймал на дешевую жужжалку. Сломал чью-то жизнь. За это ему не предъявишь, но знать надо… Ладно, посмотрим, – заключил Хан. – Если он пришел с особого режима, то здесь режим особенный.
Размышляя над словами Хана, я приходил к тому, что все сходится, во многом Хан прав. Если Тамбовский недавно влился в коллектив и все мы для него люди новые, почему именно меня выделил? Почему я пришелся не ко двору? Чем насолил? Ответа не было. За всем этим прорисовывался Перс. Задумал руками полосатика создать душняк. Расчет верный – щука проглотит пескаря. Правда, как мы знаем, и пескарь бывает премудрый.
Задумываясь над поведением Тамбовского, я сравнивал его с другим старым каторжанином, дедом Пионером. Пионер при своей непростой жизни (из семи десятков лет больше половины лагерных), всегда был на позитиве. Собирал молодежь. Вспоминал хороших людей (а вспомнить было что, вы уж поверьте). Если ругался, что случалось крайне редко, то ругался не зло, без ненависти, а как-то поучительно, я бы сказал, творчески. Тамбовский же напротив, если и припомнит какой случай, то обязательно кого-то наказали, побили, порезали и тому подобная чернуха. Как любил говорить Пионер: «Запомни сынок, человек к человеку тянется, а змея к змее». Отсюда и вывод…
Правда, бывали минуты, когда Тамбовский «ходил домой» – доставал какие-то бумаги, письма. Надевал очки на нос и что-то читал. В такие минуты к нему приходила умиротворенность. Он напоминал старого гнома, присевшего в своей уютной избушке и читающего детские письма. Или даже материнские письма. И на ум приходили строчки:
Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Я был бы не против, если бы он оставался таким старым гномом, в котором сохранилась частичка душевной теплоты. Но, к сожалению, это были лишь минуты. Снимая очки, оглядываясь вокруг, он становился крысиным королем. А глядя на меня, так просто начинал беситься.
Лагерные будни тянулись, как нескончаемые спины арестантов в немуштрованном строю. Гремели осенние дожди по плацу, как гремели ложки об миски в столовой. После завтрака проглотил барак строй последнего отряда, в столовой перекур, и на обед уж скоро новый отряд встречать. И такая карусель пока двенадцать отрядов не покормишь. Потом еще стационар, карантин, крыша, промзона и разконвойка. Тянутся лагерные будни, как нескончаемые спины арестантов в немуштрованном строю.
Как-то вернувшись в барак, я застал такую картину. На тумбочке стоит плитка, на ней шлёмка (миска) чадит маслом на мой гардероб. Гардероб не великий: кофта и спортивный костюм, но тем не менее. Кто-то поставил самодельную плитку, какие делают в промзоне, впритык к моей шконке и жарит на подсолнечном масле пайки хлеба. Запах жареного масла, как туман, ползет по всему бараку. А мои вещи, как пыльник, принимают на себя чад. Меня это выводит из себя: совсем надо головы не иметь, чтобы жарить на масле в жилой секции! Так еще и к моей шконке впритык плитку поставить! Это не иначе как умышленное вредительство! Это кто такой?!.. А это Тамбовский! Этот Крокодил Гена! Злой гном! Крысиный король!
Я сорвал вещи с вешалки, из-под масляного чада, как провинившиеся, и бросил на шконку. Затем предложил Тамбовскому перейти на кухню и там продолжить жарку.
– Ты кто такой, чтоб мне указывать?! – прогундосил он, возмущено.
– Я тебе не указываю, – огрызнулся я. – На кухне жарь, она для этого и предназначена.
– Буду жарить, где хочу, – резанул он, переворачивая подрумяненный хлеб.
– А что ты к моей шконке жаровню поставил? Жарь поближе к своей шконке!
– Ты тут не указывай, что мне делать! Сами разберемся, где что воротить! – понесло его. – Нашелся умник! Что-то никто кроме тебя не возмущается!
– Возмущаюсь, потому что ты на мои вещи чадишь! Стирать после тебя…
Тамбовский чуть не задохнулся от такой наглости – его лицо скривила злобная гримаса.
Я вышел из жилсекции дабы не дышать этим чадом. Он остался балагурить, как на базарной площади. Его задело, что какой-то первоход делает ему замечание. Ему! Полосатому! Полжизни просидевшему! Чей дом – тюрьма.
Мужики же присутствовали, как немая массовка. Сидели по углам, как в плацкартном вагоне. Лезть в чужой базар себе дороже.
Позже я вернулся и передвинул плитку подальше от своей шконки. Вообще, самодельные плитки в арестантском быту не редкость. Но одно дело – сварить кипяток, поднять чифир, подогреть баланду, другое – жарить на масле в жилсекции, где и без того дышать нечем. К тому же самодельная плитка – вещь нелегальная, и если бы я притащил плитку в отряд, то это до первого шмона. А у Тамбовского плитка прижилась. И плитка хорошая, такая на промзоне стоила двести рублей. Вряд ли ему плитку подогнали. Скорее всего, купил. Ведь если учесть, что куражей у него тридцать тысяч, то он богатенький Буратино. Правда, одно дело – дурануть лоха, другое – получить расчет. Как правило, шальные куражи приносят головную боль. Тому, кто проиграл – клеймо лоха, если расплатился. Если не расплатился – клеймо фуфлыжника, а фуфлыжник, как известно, хуже пидараса. А тому, кто выиграл – кучу интриг и пересудов.
Но пока проблемами у Тамбовского не пахло. Напротив, все говорило о благополучии. Бытовуху он наладил. Нужные знакомства завел. Менты его не кантовали. Гуляй рванина! И он гулял. Сошелся близко с двумя мужиками с десятого отряда, с Москвичом и Шопеном, и последнее время их постоянно видели вместе. Это были молодые люди, между тридцатью и сорока годами. Причем если Москвич держался интеллигентно и с претензией на лагерное дворянство, поговаривали, что раньше он блатовал и был на виду. То Шопена отличали мужицкая простота и замашки задиристого скомороха, который раз и навсегда понял, что дураком прожить легче. Почему к нему прилипло погоняло «Шопен» оставалось загадкой, ведь он не имел никакого отношения ни к Польше, ни к музыке. Короче говоря, эта несвятая троица: Тамбовский, Москвич и Шопен слонялась лоботрясами по лагерю. Их можно было видеть шатающимися, как в одном из двенадцати отрядов, так и в любом другом месте лагеря, будь то вахта, санчасть, баня, маклёрка.
После ужина, перед отбоем, тихое время в лагере. Фонари мерцают, перемигиваются из жилзоны в запретку. Коты гуляют, им решетки не помеха. По внутреннему распорядку это личное время осужденных. Начальство не показывается. Контролеры без надобности не тревожат сидельцев, гоняют чай на вышке, да по кабинетам.
Я вышел во дворик подышать воздухом. Октябрь на прощание подарил тихую чуть влажную погоду. Горьковатый запах прелых листьев и сухой травы доносился с предзонника. Черное небо, как старый кафтан дервиша, расползлось лохмотьями. Сквозь лохмотья проглядывали любопытные звездочки. Казалось, все ждало ноябрьского ветра, который проснется и погонит колючей метлой: и лохмотья, и листья, и все, что оставалось от октября. Но пока ноябрьский ветер спал, октябрь полностью верховодил. Приближался Хэллоуин – праздник, пришедший с запада. Про Макошу забыли, пошла она водить хороводы по умирающим деревням и селам.
Я гулял по дворику, гонял мысли в пустой голове. Тусовался вдоль барака, как брошенного на дальнем перегоне плацкартного вагона. В желтевших тусклым светом окнах этого вагона копошились пассажиры. Каждый ждал своей остановки и каждый хотел, чтобы поезд, наконец, тронулся и ехал быстрее. Ведь за редким исключением, всех ждали и встречали на остановке. К кому-то приходили матери и отцы, к кому-то жены, к кому-то дети, некоторых дома ждали даже собака или кошка. Все мечтали вернуться и пройти по знакомой улице, подойти к родному дому. Но это когда прозвенит звонок. А пока здесь гости известные: грусть-тоска, горе и отчаяние, и их верные спутники: дурь, блажь, вздор и сумасбродство.
Я тусовался по дворику, гонял мысли… временами ко мне цеплялась беспокойная девка-совесть, бежала за мной, приговаривая: «Почему ты здесь? Что ты здесь делаешь?» «Гуляю, дышу кривоборским воздухом, который, если верить местным, не хуже кисловодского». «Что ты вообще делаешь? – не унималась она. – Твои друзья-товарищи живут там, жизнь налаживают, поди, семьями обзавелись, приятными заботами, делами обросли… а ты?» А я… Махнул я на нее. Побежала беспокойная совесть Макошу искать до поры. Надежда под шаг подстроилась, бодрые мысли потопали. Дворик пустой, мешать некому.
В этот момент из барака выходят Москвич с Шопеном. Идут к калитке и что-то обсуждают, как после спектакля. Дальше за калитку и тают во тьме. Потом появляется Тамбовский. Он тоже идет к калитке, потирает руки и запахивает бушлат на ходу. Я оглянулся по сторонам: свет фонаря золотит асфальт, льется серебром по арматурной решетке. Тамбовский почти проходит… вдруг, заметив меня, останавливается. На лице самодовольная гримаса меняется на ненавистную.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































