Текст книги "Лагерные этюды. Повести, рассказы"
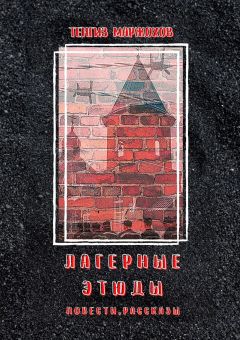
Автор книги: Тенгиз Маржохов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Слышь, к плитке не прикасайся! – бросает он мне, как своему лакею-Репке.
Я не ожидал, что его займет бытовой вопрос в столь поздний час. Полез в карман за словом и мигом нашел нужное.
– Тогда убери плитку… переставь с общяковой тумбочки на свою.
– Ты чё городишь?! – Тамбовский сделал шаг ко мне. Его нижняя губа провисла, как у бойцового пса, готового укусить. – Я тебе сказал, плитку не трогай!
Здесь надо разобраться в понятиях. Я рассуждал так: если Тамбовский не хочет, чтобы я трогал его вещь, то должен убрать эту вещь с общяковой тумбочки. Ведь общяковая тумбочка для этого и поставлена, чтобы ею пользовались все порядочные арестанты. Если он запрещает мне трогать вещь с общяковой, а не со своей тумбочки, то поражает меня в правах, выражаясь юридическим языком, выражаясь арестантским языком – поступает не по понятиям.
– Спрячь плитку в баул, – парировал я.
– Ты чё несешь?! – схватил он меня за грудки. – Совсем рамсы попутал, бес!
Только в этот момент я почувствовал перегар. От него несло самогоном.
– Ты сейчас извинишься…
– Что?!.. Я завтра тебе обосную! – бросил он ворот моего бушлата, собираясь уходить.
– Сейчас обоснуешь или извинишься, – сказал я.
Тамбовский злобно зыркнул крысиными глазками, подшагнул ко мне и дыхнул перегаром.
– Чё тебе обосновывать, Бес?! Бесяра! Бе-ся-ра! – он сделал попытку снова схватить меня за грудки.
Но тут я услышал звук гонга! Не вкладываясь, больше для острастки, двинул Тамбовскому по зубам. Показалось, что пересчитал его железные зубы. Тамбовский отшатнулся, опешил. Затем кинулся на меня. Я двинул ему еще раз… В этот момент на моих руках повисли Москвич и Шопен. Тамбовский прыгал за их спинами, пытаясь меня достать.
– Его держите! Что вы меня держите?! – возмутился я.
Тамбовский, не доставая меня, схватил под голубятней большую швабру. Москвич бросился отбирать швабру. Они завозились, перехватывая швабру друг у друга, будто устанавливали тяжелую мачту. Тамбовский орал матом, сыпал угрозами. Я вырвался из рук Шопена.
– Держи своего дружка!..
Шопен глупо заморгал, и поспешил помогать устанавливать мачту.
Я зашел в барак. Прошел в умывальник. Глянул в зеркало. Заметил рассечение брови. Небольшая сечка кровила. «Вот упырь. Все же достал как-то, – подумал я. Подумал или говорил вслух? Я был возбужден и мог разговаривать сам с собой. Ну Крокодил Гена! Я тебе обосную… Бес… Посмотрим кто из нас бес!» В умывальнике никого не было. Под потолком резонировал звук льющейся воды. Я решил: «Куй железо пока горячо». И пошел прямо в «кремль».
Пока дошел до «кремля» вечерняя свежесть остудила горячую голову. Я понимал, что сейчас попаду в неприятное общество. И от того, как все преподнесу, и как буду держаться, зависит исход дела. Дам слабину, пиши – пропало.
В «кремле» как раз собрался лагерный сходняк. Когда я зашел в секцию, там стоял гомон. Кто-то оживленно спорил. Мое появление отвлекло и разрядило обстановку. Внимание переключилось на меня. Ваха, по-моему, был этому только рад, ведь у него не получалось утихомирить распалившихся спорщиков. Он предложил честной компании выслушать незваного гостя.
Честная компания состояла в основном из молодых людей, от двадцати пяти до сорока лет. По два-три представителя от каждого отряда. Этот блаткомитет был одет более чем разнообразно. Здесь можно было видеть спортивный костюм и тельняшку, душегрейку на натуральном меху и болоньевую куртку, телогрейку и кожак, бушлат и дубленку. На головах кепки, фески, картуза. Администрация учреждения в те годы не могла одевать осужденных в робы. И все ходили, кто во что горазд. Впрочем, как и подобает джентльменам удачи. Как гардероб, так и людской состав был разнообразный. Помимо местных, здесь были представители самых разных уголков, как России, так и стран СНГ. Последний Интернационал. Межэтническое преступное сообщество. Здесь присутствовали (кого я знал): Араз, Ботинок, Влад Слепой, Гена Карп, Коля тюменский, Кривой, Тарантул, Телега, Алик ташкентский (Бабай), Эльдар сухумский, Перс, Ваха и Хан.
Само помещение казалось музеем, ведь все мало-мальски привлекательное, ценное, что имелось в лагере, было собрано здесь. Это был своего рода лубок – просто да заковыристо. Стены украшали картины местных художников. Вся мебель была маклёвая. Резные нарды. Фигурные пепельницы, портсигары, мундштуки. Костяные четки. Глянцевые журналы. Видеодвойка и куча видеокассет. На двери висел постер голой модели, под взглядом которой становилось не по себе.
Как я уже сказал, блаткомитет состоял в основном из молодых людей. Только молодость эта была с печатью социальной проказы. В глазах собравшихся горел тусклый свет. Даже не свет, а то, что отражает чешуя сазана, пойманного в камышовом илу. И все эти глаза смотрели на меня. Кто-то смотрел безразлично, кто-то с интересом, а кто-то пренебрежительно. Такое ощущение, что ты новичок в классе, тебя вызвали к доске, и ты не знаешь, чего ждать от аудитории. Но на моей стороне была правота и хорошее знание «урока». Еще у меня был туз в рукаве – Хан. И если бы я стал проваливаться, он, несомненно, поддержал бы меня. Правда, для него, как и для всех присутствующих, то, с чем я пришел, было сюрпризом.
Выслушав рассказ об инциденте, который я передал, как мог, сходняк решил позвать Тамбовского. Ваха послал гонца. Через пять минут в коридоре послышалась хмельная бравада. Я узнал голос Тамбовского. Гонец вошел один и попросил Ваху выйти, потому что Тамбовский не желал заходить на сходняк. Ваха окинул взглядом присутствующих, убеждаясь, что нет возражений, и вышел. Из коридора донеслись недовольные возгласы Тамбовского. Перс сидел в дальнем углу, в руке тлела сигарета. Кепка, нос, подбородок и кадык создавали рельефный каскад. Он отстранено посматривал по сторонам, будто это касалось его в последнюю очередь, будто не он смотрящий отряда, где произошло неподобающее происшествие. Ваха вернулся и подтвердил, что Тамбовский не трезв. Тогда сходняк решил отложить разговор до завтра.
Утро выдалось пасмурное. Туман разостлался по лагерю так, что казалось, толи облака опустились на землю, толи землю подняли до уровня облаков. Церквушка и дальний периметр лагеря поблекли и смотрелись как старая театральная декорация. Появляющиеся из тумана серые человеческие фигуры, по мере приближения, словно раскрашивал невидимый художник.
Проявляющейся картинкой на фотобумаге, из тумана, со стороны «кремля» проявились Ваха и Эльдар сухумский. Ваха шел в накинутой на плечи куртке, как вышедший со двора покурить постоялец. Эльдар сухумский, как южный человек в промозглое утро, был застегнутый на все пуговицы и с поднятым воротником.
В каптерке у Перса уже грелись Хан, Тарантул и Коля тюменский, кроме самого Перса, который с утра был не рад гостям. Коля тюменский надел высокую меховую шапку и выглядел торжественно, как яицкий казак. Собраться решили узким кругом, в присутствии остальных бродяг, видимо, необходимости не было. Когда я встретил и проводил гостей в каптерку, позвали Тамбовского.
Тамбовский зашел и стал в дверях, присесть ему не предложили. Я сам подпирал противоположную стенку. Ночь протрезвила Тамбовского и прогнала хмельной задор. Он бегал глазами и переминался с ноги на ногу. Его попросили пояснить свои действия. А конкретно, почему он оскорбил порядочного парня, назвал «бесом»? Почему схватил швабру, ведь подобные поступки неприемлемы среди людей? И ему это, как никому, известно. Молодой пацан – первоход может чего-то не знать. А он…
Внятного объяснения не нашлось. Тамбовский юлил и прикидывался глуховатым, по два раза переспрашивая. Память у него тоже подводила, многие вещи он отказывался припоминать. Короче говоря, вертелся, как уж на сковородке. В конце концов, извиняться отказался и сказал:
– Он меня по лицу ударил! И послал!..
При этих слова Эльдар сухумский засмеялся.
– Тамбовский, не гони!.. Этого пацана я второй год знаю, грубого слова от него не слышал.
Хан подскочил.
– Тамбовский, ты вчера перешел черту! И сейчас ты не сорвешься!
Хан шагнул к Тамбовскому и характерно замахнулся, намереваясь хлестануть пощечину.
– Ваха, Ваха… – уклоняясь от воображаемого удара, запричитал Тамбовский.
– Ладно, пусть Ваха, – отступил Хан.
Ваха лениво поднялся, подошел к Тамбовскому и дал ему под дых. Тамбовский со стоном согнулся пополам. Ваха ударил сверху по горбу. Тамбовский крякнул как говорящая кукла, брошенная об пол. Напоследок Ваха пнул его коленом. Тамбовский, оставаясь в позе шахматного коня, мученически взглянул на Ваху, пытаясь понять – это вся экзекуция или…
– Понял, за что получил? – спросил Ваха.
Тамбовский кивнул.
– Пошел вон! – отыграл свою партию Ваха.
Дверь за Тамбовским тихо закрылась. После, поговорив о лагерных проблемах, блаткомитет стал расходиться. Перс сидел в углу и молчал. Он был бледный, на лбу проступила испарина. Казалось, еще чуть-чуть и ему станет дурно. Так же, как и на сходняке, он не проронил ни слова. Тамбовский, надо отдать ему должное, на Перса даже не посмотрел. Видимо, сразу понял – помощи ждать не стоит, сам виноват, ляпни лишнее, только хуже будет.
Я не ожидал такого, и пытался проанализировать этот спектакль. Не думал, что дойдет до побоев. По моему предположению Тамбовского могли поругать и поставить на вид, но не бить. И побил Ваха как-то, вроде, так, да не так. Как-то понарошку. Хан дал бы пощечину, но его пощечина прозвенела бы в Тамбовском до самых пяток, пришлась бы обиднее и унизительней, а значит, поучительней. Что поделать? Так карта легла.
Туман к обеду рассеялся. К вечеру похолодало. Тучи медленно поплыли на юг. Мы с Ханом прогуливались в локалке десятого отряда. Было немноголюдно. Три мужика, закутавшись в телогрейки, вышли из барака с кружкой чифира. Не торопясь, смакуя, распили, и принялись задумчиво курить. По плацу слонялся, позвякивая ключами, контролер.
Поглядывая по сторонам, держа руки в карманах бушлата от холода, Хан сказал:
– Конечно, я сам хотел… но сейчас думаю – даже лучше, что так вышло. Какая разница?.. Главное обезвредили торпеду. Наказали руками Вахи. Смотрящий за лагерем собственноручно побил, не придерешься. Все красиво.
Не подавая вида, внешне оставаясь спокойным, Хан ликовал, его выдавали глаза и еле заметная улыбка.
Не прошло и недели как меня продернули на этап. Я трясся в железном коробе автозака и думал, что некоторые, так называемые, блатные, когда проигрывают, тайно подключают административный ресурс. Эту неделю Перс не показывался на глаза, не высовывал нос из каптерки. Тамбовский был тише воды, ниже травы. Судя по всему, они не смогли смириться и сплавили меня. Скорее всего, через козла – завхоза донесли до кумчасти, чтобы поставили меня на этап. Правильно говорил Хан: «Бандерложий ход».
Месяца через три по сарафанному радио передали, что Тамбовский улетел, ломанулся, закрылся в штрафной изолятор. Подробности не передавали, но говорили, что заплел интригу, навел напраслину на молодого пацана. На этот раз побили Тамбовского сильней. Ему ничего не оставалось, как искать пятый угол. Случай со мной ничему не научил, он опять наступил на те же грабли. И опять при попустительстве Перса.
Теперь сидит в одиночной камере, строчит жалобы, добивается пенсии. Надев на нос очки, копается в бумагах, как старый гном.
Будолом
И кто принудит тебя идти с ним одно поприще,
иди с ним два.
Евангелие
Серой волчицей кралась Рамонская степь по излучине Дона. На горизонте выцветала и переходила в блеклое небо. Небо, поднимаясь, наливалось краской и растекалось синью над головой.
Дома поселка редко попадались на глаза. Белые, как бараньи костяшки в выгоревшей степной траве, брошенные волками, доглоданные шакалами и лисами, отполированные муравьями, они были потеряны во времени.
Как муравьи по былинке, бежали машины по трассе «Ростов – Москва». Ночью они превращались в светлячков, спешащих куда-то в далекие города.
Годами можно не замечать трассу, ползет она себе и ползет серой гадюкой. А вот на степь часто засматриваешься. В моем воображении она перетекала в море, по которому плыл я корабликом на все четыре стороны, на волю, к родным, любимым берегам.
Волной о забор запретки, как о гранитный пирс, разбивалось вернувшееся в реальность воображение. Растекалось по серому асфальту плаца, путалось в нагромождениях решеток локальных секторов.
Когда-то каменный карьер собрал сюда рабочую силу. Выросло здесь исправительное учреждение. След лошадиного копыта в лужице – петля Дона, ловила души неприкаянные, удавкой врезалась в человеческий материал, переламывала хребты безвольные.
Камень и песок с карьера пошел не только на возведение городов центрального Черноземья, построен и тут поселок. Кривоборье – название чудное, сказочное, а поселок самый обыкновенный: вахта, санчасть, баня, три барака и «тюрьма в тюрьме». Перетянуты эти строения поясом жилзоны, украшены колючей проволокой. Грыжей выдавило из-под этого пояса промзону. Ручейком втекают в узкий желобок вахты и вытекают черные фески во время разводов – утром и вечером. У кого руки растут из правильного места, ходят в промзону, работают, веселей коротают срок.
Как молодыми усиками, порос периметр внешней запретки топольками. Там за топольками поселковая жизнь: бело-кирпичные бараки роты охраны, белье на веревках, детский трехколесный велосипед. Еще лай собак. Свинарник. Водонапорная вышка. Дачница в коротких шортах, и плавящие взгляды тысяч глаз… и вздохи, вздохи, вздохи арестантов.
Простучав сапогами по железной лестнице, скрипнув деревянной калиткой скворечника, меняется охрана на вышке. В окошке замирает фигура вышкаря. Удаляется по проборонованному чернозему предзонника караульная смена, покачивая черными силуэтами автоматов. Разный контингент переодели тут в робу. Разные дорожки привели сюда и ой, какие разные, поведут отсюда.
Прибыл я в это замечательное место в конце августа, за четыре месяца до Миллениума, будоражившего арестантскую массу надвигающимся календарным событием.
– Каньец вэка, бичё! Новае тисячилетие! – убеждено говорил какой-то грузин. – Если у этай властьи хать нэмного гуманиз иест, балшая амнисти будэт… вот увидитэ!
Кто-то ждал амнистию. Кто-то ждал свиданье, передачу или посылку. А кто-то ничего не ждал. Я был среди них. Мы были молоды. Живот прилипал к позвоночнику. Мы пили крепкий чай и много курили. Юмор спасал нас от падения духом и деградации.
Кто-то бил наколки, играл в карты, разводил голубей. Кто-то ставил брагу… и почти все были не прочь бухнуть, покурить траву и прогнать по вене маковую солому. Причем независимо от того, стал ли этот подонок на путь исправления или нет. Сотрудничает ли тот или иной негодяй с администрацией учреждения. Отрицательный ли это осужденный или активист. Идейная ли эта сволочь или нет. Все без исключения, даже неопределившиеся, были не прочь задурманит голову тем или иным способом.
Прибился я к тихой заводи и недвижимым поплавком торчал шестой год на поверхности. Стоячая вода зацвела сорной тиной. Вымирали динозавры и мастодонты преступного мира, оставляя после себя мифы и легенды. Приходила свежая кровь, принося перемены и переломы старых устоев. Появились мобильные телефоны, неся извращенную арестантскую мысль на крыльях виртуальной свободы. Этот виртуальный птеродактиль витал по просторам… где-то заплетал, где-то распутывал узлы постылой арестантской жизни.
Администрация подстроилась, поменяла приоритеты, на первый план вышла борьба с нелегальной связью. Бражка, заточки, карты, порно журналы, наркотики и даже деньги стали попутной добычей. Удачей считалось вынести со шмона «трубу» (мобильник). За «трубу» от хозяина премия. У кого нашли, наказывались, сажались в «тюрьму в тюрьме».
В дело борьбы с нелегальной связью вмешивалась политика. А где политика там и подруга коррупция. Ведь как администрация оставит лояльных себе зэков без связи? Тогда нелояльный преступный элемент разгуляется. Ситуация может выйти из-под контроля. А этого администрация больше всего опасается. И спускает всех собак системы безопасности на неподконтрольный контингент.
Одни открыто, лежа на шконке, пуская слюни, по «трубе» базарят. Другие в дальнем углу каптерки при трех атасах хоронятся. Менты порой так запарятся, что пробегают того, кто на глазах, бегут каптерку штурмовать.
Поплавком без поклевки плыл я по течению шестой год. В политику не вмешивался, в чужой монастырь со своим уставом не лез, жил тихо. Знал – сожрут. Придерживался принципа: «День прошел и срок короче». Но идиотом не был, и под какой ветер, какой флюгер вертится, замечал.
Напасть – старуха дряхлая, прицепилась. Посадили меня в «тюрьму в тюрьме» за нарушение режима. «Тюрьмой в тюрьме» называют арестанты ШИЗО (штрафной изолятор) и ПКТ (помещение камерного типа). Так вот, бывает когда «тюрьма в тюрьме» пустует, чалятся там единицы, и то, больше по собственной инициативе. А бывает, находит коса на камень, администрация начинает лютовать, набивает «тюрьму в тюрьме» под завязку. Режим начинает трещать, как старая сосна под ветром. Заботы, как щепки, так и летят. Пока всех наказанных накормишь, баланда холодная. С прогулкой не справляются. ПКТ и ШИЗО должны раздельно гулять. ПКТ-шники легально курят, ШИЗО-шники рады с ними гулять. Даже ВИЧ-евых пускают вместе с остальными, хотя сами строгую изоляцию придумали.
Значит, сижу я в «тюрьме в тюрьме» за нарушение режима. На прогулку хожу регулярно, не пропускаю. В этот раз меня вывели под вечер, до последнего думая, что отстану.
– Свободных двориков нет, – бубнил недовольно контролер. – К Будоломову пойдешь?
– Пойду.
– Ну, заходи.
Пасмурный осенний вечер заливался в бетонный колодец дворика. Картинка перед глазами зернилась, как экран черно-белого телевизора. Шуба дворика, как оспенная кожа, пенилась тенями. В глубине дворика, сливаясь с шубой, топтался высокий человек. Черный лепень (куртка), черные шкары (штаны). Языки огромных ботинок без шнурков отгибались, как ишачьи уши. Знакомы мы не были. Прибыл он недавно. Видел его в третьем отряде. Как большой кобель среди шавок, кучкавался он с молодняком.
– Здорово, – ступил я во дворик.
– Здоровы были, – отозвалась тень.
– Тенгиз, – протянул я руку, – будем знакомы.
– Будолом, – пожал руку своей холодной лопатой, – погоняло Будолом.
– Что-то поздно изолятор гуляет? – пошутил я, протянул сигареты. – По хатам не сидится?
– С козлами не в жилу сидеть, – закурил Будолом. – Не зайду с прогулки, пока к Малому не переведут. Вся прогулка поддерживает.
Над прогулочными двориками стоял бойкий брех. Арестанты перебрасывались колкими шутками, травили байки. Небо почернело. Прожектор резанул холодным светом и замер на бетоне и арматуре.
– И я поддержу, – выдохнул я дым, поднимающийся к краю бетонного колодца и танцующий под лучом прожектора.
– Пастух меня вербовать пытается. В покое не оставляет. Говорит: «Пожалеешь. Ты же наш… бывший». Какой… ваш? Дуру гонит… – ухмыльнулся Будолом. – Я первый срок мужиком сидел, и сейчас переобуваться не собираюсь.
– Где сидел?
– Начинал в крытой, в Тулуне. В бытность Япончика… Правда, его не застал, позже пришел… добивал срок здесь, дома.
– А Пастух, с какого прицепился?
– Я же инструктор по рукопашному бою. Служил. В горячих точках бывал. В Баку. В Абхазии… После Абхазии тренировал спецназ. Пастух всю подноготную знает, вот и не отстает. Говорит: «Переходи в актив. При деле будешь. По УДО раньше отпущу». Знаю я эти посулы мусорские… Да и на воле, потом, как людям в глаза смотреть? Нет, не мое это…
Тишина повисла над двориками. Долгая прогулка утомила. Бойкий брех сменился покашливаниями, плевками и матом.
– А хочешь, научу рукопашному бою? – предложил Будолом, погасив бычок в оспине шубы.
– Да… как-то… не знаю…
– Хитростей много, но все строится на одном базовом упражнении, – погарцевал, согреваясь Будолом. Показал стойку и прием. – А так… бывают моменты, когда любые методы хороши, когда либо ты, либо тебя. Хватай за яйца и тяни вверх… противник машинально на носки становится, тогда толкай или бей в грудь… любой шкаф падает. Тут уж не до эстетики.
Перевели Будолома куда хотел. Под ужин опустела прогулка. Контролеры с облегчением вздохнули и поставили алюминиевый чайник на плиту. Долго по коридору гулял стук половника и скрип открывающихся кормушек. «Тюрьма в тюрьме» ужинала, курила и готовилась к отбою.
Лагерь, как небольшой поселок, калейдоскопом меняет картинки. Выходишь из «тюрьмы в тюрьме», как освобождаешься на волю. Пространство расширяется. По первой рябит в глазах. Тебя встречают, как вернувшегося с орбиты космонавта. Некоторые так отвыкают от «большой земли», что предпочитают тишину, прохладу и покой камеры.
С недавних пор поплавок вынесло из тихой заводи и понесло по водоворотам течений, тревожило волной, подергивало леску. Правило: «День прошел и срок короче» переставало работать. Призраки динозавров и мастодонтов преступного мира не давали спокойно коротать срок. Втянули в политику.
Так получилось, что сблизился я с человеком, которого в двух словах не опишешь. Человек хороший, достойный… Слово держит, коли дал. Стелет мягко, да не уснешь. Может вознести на колокольню лагерной церквушки, свечкой подпирающей небо на краю плаца, и тут же сбросить в чернозем, чертей показать.
Прошел Советские лагеря от Средней Азии до Красноярска. Любил вспоминать закаты на Ангаре. За плечами более двадцати лет отсиженных и две раскрутки: одного заколол заточкой в сердце, до санчасти не донесли; голову второго раздавил шиномонтажным прессом, как спелый арбуз. Постоял за честь и правду. Даже сатаны не испугался, заставил поджать хвост и улыбаться.
Меня стал называть по имени отчеству, хоть был на десять лет старше. Пятый десяток разменял мелочью. Погоняло Горец. Родом из Дагестана. Говорил, кроме русского и родного – лакского, на кумыкском. А смачно ругался, так на всех языках, где сидел, с кем дружил: от таджикского до кабардинского. Язык был его оружием. Когда мечом, когда щитом, когда скальпелем. Когда лекарством, когда ядом. Любил стихи и афоризмы. Многое читал наизусть с выражением.
Начальник колонии запретил сотрудникам разговаривать вне протокола с Гусейновым. Покладистыми и гибкими становились офицеры, как зловещие Наги, послушные дудке заклинателя. Цыгане дети по сравнению с ним. Евреи и армяне бесхитростные простачки.
И вроде бы такому человеку море по колено, но таилась в нем сила разрушительная. Гневный дракон спал на цепи у разума. Когда дракон просыпался, скрежетал цепью, клацал зубами, затмевал разум и рушил в одночасье все построенные замки. Лагерные раскрутки, увеличенные срока, тоже были результатом вспышек гневного дракона. Правда, с годами он научился управлять гневом, выдрессировал этого дракона. И порой устраивал шоу контролируемой агрессии. Но психика устойчивая не у всех, не каждому показаны такие спектакли. Бывало, сюрпризы преподносила ошарашенная публика.
Как-то утром меня разбудил крик. Я подскочил. Протер глаза. Крик летел по бараку во все концы, бился в окна. Горец сидел на шконке и истошно, истерично орал:
– Пошел на х…й отсюда! Если слов не понимаешь, пошел на х…й, гондон! Автоматная рожа, пошел на х…й из барака!
Его закоротило, глаза метали огненные стрелы. Как матерый волк, припертый в угол на кошаре, рвал он воздух, рыл под собой землю.
Будто колоколом звенело в ушах: «Пошел на х…й! Автоматная рожа!»
Над ним нависала медвежья фигура Будолома с лапами чуть ли не до колен. Будолом выплевывал скомканные фразы и, похоже, был на шаг от того, чтобы кинутся на Горца.
– Ты кого посылаешь?.. За базаром следи…
Меж ними суетился мужик с нашего отряда. То пытаясь сгрести и отодвинуть Будолома, то забегал сзади, рассыпаясь в хаотичной пантомиме. Я тоже попытался успокоить кипиш, больше подбадривая мужичка к активным действиям, чтобы увел поскорей Будолома. Почему-то я почувствовал себя беззащитным. Как если бы в дом ворвались грабители, а ты в постели, и под подушкой нет нагана.
Будолом, как медведь шатун, раскачиваясь, поковылял по проходу, озираясь и рыча себе под нос. На противоположной стороне барака он плюхнулся за стол. Там испугано семафорили глазами Малой и пара мужичков. На столе стояли кружки и миска с закуской.
«А-а-а… Дурдом!» – выдохнул я и упал на подушку, как подстреленный.
Монотонными буднями копошился день в лагере. Арестанты гусиным выводком ходили в баню на помывку. Козел нес с вахты письма. Коты скучали на краю плаца. В бараке стучали кости по доске нард. Моргал приглушенный телевизор.
После обеда в отряд наведался смотрящий за лагерем, местный блатной. Зашел к нам в проход, присел, от чая отказался. Покрутил четки, поговорил не о чем для вида и выложил настоящую цель прихода: «Что случилось в отряде? И почему мужик был послан на три буквы?»
Горцу только дай поговорить, за словом в карман не полезет.
– Сам выморозил, падла… Рано утром самогон, походу, выгнали. Тут же сели бухать. Шуметь начали, разбудили. Я им замечание сделал, чтоб не шумели. Только прикемарил, опять галдеж. Говорю: «Вас же попросили, потише. Пол отряда еще спит». А этот мерин начинает паясничать, еще громче кричать… Оху… л совсем! Я и послал его на х…й из барака. Пришел в гости, так веди себя подобающе. Ладно бы мужик некрасовский расчувствовался, а тут этот… рожа автоматная, рамсы попутал!
Смотрящий помычал многозначительно, почесал репу. Вроде прав Горец. Прав по всем понятиям. Но как-то не хочется этого признавать. Ведь за местную команду полагается болеть. Поводил он носом и сказал:
– Будолом, конечно, криво въехал, но посылать не стоило.
– А как быть, если человеческий язык не понимает? – задал вопрос Горец.
– Ну, пойду… поговорю с Будоломом.
Калитка локального сектора за смотрящим захлопнулась.
Осенний вечер гулял по лагерю. Небо серело, как выцветший брезент. Сумерки опускались на поселок. На вахте зевал дежурный помощник начальника колонии. На вышке желтело мутное окно. В локальном секторе было вечернее оживление. Арестанты тенями тасовались из угла в угол, от решетки до решетки, как волки в клетке. Некоторые сидели на лавках, курили, подмолаживали геморрой. Молодежь ломала турник и брусья.
Горец подошел к локальному сектору третьего отряда.
– Ауе!.. Третий отряд!
– Говори, – замаячил в потемках силуэт.
– Будолома подтяни!
– Щя… Он спрашивает: «Кто зовет?»
– Горец.
– Щя… Он занят.
Горец нахмурил брови, зыркнул хищным глазом, пошел тасоваться. Видимо хотел поговорить с Будоломом, отполировать острые углы. Утренний кипиш тянул сердце дурным предчувствием. Но Будолом не захотел разговаривать.
Пасмурное утро провисло сырой тряпкой. Топольки за запреткой облепили торжественно молчавшие вороны. Плац пустовал, разорванным пазлом лежали на нем лужи. Дерево, проросшее через прутья решетки бани, просыпалось желтыми листьями.
Раньше обычного мы с Горцем пошли в баню. Шли молча, спросонья тяжело передвигая ноги, в надежде, что горячая баня прогонит остатки сна. На чердак банно-прачечного комплекса, где колдуют маклеры, по железной лестнице гремели казенными ботинками два офицера. Я никогда не видел эти легавые морды в такую рань, шушарящих по чердакам маклеров. Странное время выбрали для приобщения к искусству. Но меня они мало заботили, потому что к нам было не придраться. В свой банный день следуем на помывку, по форме одежды, бирки на правом боку.
Стриганув глазами, две фуражки пропали в темноте чердака.
В бане было пусто, висело белесое паровое облако. Горец быстро помылся. Я завозился. Когда ловил в запотевшем зеркальце отражение щеки, скользя по ней бритвой, до меня долетел шум из предбанника. Как будто кто-то ругался… Щекотнуло под ложечкой. Держа в одной руке зеркальце в другой бритву, я вышел в предбанник.
Посреди предбанника, как пожарная каланча над поселком, возвышался Будолом. Его кренило в угол, где на лавке с полотенцем в руках сидел Горец. Вдоль противоположной стены секундантом прохаживался Литвин, смотрящий третьего отряда. Сцена повторилась, с той лишь разницей, что тогда в бараке я был Будолому под левую руку, а теперь под правую.
Будолом плевался какими-то предъявами. Горец ему отвечал, чтобы шел в отряд, мол, там поговорим. Я бросил что-то в том же духе, но Будолом не повел ухом, будто сказанное было на непонятном ему языке. Тогда я обратился к Литвину.
– Вы чё сюда приперлись? Уведи его.
Литвин остановился. Черная спортивная шапка была надвинута на брови, как у гопника – грозы подворотен. Он измерил меня пренебрежительным взглядом. Меня заколотило. Я стоял перед ними голый, как абориген. Как голый абориген перед облаченными в доспехи конкистадорами. Мандраж усилился трясучкой от холода, предбанник продувался.
– С ума не сходите. Идите в отряд, – бросил я и нырнул в облако пара. Струя воды прожгла до костей. Мозги, казалось, закипят от напряжения. Я намылил голову и посторонний шум устранился. Вода брызгала по темечку, как по арбузу. Когда смыл пену, снова услышал шум. Я плеснул воды в лицо и пошлепал в предбанник.
Открыл дверь и… увидел потасовку. Горец, сидя на лавке, уворачивался, будто что-то искал под ногами. Будолом, запутав его в тельняшке, наносил удары. Или показалось, что они перетягивают тельняшку друг у друга. Тень Литвина колебалась в дальнем углу. Выскакивая в предбанник, мне под руку попалась железная урна. Я машинально подхватил ее, чтобы долбануть баклана по башке. Заметив это боковым зрением, Будолом втянул голову, как черепаха, и урна ударила по горбу. Удар развернул его на меня, он выбросил руку обороняясь. Внезапно открывшийся второй фронт ошарашил его. Упавшая на кафель железная урна оглушила литаврами! В глазах Будолома отразился голый человечек в мыльной пене, способный перетянуть железной лапой. В них плеснулось удивление и паника.
Дверь открылась. В проем закатился Пряник, пузатый контролер, знавший всех осужденных по фамилиям.
– Будоломов, Литвин, Гусейнов, Жохов… Что здесь происходит?! – удивленно сдал он назад и укатился.
Будолом и Литвин бросились в двери.
Воцарилась тишина. Из душевой доносился плач разбивающейся о кафель струи.
Я повязал полотенце вокруг пояса. Горец тяжело дышал, кряхтел и отхаркивал кровь и ругательства. Он застрял в горловине тельняшки, и только теперь надел ее. На раскрасневшемся лице саднила скула, сечка на брови сочилась гранатовым соком. По кафелю предбанника алели кровавые кляксы. Под ногами я заметил… Откуда это?.. С фаланги среднего пальца струйкой текла рубиновая кровь. Видимо урна огрызнулась острым краем. Я принялся зализывать рану.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































