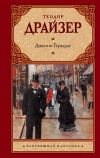Текст книги "Это безумие"

Автор книги: Теодор Драйзер
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
– Прошу тебя, Бетти, перестань, – сказал я. – Не устраивай сцен на улице, будь добра. Не делай из меня посмешище, слышишь? Больно уж ты разошлась!
Кончилось тем, что, отчаявшись привести ее в чувство и чтобы не привлекать зевак, я вынужден был подчиниться и вернуться домой. Когда мы пришли, она стала говорить, что я устал, что нам надо поехать в ресторан поужинать, а утром, на свежую голову, она покажет мне те места в рукописи, которые нуждаются в исправлении. Когда я с ней согласился, она пустилась танцевать и петь, глаза у нее сверкали. Мы поехали в ресторан, а наутро – она оказалась права – настроение у меня поднялось, я был более покладист, чем накануне, и мы исправили все недочеты.
Это лишь один пример того, какой необычной и увлекательной жизнью я зажил с ее появлением. Было лето, погода стояла прекрасная. Мы – а вернее, я – снимали квартиру на углу Риверсайд-драйв и 111-й улицы. На крыше нашего дома был разбит сад, висел гамак, внизу под нами протекала река. О «сухом законе» мы тогда еще слыхом не слыхивали.
Когда была не в настроении, Элизабет пила до тех пор, пока не увидит мир в розовом свете. Больше всего она любила то, что называла маленькой вечеринкой с коктейлями. Если все шло хорошо или если, наоборот, что-то не ладилось и я пребывал в унынии, она предлагала часа в четыре дня смешать коктейли и подняться на крышу.
Если в доме не оказывалось льда – Элизабет терпеть не могла, когда в доме чего-то не хватало, – она бежала в ближайший магазин или на мясной рынок, где у нее установились хорошие отношения с продавцами, и возвращалась с колотым льдом в нужном количестве, после чего смешивала нам коктейли, которые мы смаковали до самого ужина.
Иногда мы ужинали в одном из ресторанов на Гудзоне, или на Саунде, или на Лонг-Бич, куда отправлялись в автомобиле, который Элизабет заказывала на свои деньги. Однажды, помнится, к моему величайшему изумлению, в одном из таких ресторанов мы встретили моего приятеля художника, который был вдобавок еще и превосходным танцором. Поскольку Элизабет очень любила танцевать, а он, как мне показалось, в своей компании откровенно скучал, я позвал его, он подошел к нашему столику, и они с Элизабет сразу же нашли общий язык.
Они танцевали и танцевали, пока я наконец не сказал в шутку, что, наверно, я здесь лишний и мне давно пора вернуться домой в одиночестве. Но должного впечатления моя шутка на них не произвела, Элизабет танцевала до упаду, была совершенно счастлива, и мы просидели в ресторане до трех утра, и только тогда я, устав, настоял на том, что пора уходить. Элизабет вспылила, назвала меня брюзгой, заявила, что я испортил ей вечер и мог бы подождать, пока она не натанцуется всласть. Я объяснил ей, который сейчас час и сколько времени нам потребуется, чтобы вернуться в город. Мы вышли из ресторана, когда уже светало, мой приятель художник последовал за нами, и они продолжали танцевать прямо на улице, среди машин, припаркованных у входа в ресторан и на тротуаре 111-й улицы. Выплясывали с таким азартом, что фалды его фрака стояли дыбом. Оба выпили лишнего и веселились от души. Смеялся и я, а также одинокий полицейский, который подошел выяснить, что происходит. Наконец, когда совсем рассвело, Элизабет нехотя согласилась вернуться в город. Подобная неуемная жизнерадостность охватывала ее не впервые. И тем не менее сомневаюсь, чтобы она впоследствии встречалась с моим приятелем.
Но такой жизнерадостной была она далеко не всегда. Когда задумывалась о себе, о своем прошлом, она сникала. При всей силе духа, при всей прозорливости она не могла не думать, как так получилось, что ее нрав, сформировавшийся со всеми его причудами в такой добропорядочной, религиозной семье, столь непримирим и приносит своим близким столько горя. Ей очень не хватало всего того, что семья ей недодала, и в свои двадцать три – двадцать четыре года считала себя в своем доме чужой.
В придачу ко всему этому и несмотря на любовь к жизни и к искусству, она не верила в амбиции женщин, если не считать музыки, пения, танцев и сцены. Ей казалось, что ограниченные представления, бытовавшие в ее консервативной семье, то безразличие, с каким ее родные относились к музыке и танцам, подорвали ее природные склонности. Она полагала – и, на мой взгляд, не по возрасту, – что жизнь ей не удалась, а потому стремилась отомстить жизни, которая так дурно с ней обошлась. Отомстить полнейшим безразличием ко всему происходящему, издевательством надо всем тем, за что борются и к чему стремятся. «Устремления! – говорила она. – Какая чушь!» И презрительно надувала губки, смеясь над жалкими, ничтожными людскими потугами, своими собственными в том числе. Она мечтала стать танцовщицей. Что ж, ей не дали стать танцовщицей. Не дали, и бог с ним. Какая, в сущности, разница? А разница между тем была, и немалая.
С другой стороны, ее не могло не огорчать, что многим мужчинам, с которыми она сходилась и расставалась, она доставляет неприятности. Она влюбляла их в себя, а потом их чувства высмеивала, отчего испытывала угрызения совести. И ко всему прочему, у нее был я, но тоже ее совершенно не устраивал.
И понятно почему. Ведь помимо одной женщины, о которой я ей рассказал (Элизабет видела ее собственными глазами: она стояла на улице рядом со мной и ей сразу же очень понравилась), в моей жизни были и другие, много других. О них она ничего толком не знала, но об их существовании догадывалась.
Она достаточно часто бывала у меня и неплохо знала, что происходит в моей жизни. Не могла не видеть моей переписки, пусть даже подробности писем оставались ей неизвестны. Не могла не слышать телефонных звонков и обрывков разговоров, даже если я говорил вполголоса. Сколько раз в ее присутствии мне приносили телеграммы, письма и бандероли, приглашения куда-то пойти, что-то сделать. Случалось, мы с ней встречали на улице какую-то мою знакомую, и разговор с Элизабет вполне мог вызвать подозрение. Невозможно встречаться со многими женщинами одновременно и при этом избегать конфликтов, и Элизабет вскоре после того, как согласилась у меня бывать, поняла это, пусть и не в полной мере. Поначалу, когда я и в самом деле очень ею дорожил, проводил с ней большую часть свободного времени, ситуация не была столь напряженной. Позднее же, когда я к ней поостыл и в моей жизни стали появляться и другие, хоть и не столь привлекательные, женщины, она не могла на меня не обижаться, не могла меня не ревновать.
Но и в этих условиях жизнь в Нью-Йорке доставляла ей огромное удовольствие. В городе у нее было много родственников, и я часто задавался вопросом, как это ей удается их избегать или же, если она все-таки с ними встречалась, объяснять, и вполне правдоподобно, почему она здесь оказалась.
Кроме всего прочего, она имела обыкновение писать письма – на мой взгляд, излишне длинные, – а потом жаловалась мне, что терпеть не может переписываться. Сегодня напишет матери, завтра – сестре. В каком-то тихом городке в Коннектикуте жила ее тетка, писала Элизабет и ей, причем не реже раза в месяц. Тетушка была женщиной небедной, и поскольку все свое состояние завещала племяннице, Элизабет считала своим долгом регулярно ей писать.
И тем не менее всякий раз, прежде чем сесть за письмо, она, в преддверии сего тяжкого испытания, начинала причитать: «О боже! Вот ведь напасть! Господи, как же я все это ненавижу! Понятия не имею, о чем писать. Приходится врать, врать напропалую. Я занимаюсь в музыкальной школе. Я учусь в Колумбийском университете. Бедный университет! И как же давно я там учусь! О боже, боже!»
Зайдешь как-нибудь утром или днем к ней и видишь, как она, склонившись над столом, водит скрипучим, никуда не годным пером по бумаге. Увидит меня, воскликнет: «Не отвлекай меня, Мед!» – и махнет рукой, словно говоря: «Делай что хочешь, только со мной не разговаривай!» А потом добавит: «Сядь почитай книжку или посмотри в окно. Я уже тысячу лет не писала маме. Должна же я придумать какое-то оправдание, почему я здесь!» После чего вновь бралась за письмо и принималась скрипеть пером, отчего хотелось лезть на стену. Наконец поставит точку, соберет страницы, исписанные крупным, округлым, размашистым почерком, и скажет: «Ну вот! Сплошное вранье! Хоть бы одно слово правды! Когда пишу домой, вру обязательно! Но надо же что-то предпринять, надо достать денег, и как можно скорее!» Все ее деньги находились у опекунов, и Элизабет приходилось, пока ей не исполнится тридцать лет, брать под наследство в долг, и единственный человек, который мог одолжить ей нужную сумму, был отец. А поскольку отношения с отцом после всего, что между ними произошло, были натянутые, ей приходилось обращаться к нему через мать, которая писала ей очень ласковые, хотя и бесцветные письма.
– Бетти, – однажды сказал я ей, прочитав одно из таких писем, – ну как ты можешь говорить, что ненавидишь этих прекрасных простодушных людей? Самых обходительных, добропорядочных и верных на свете.
– Да-да, думаешь, я не знаю? Будь добр, не читай мне мораль. В отличие от тебя я знаю их уже двадцать лет. Не так уж ты любишь обходительных, добропорядочных людей. Я прекрасно понимаю, что в них хорошего, а что плохого. Но что с того?
Что меня поражало в Элизабет больше всего, так это ее несгибаемая сила духа. Себе она никогда не лгала, не страдала комплексами, свойственными женщинам ее возраста и времени; она изжила их посредством своего ясного, мощного ума.
Прошел без малого год после нашего знакомства. Поймав себя на том, что слишком долгая и тесная связь с одной и той же женщиной, какой бы интересной она ни была, мне немного надоела, я начал осматриваться по сторонам в поисках человека, который мог бы в Элизабет влюбиться и хотя бы ненадолго отвлечь ее от меня. Мужчин, которые из кожи вон лезли, чтобы ей понравиться, было сколько угодно. Но все они были ей безразличны.
Меня порой искренне удивляло, с каким равнодушием относилась она к мужчинам, которые мне представлялись незаурядными.
– Если ты меня разлюбил, – с горечью сказала она мне однажды, – тебе совсем не обязательно с кем-то меня сводить. Когда не захочешь больше иметь со мной дело, я сама себе кого-нибудь найду, а если не найду, буду жить, как раньше, до тебя.
С Элизабет мы, в конце концов, разошлись, хотя ни я, ни она никакого желания расставаться не испытывали. Разошлись вот почему. Элизабет понимала, что я принадлежу к числу тех мужчин, которые в силу самых разных обстоятельств не могут долгое время любить одну и ту же женщину. Я же придерживался того мнения, что, коль скоро наша жизнь сама по себе разнообразна, переменчива, непредсказуема, для меня самое важное встретить побольше разных людей, и прежде всего женщин, которых, казалось мне, я знаю гораздо хуже, чем мужчин. Я считал для себя совершенно неприемлемым оставаться безучастным к заигрыванию представительниц прекрасного пола, тем более если они молоды, умны, красивы, соответствуют моим вкусам и запросам.
Почти все они, чего греха таить, кокетки и развратницы, но меня их кокетство, их обхождение умиляет, доставляет удовольствие. При желании я мог бы составить целый том из коротких набросков о многих из них, но вряд ли это будет кому-то интересно – уж больно все они одинаковы.
Я мог бы сколько угодно убеждать себя, что, раз их так много и все они на одно лицо, мне вряд ли стоит их менять, и следует поэтому изо всех сил бороться с искушением. Вместе с тем пристрастие к красоте, веселью, молодости бередит душу, жить и любить хочется еще сильнее.
Вдобавок, как хорошо всем известно, успех, или слава, или богатство, или призвание, или оригинальность обладают определенным магнетизмом, который – нередко безнадежно и даже фатально – притягивает к себе всех тех, кто падок на все эти неотъемлемые признаки удавшейся жизни. Говоря о себе, я не мог бы в точности определить, что увидел во мне мой читатель. Однако сразу же после выхода в свет второй книги (и даже раньше) у меня появилась масса поклонников моего дарования, мужчин и женщин, людей молодых и старых.
Ко мне стали приходить сотни писем, в большинстве своем, правда, довольно бессмысленных, и я ими постыдно пренебрегал. Число моих почитателей обоих полов, что без приглашения являлись ко мне домой, росло с каждым днем. Среди них попадались иногда и те, кому было что сказать и кому, несмотря на довольно холодный прием с моей стороны, удавалось найти со мной общий язык. Имелись среди моих поклонников и люди известные, светские львицы или властители дум, которые были мне интересны и которым я наносил визит сам.
В результате я близко сошелся с некоторым количеством мужчин и женщин, многие из которых были для меня очень важны. В то же время встречались среди них и такие (женщины в первую очередь), знакомство с которыми оказывалось для меня весьма обременительным.
В то же время у умной, обаятельной и известной женщины, которой увлекся я и которая очень увлеклась мной, возникало немало серьезных проблем. Со временем, хотя я заранее предупреждал ее о последствиях, объяснял, что я собой представляю, она убеждалась, какая опасность грозит женщине, влюбившейся в мужчину, который является публичной фигурой и которого невозможно переделать.
Хорошо знаю (или догадываюсь), что есть люди, мужчины и женщины, которым удается не идти на поводу у своих почитателей, которые не сходятся с кем придется. По природе своей эти люди независимы. Тому же, кто падок на красоту и шарм слабого пола, кто прельстился самыми разными, не похожими друг на друга красавицами, такая независимость дается нелегко.
Взять хотя бы меня. Как бы я не убеждал себя, что все женщины одинаковы, в моей жизни появлялась очередная возлюбленная. Она мало отличалась от тех, кто был до нее и будет после и все же чем-то неуловимым: цветом глаз, размахом бровей, движением рук, походкой, тем, как она морщит в улыбке губы, – всем своим видом она мгновенно разбивала в пух и прах всю мою самоуверенность, все мои посулы.
В самом деле, если смотреть на вещи с химической или биологической точки зрения, мои заверения – это не более чем жесткое противостояние атомов, из которых я состою. Одни атомы выступают за воздержание, за пренебрежение женщинами, другие голосуют за прямо противоположное и, возможно, одержат победу. И тут неожиданно, вопреки всем ожиданиям, появляется нечто под названием «смазливая девица». И что же мы видим: партия, одержавшая победу, низложена и отправлена в отставку.
Иными словами, каждый атом нашего внутреннего космоса одумается, откажется от своих прежних взглядов и решит: самое лучшее не то, что было, а то, что есть теперь. Решаем не мы, а они, атомы, сколько бы мы ни говорили: «Мы приняли решение. Мы принимаем решение». Вот я и задаю вопрос всем чистосердечным людям: что они в этих обстоятельствах думают о таком решении, как к нему отнесутся, хорошо или плохо?
Если отвлечься от теоретических рассуждений, то надо признать, что в подобной ситуации Элизабет и правда пришлось нелегко. Первое время она о моем непостоянстве даже не подозревала, и только когда узнала (и осознала), что в действительности происходит, и начались ее страдания.
Однако она была не из тех, кто устраивает истерику по пустякам, кто делает все возможное, чтобы привязать меня к себе, – чего бы ни стоило ее великодушие. Ничего подобного! Она ко мне не переезжала, снимала поблизости собственную квартиру и нередко там уединялась поразмыслить и поработать в одиночестве.
Иной раз, когда я нервничал или не обращал на нее внимания, она уговаривала меня поехать куда-нибудь на выходные. Быть может, в другой город, чтобы, как она выражалась, «я тебе окончательно не надоела». Бывало, она и сама уезжала из Нью-Йорка повидаться с бывшими сокурсницами.
Родительский дом она не любила, однако, случалось, ездила навестить родителей или тетушку из Коннектикута, а по возвращении, спустя неделю-другую, упрекала меня в том, что в ее отсутствие я плохо себя вел. Редко писал ей, а если писал, то совсем не те письма, которые она от меня ждала. Ведь она так меня любит. Зачитывается моими книгами. Неужели и она, и ее помощь значат для меня так мало?
Беспокоилась за свое будущее. Что из нее выйдет? Какая же она дура: связалась с мужчиной, которого однолюбом никак не назовешь. Как-то раз ей сказали, что меня видели в городе с какой-то дамочкой. Кто она? Почему я ее с ней не познакомлю?
Однажды она нашла у меня несколько фотографий моих знакомых женщин с дарственной надписью.
– Что тут скажешь! – с грустью вздыхая, сказала она. – Плохо, когда у тебя есть даже одна соперница. А если таких соперниц пятьдесят?
Я пытался втолковать ей, что это старые фотографии, – напрасно.
– Вздор! – воскликнула она. – Новых увлечений у тебя во много раз больше, чем старых!
Сколько же мы с ней спорили о красоте, сексе, соблазнах новых увлечений. Она нападала, я защищался, однако в голову мне ничего не приходило, кроме одного: красота неотразима и необъяснима. Она же настаивала на том, что безумная страсть может оказаться гибельной, не даст мне работать, развратит мое воображение, лишит меня способности здраво рассуждать о жизни. Мне что, никогда не приходило это в голову? – допытывалась она. Что ж, пусть думает что хочет, говорил я себе. Вместе с тем я стал замечать: если я проводил с ней время, то исключительно, чтобы доставить удовольствие ей.
Ее же больше всего огорчало другое. Через девять-десять месяцев после нашего знакомства я к ней охладел, хотя при встрече не скрывал своей радости, особенно когда она возвращалась в Нью-Йорк после недолгой отлучки. Сколько раз она повторяла, что возьмет себя в руки, соберется с силами и меня бросит, ведь она мне больше не нужна. Что ж, я не мог не признать, что она права.
Но ведь не бросила же! Как правило, сказав все, что обо мне думает, Элизабет, совершенно преобразившись, заявляла: все это не имеет никакого значения, она же меня любит. Главное, чтобы я был с ней ласков, не жесток – и все будет в порядке. Нет ничего лучше, чем быть со мной рядом. Лишь бы только трудиться вместе со мной над моими книгами! Как бы ей хотелось, говорила она, стать феей, забиться ко мне в карман и оттуда наставлять меня громким, пронзительным повизгиванием. Не знаю, как у нее, но у меня тогда сохранилось только одно чувство: дружеской преданности, – но и это ее какое-то время вполне устраивало.
Из-за моего непостоянства, из-за растущего к ней безразличия, которое проявлялось в том, как тяжело я вздыхаю, как с трудом сдерживаю зевоту, особенно когда мы долгое время не расставались, она приходила в ярость, замыкалась в себе. И постепенно начала в свою очередь терять ко мне интерес – во всяком случае, поняла, что надеяться ей не на что.
– Ты не виноват, Мед, – с грустью говорила она, когда ей становилось невтерпеж. – Я тебя понимаю, ты ничего не можешь поделать, я же знаю. Виновата я. Я сдуру тебя не отпускаю. Я тебе нравлюсь, ради меня ты на все готов. На все, кроме одного, того, что я хочу, того, что мне от тебя нужно, – любить меня. Не проси у меня прощения, Мед, я не умру, я справлюсь, да у меня и нет другого выхода. Но я должна была тебе это сказать, для меня это не шутки.
И на ее светло-голубые, в упор смотревшие на меня глаза наворачивались слезы. Я же чувствовал себя последним негодяем и все-таки при всем желании не мог заставить себя быть тем, кем она хочет, делать то, о чем она больше всего мечтает.
Примерно в это время – осенью 1913 года, если не ошибаюсь, – в нашей с ней жизни появилась некая личность, которая пообещала (а вернее, пригрозила) разом решить все наши проблемы. И хотя моя гордость была немного ущемлена, когда выяснилось, что Элизабет так легко удалось найти мне замену, меня все же утешала мысль, что ее чувства пробудились вновь и она сможет расплатиться со мной моей же монетой.
Познакомились они за ужином в ресторане, куда Элизабет пригласил ее давний поклонник, тогдашний генеральный прокурор штата: оказавшись по делам в Нью-Йорке, он ее отыскал. По всей видимости, в городе у него было много знакомых, и несколько его приятелей, которые в тот вечер ужинали в этом же ресторане, сели за их столик. Среди них был некто майор Б. и его друг Ричард Плейс, который совсем недавно вышел в отставку в чине капитана и собирался на Филиппины по заданию крупной сталелитейной корпорации. Этот совсем еще молодой капитан – призналась мне, вернувшись в тот вечер из ресторана Элизабет, – ей очень приглянулся.
По ее словам, это был высокий, худощавый, крепкого сложения мужчина, который где только не побывал: и в Техасе, и в Мексике, и в Канаде, и на Филиппинах, и в Китае и теперь, через несколько месяцев, опять едет на Филиппины. Его жена умерла год назад, – и он отправил еще совсем маленькую дочку в Техас к своей сестре. Как видно, Плейс произвел на Элизабет впечатление, и когда я на следующий вечер или через пару дней принялся расспрашивать ее про капитана, она призналась, что он ей понравился, даже очень. Он же, с ее слов, смотрел на нее влюбленными глазами – «тоскливым взглядом», как она выразилась. Плейс, одним словом, был безупречен, и, разумеется, ему нужна была женщина, которая «его понимает».
– Такая, как ты, например, – сухо отозвался я. Как же порочен, жаден, бездумен и завистлив бывает иной раз человек! И в этом нет ничего удивительного.
– Какой вздор ты мелешь, Мед! – презрительно и в то же время как-то задумчиво возразила она. – Ну как ты можешь так говорить? Как будто с тобой может кто-то сравниться!
С каким же пылом она произнесла эти слова! Не случайно – сразу же подумалось мне. Ха-ха. Стало быть, и правда увлеклась. Чего только не распознаешь по голосу, по тону, по тому, как человек держится, говорит…
– Нет, я тебя не ругаю, не думай, – продолжил я. – Но я прекрасно помню наш разговор. Сколько дней прошло с тех пор, как ты сказала мне, что найдешь кого-то другого, что у тебя нет другого выхода?
– Да, помню, – ответила она, – но ведь это были пустые слова. Будто не понимаешь, что ты для меня значишь. Будто тебе невдомек, кто для меня самый важный, самый первый человек на свете. Зря ты беспокоишься, сам ведь знаешь, что был бы рад, если б я кого-то себе нашла.
– Ты так считаешь? Ну да ладно. Скажи-ка лучше, что у тебя с капитаном.
– С капитаном? Ничего особенного, просто мне он нравится, а я ему. Я это сразу заметила. Я ему нужна, он понимает такую женщину, как я. Но ведь это ничего не значит. Говорю я о нем только потому, что человек он очень глубокий. Он сознает, какая скверная штука жизнь, он, полагаю, много чего в жизни испытал, но преодолевает трудности, ведет себя как настоящий солдат, потому что иного пути нет. Он – человек действия, а не сторонний наблюдатель вроде тебя.
– Вот как? – Я хмыкнул; ее слова меня отчасти разозлили, отчасти позабавили. – Сторонний наблюдатель, говоришь? Мои акции, я вижу, стремительно падают.
В действительности, однако, я вовсе не злился – просто ее подзуживал. Все эти разговоры о моих возможных соперниках были неиссякаемым источником для всевозможных шуточек и подначек.
– А он, значит, человек действия? – продолжал я, не дождавшись от нее ответа. – Что ж, ты делаешь успехи – всего за один вечер… Пора мне, стало быть, собирать вещички, отправляться в дальнюю дорожку…
– Перестань! Не валяй дурака! – запальчиво, с неожиданным жаром возразила она. – Я прекрасно знаю, что у тебя на уме, прекрасно знаю, как ты себя ведешь. Мы оба знаем. Я что же, не могу, по-твоему, увлечься интересным мужчиной, раз ты так со мной поступаешь? Тебе не на что жаловаться, я ведь тебе не докучаю, не читаю мораль. Что бы ты там ни думал, увлечение – это одно, а близость – совсем другое. Говорю же тебе, он умный человек, он – личность. Очень может быть, я никогда его больше не увижу, но от этого он нравится мне ничуть не меньше.
– В таком случае ты скорее всего с ним увидишься, я в этом ни минуты не сомневаюсь и очень надеюсь, что так оно и будет. Мне нравится, что ты увлеклась, это повышает тонус. Раскраснелась, словно только что в «поцелуи» играла.
Так оно и было. Щеки горят, глаза сверкают.
– Тоже скажешь, – откликнулась она, обернувшись к зеркалу, перед которым раздевалась. – Ты мне надоел. Наскучил.
– Кстати, – засмеялся я, поддразнивая ее, – скажи, из ресторана вы вышли вместе, ты, он и Б.? Или с Б. ты рассталась и позволила Плейсу проводить тебя до дому?
– Нет, умник, я с Б. не рассталась, и Плейс не отвез меня домой, хотя, по-моему, был очень не прочь. Но тебе-то какое дело? Ходишь куда вздумается, я ж тебе допрос не учиняю, верно?
– Я и не думал тебя допрашивать, – ответил я. – И вовсе с тобой не пререкаюсь. Мог бы и отвезти. По-моему, капитан тебе очень понравился, да и он, если еще в тебя не влюбился, обязательно влюбится, и в самое ближайшее время.
– Уже влюбился, к твоему сведению, – возразила Элизабет, – и если хочешь знать, я могу вертеть им как захочу. Чувствую. А почему бы и нет? Может же в меня влюбиться мужчина, нет разве? Ты меня утомил. Поговорили, и хватит. – И она встала, словно собираясь выйти из комнаты.
Я решил, что не буду больше касаться этой темы. Веду я себя с ней жестоко, подумал я, и был прав. После всего того, в чем я ей признался, странно было, что она меня еще терпит, что верна мне, что от меня без ума. Господи, почему? Тайна сия велика есть!
Обаяние, оригинальность нового знакомого привлекли внимание Элизабет, и она не могла не думать о нем, постоянно вспоминала про него, как вспоминают интересную книгу или пьесу.
– Знаешь, – сказала она мне как-то утром, когда о нем зашел разговор, – он остановился в гостинице. Они с майором временно сидят без дела, обговаривают подробности предполагаемого путешествия. Продлится оно пять лет. У него такие большие карие пытливые глаза. Он такой славный, так к себе располагает.
И вот как-то вечером она призналась, что он ей звонил позвать в ресторан, и она собирается, если я, конечно, не против, приглашение принять. А может, я составлю ей компанию? Ей так хочется побольше о нем узнать. И потом, хожу ведь я иной раз в ресторан без нее. Какие могут быть возражения?
Я ответил, что не возражаю, но сам не пойду. Меня же он не приглашал, а если и пригласил бы, я все равно бы не пошел.
– Не хочу мешать вашим любовным играм, Бетти.
В первый момент она буквально зашлась:
– Какие еще любовные игры? Что за вздор? И тебе не надоело?
А потом призналась, что уже приняла его приглашение, ведь это всего лишь ужин в ресторане, ничего больше. Сказала, что собирается рассказать ему о себе и обо мне, какое место я занимаю в ее жизни. Расскажу все, что понадобится. Я попросил ее этого не делать, и она ушла, уделив своему туалету повышенное внимание.
После этого ужина она увлеклась капитаном еще больше. «Ни на кого не похож, какой он изысканный, как держится, какой проницательный, какой деловой. И знаешь, он разбирается в женщинах, им сочувствует». К тому же он, как никто, ее понимает. У нее с ним много общего. Нет, на меня он не похож. Я жесткий, холодный, а он мягкий, веселый, сердечный. И умеет прощать.
– В отличие от тебя, – отметил я.
– Чепуха! Уж я-то прощать умею – не то, что ты. Так вот…
И она продолжила расписывать уникальные черты своего нового поклонника, а я подумал: наконец-то она нашла человека, который мог бы меня заменить.
Прошло какое-то время, о капитане она больше не вспоминала. Я слышал, что его нет в городе. Позднее она уехала в Бостон, где пробыла несколько недель, причем на этот раз писала реже и без особых эмоций, что было на нее не похоже. По возвращении, когда я ее упрекнул, рассмеялась: дел было невпроворот. А спустя несколько дней я без предупреждения пришел к ней и обнаружил, что она наряжается к ужину. Одевалась долго и со вкусом и сказала, что приглашена в ресторан. Мой приход, похоже, ее смутил – отчего, непонятно.
Я сообразил, что происходит: она, судя по всему, всерьез увлеклась этим мужчиной, и он за ней ухаживал. В этот раз о нем речи не было. Я отшутился – и она тоже. В дальнейшем я заметил, что она нервничает, ей не хотелось, чтобы я подумал, будто она от меня уходит. Да и она сама старалась об этом не думать. Как же печальна жизнь! Она все еще меня любила и боялась, что я обижусь и от нее уйду.
По сути дела, как я вскоре выяснил, хотя подозревал об этом и раньше, она мучилась из-за своего чувства ко мне, от его тщетности, от желания поскорей покончить со своими страданиями, сомнениями, мыслями о том, как ей поступить, чтобы сохранить наши отношения.
Элизабет колебалась. Возможно, она была почти уверена, что со временем увлечется этим человеком еще больше. Одновременно с этим она еще не настолько в него влюбилась, чтобы расстаться со мной. Как же это все трогательно, я ей искренне сочувствовал и в то же время не испытывал к ней никакой жалости. Из-за извращенности своего нрава я – хотелось мне этого, или нет – был не способен удержать ту, кого удержать бы стоило.
Помню, как-то вечером мы ужинали на балконе ресторана в верхнем Бродвее, в одном из тех немногих тогдашних ресторанов, где можно было сидеть не только внутри, но и снаружи. Помню шум и суету Бродвея под нами, ее платье цвета парижской лазури и лихо заломленную шляпку, что так не вязалась с воздержанностью, рассудительностью, которую она порой демонстрировала. Ее глаза искрились какой-то электрической голубизной, черты лица казались еще изысканнее, живее, чем всегда.
– Ах, Бетти, – в шутку сказал я, – ты же знаешь, что такое женщины. Все они непостоянны, все они одинаковы – не уверены в себе, сами не знают, что у них на уме. Когда Плейс вернется, ты меня бросишь, сама же знаешь. Конечно, бросишь. Ты ведь любишь его, и ты такая же ветреная, как я.
– Немедленно прекрати! – взвизгнула она дрожащим от гнева голосом. – Слышишь! Терпеть не могу этих разговоров. Ты не любишь меня. Так зачем же тогда мучаешь? Я тебя любила и люблю, а ты никогда меня не любил. Ты никого не любишь, меня же терпишь только потому, что жалеешь. Так зачем меня мучить? Да, он скоро вернется, и мы увидимся. Все это время мы с ним переписывались, так и знай! Что ж теперь? Да, он мне нравится; во всяком случае, он добрый, сердечный человек. Он не горная вершина, где лежит снег. Он – человек.
– Ох, Элизабет! – Я вздохнул.
– Да, именно так. Это чистая правда, и ты это знаешь. Ты мучаешь людей, даже когда этого не хочешь. Какие только сны про тебя мне не снятся!
– Бетти, за что ты меня так ругаешь? Уверяю тебя, не я во всем виноват. Ты знаешь жизнь не хуже, чем я. Не могу же я любить по принуждению, правда? А ты можешь? Ты когда-нибудь любила человека, потому что он этого хочет? Хотел бы я посмотреть, как это у тебя получается. Подумай обо всех тех, кем ты пренебрегла и кого отвергла! За что? Почему?! Разве ты сама когда-нибудь любила через силу? Было такое? Да ты сама холодна и бесчувственна, пока кого-нибудь не полюбишь. Зачем говорить мне такие ужасные вещи? Нам же с тобой было так хорошо! С чего ты взяла, что я не могу тебя полюбить?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.