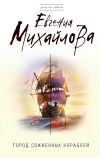Читать книгу "Как убить рок-звезду"
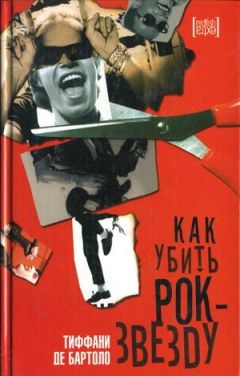
Автор книги: Тиффани де Бартоло
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Тиффани Де Бартоло
Как убить рок-звезду
Мы делатели музыки, мечтатели мечты.
Бродяги одиноких волноломов.
Мы, сидя у затерянных потоков,
Лишь с деятельной музыкой на ты.
Пусть нами неудачный мир земной
Отринут вместе с бледною луной.
Но мы его пытаемся трясти
И потрясать, чтоб – двигая – спасти.
Артур О'Шонесси
Посвящается «делателям музыки» и «мечтателям мечты».
А также Скотту
с любовью и благодарностью
Ребенком, взлетая над вами.
Полет словно чудо приемля,
Я солнце потрогал руками,
Но рухнул на грубую землю.
Вернулся, уже обессилев,
А вы не сумели вглядеться,
Увидеть обугленных крыльев,
Разбитого вдребезги сердца.
Но если вам скажут, что с моста
Я лебедем прыгнул, – не верьте.
Ведь больше, чем жизни несносной,
Боялся я все-таки смерти.
Когда же исчезну, как не был,
Я стану, чтоб вы не забыли,
Вам петь, пролетая по небу,
Как в призрак меня превратили.
Дуглас Дж. Блэкман. «День, когда я стал призраком»
Часть первая
Спасите Спасителя
Автор выражает признательность за разрешение использовать следующие материалы:
«День, когда я стал призраком» Дугласа Дж. Блэкмана
1977 Soul In The Wall Music.
Все права сохранены.
Используется с разрешения владельца.
«Элиза» Пола Хадсона
2001 Scrawny WhiteGuy Music
Все права сохранены.
Используется с разрешения владельца.
«Ржавчина» Лоринга Блэкмана
2000 Two Fathoms Music
Все права сохранены.
Используется с разрешения владельца.
«Тысяча способов» Лоринга Блэкмана
2002 TWo Fathoms Music TWo Fathoms Music
Все права сохранены.
Используется с разрешения владельца.
«Спасите Спасителя» Пола Хадсона
2002 Scrawny WhiteGuy Music
Все права сохранены.
Используется с разрешения владельца.
Цитата из романа «Аллилуйя» Джакоба Грейса.
Все права сохранены.
Используется с разрешения владельца.
* * *
Даже детское, самое первое свое воспоминание я не вижу, а слышу. Мне четыре года, и мы возвращаемся домой из какой-то загородной поездки. Я стараюсь уснуть на заднем сиденье, и мои глаза крепко закрыты. Шестилетний брат уже спит и во сне толкает меня ногой, и я как раз собираюсь толкнуть его в ответ, когда меня отвлекает песня, звучащая из приемника. Ровный мужской голос поет о пони, который убежал из дома и пропал в снегу. А может, пропала девочка, которая погналась за пони, или вообще никто не пропал. Пони и девочка, возможно, просто хотели сбежать с фермы. Этого я точно не помню. Но помню, что я разревелась так сильно, что отцу пришлось остановить машину, и мама потом долго держала меня на коленях и утешала.
Песня была глупой, но когда я слушала ее, я что-то почувствовала. И хотя тогда, я не могла это сформулировать, именно когда ты что-то чувствуешь – не важно что, – ты понимаешь, что жив.
И после этого ребенком я постоянно сидела у радио и приходила в восторг, или грустила, или просто взрослела, слушая все новые песни.
А когда я была подростком, я лежала на полу и знала, что моя жизнь разбита на мелкие кусочки, и только голос одного из моих героев мог собрать ее обратно в одно целое.
Знаю, это звучит глупо, но мне кажется, сила музыки в том, что она проникает в тебя и изнутри прикасается к самым глубоким ранам.
Хорошие песни, как и добрые боги, не дают тебе пропасть. А когда ты никак не можешь найти свою дорогу, один из них спускается к тебе и показывает, куда идти.
Дуг Блэкман даже ходил как бог. Я стояла у лифта и смотрела, как он входит в отель. Взмахи рук напоминали метроном, спина была прямой и надменной, а немигающий взгляд вбирал в себя все, что было перед ним, и вокруг, и вдали.
Он завернул к стойке администратора, чтобы отдать какой-то конверт, а еще через секунду подошел к тому же лифту, где стояла я, и остановился рядом, пытаясь найти что-то в нагрудном кармане. От него пахло красным вином и сигаретами, а в темных волосах было много седины.
«Спокойно, – приказала я себе. – Перестань пялиться. Ты не маленькая». Я была не готова к тому, что он придет без свиты и что мне удастся оказаться так близко к нему. Вот он – стоит совсем рядом, и наши плечи почти соприкасаются, – тот самый пророк из радиоприемника, который научил меня всему, что я знаю о жизни, любви, политике и поэзии, и который был, по моему убеждению, величайшим музыкантом и певцом в истории рок-н-ролла.
В жизни Дуг выглядел на все свои пятьдесят семь лет. Его лицо было похоже на горную цепь: глубокие расселины на щеках – следы тридцатилетних концертных странствий, серые глаза, как будто вырезанные из гранита, маленькая щербинка на переднем верхнем зубе, которую он не дал себе труда поправить. Мятая одежда выглядела так, словно он отобрал ее у бродяги, и делала его менее строгим и более доступным.
У меня была заготовлена целая речь на случай, если удастся подобраться к нему достаточно близко. Я собиралась сказать Дугу, что за все мои двадцать шесть лет ничто на свете не трогало и не вдохновляло меня больше, чем его музыка. Еще я собиралась сказать, что последние десять лет он был для меня и отцом и матерью и что его песня «День, когда я стал призраком» стала для меня не просто песней, а другом, который держал меня за руку и утешал, когда мне было одиноко.
Конечно, он уже сльппал все это тысячу раз.
Я не успела сказать и слова, когда он вытащил из кармана колоду карт и протянул ее мне:
– Выбери карту.
Я повернулась и спросила:
– Чего?
Несомненно, за последнюю тысячу лет это было самое идиотское начало для разговора с богом и героем. Я немедленно захотела взять слово обратно и сказать что-нибудь уместное и глубокомысленное. Этот человек открыл мне истину, а я в ответ лепечу что-то малограмотное.
– Выбери карту, – повторил Дуг, протягивая мне разложенную веером колоду.
Я таращилась на него и изо всех сил старалась хоть что-то вымолвить.
Здесь надо заметить, что я зарабатываю себе на жизнь как раз разговорами с людьми. Я журналист. Очевидно, боги и герои действуют на меня вот таким отупляющим образом.
– Ну, давай! – поторопил Дуг.
Я выбрала одну карту из середины колоды, взглянула на него, надеясь получить какое-то объяснение, и, не дождавшись, посмотрела на карту – это была тройка треф.
– Лифт вообще не двигается, – пожаловался Дуглас. – Платишь четыре сотни за ночь и по десять минут торчишь в холле. Теперь напиши свое имя на карте. Можешь не закрывать ее от меня. Ручка есть? Напиши имя и вложи карту обратно в колоду.
Мне это снится. Это было единственное объяснение происходящего сюрреализма, которое приходило мне в голову. Дуг Блэкман показывает мне карточные фокусы…
– У-те-бя-есть-руч-ка? – повторил он, как будто говорил с иностранцем.
В моей сумке оказалась только ручка с ученическими фиолетовыми чернилами. Я прокляла себя за то, что не купила более уместные черные.
Я поставила сумку и печатными буквами написала на карте свое имя. Дуг заглядывал мне через плечо и наверняка заметил, как дрожит моя рука.
– Элиза Силум, – прочитал он. – Ты из этого города, Элиза?
Я кивнула.
– Верни карту обратно в колоду.
Я положила.
«Ты знаешь, кто я. – Это не прозвучало как вопрос. Он профессионально тасовал карты. – Ты была на концерте?
Я опять кивнула. Я вела себя как полная идиотка и понимала, что, если я немедленно что-нибудь с этим не сделаю, все кончится быстро и плохо.
– Теперь сними верхнюю карту.
Верхняя карта оказалась десяткой червей, и я пришла в отчаяние.
Я испугалась, что у Дуга, что-то не получилось и теперь мне придется сообщить ему об этом. Он тут же успокоил меня:
– Это не та, я знаю. Просто держи ее в руке рубашкой, кверху.
Я держала карту, а Дут делал рукой движения, будто посыпая ее каким-то невидимым порошком.
– Мои внуки балдеют от этого, – сообщил он.
У него была шершавая, немолодая и молочно-белая рука. Я подумала, что она, наверное, холодная на ощупь.
– Все. Теперь смотри.
Я перевернула карту. Это была трефовая тройка с моим именем, написанным неприличными фиолетовыми чернилами. Я засмеялась и на секунду забыла, кто стоит рядом со мной.
– Черт! Как вы это сделали?
Дуг пожал плечами.
– Музыка, магия – это одно и то же. Немного от фокуса и много от веры.
Я зачарованно смотрела на него.
В это время открылась дверь лифта, и Дуг спросил:
– Хочешь потрахаться? Ведь ты для этого здесь меня ждала?
Он произнес это так, будто предлагал взять еще одну карту или угощал жевательной резинкой. И наверное, я должна была почувствовать некоторое разочарование. Честно говоря, я и почувствовала некоторое разочарование. Я знала, что Дуг женат, а герои и боги, кроме римских и греческих, конечно, не должны быть прелюбодеями. Естественно, я не была настолько наивна. Я читала «Молот Бога» и «Никто не выйдет отсюда живым». И я слышала истории, о гастрольной жизни. И еще я знала, что, хотя принято притворяться, будто все дело в сексе, на самом деле – все от одиночества.
– Так как? – спросил Дуг, заходя в лифт.
Я отрицательно покачала головой. Я шла сюда не за сексом. Я шла за тем, чтобы меня научили, как жить. К тому же Дуг был как отец для меня, и ни при каких обстоятельствах я не смогла бы заниматься с ним сексом.
Я на секунду подумала, не признаться ли ему, что я журналист, но вспомнила: он никогда не разговаривает с репортерами. А потом неожиданно для себя самой выговорила:
– У меня сохнет душа. – Отчаянная попытка объяснить, зачем я пришла к нему.
Его брови взлетели вверх, и он поперхнулся.
– У тебя сохнет душа?
Тут что-то нашло на меня, и я разревелась.
Дуг прижимал пальцем кнопку лифта, не давая дверям закрыться, а я, всхлипывая и захлебываясь слезами, но ни на секунду не прерываясь, выложила ему все: что должна немедленно уехать из Кливленда или умру здесь, и другого выхода у меня нет. Что мои родители погибли, когда мне было четырнадцать лет; а в шестнадцать я неумело попыталась перерезать себе вены; что мой брат с женой переехали в Нью-Йорк несколько лет назад, а Адам, с которым я жила шесть лет, сбежал в Портленд со своей ударной установкой и с Келли – официанткой из «Старбако»; и что работа в отделе досуга местной газеты совсем не то, о чем мечтает начинающий музыкальный обозреватель; что на счете у меня всего четыре сотни долларов; и что в довершение всего мы, черт возьми, имеем президента, которого на самом деле не выбрали. И я была абсолютно одинока. Более одинока, чем нормальный человек может вынести.
И конечно, я могла продолжать работать в этой никакой газете и жить в своей никакой квартире. Со временем найти себе никакого мужа и родить несколько детей; привыкнуть к провинциальной тоске и втянуться в нее, как и все окружающие меня, и, в конце концов, оказаться на шести футах под землей, даже не заметив этого.
Только я хотела большего.
И у меня была надежда.
«Ведь больше чем жизни несносной, боялся я все-таки смерти» – я предполагала, что, узнав строчку из своей знаменитой и пронзительной песни, Дуг скорее проникнется моими проблемами.
В лифте заливался тревожный звонок, но он как будто не слышал его. Он долго и оценивающе рассматривал меня, а потом сказал:
– Как, черт возьми, могу я сказать «нет» таким глазам?
Я посмотрела в пол и попыталась улыбнуться.
– Ну ладно, – вздохнул Дут, – заходи, Элиза Силум.
Я глубоко вздохнула, шагнула в лифт и немедленно уставилась на бегущие над дверью номера этажей. Мы поднимались на одиннадцатый.
Помню, как я успела подумать, что за последние десять лет Дуг Влэкман уже второй раз спасает мою жизнь.
* * *
В тот день, когда я получила работу в журнале «Соника» и уже не сомневалась, что перееду на Манхэттен – ровно через три месяца после того, как Дуг дал мне интервью, я твердо решила, что полечу, а не поеду в Нью-Йорк. Когда мой брат Майкл услышал эиу новость, он немедленно заказал мне билет на беспосадочный рейс из Кливленда в аэропорт Кеннеди и в придачу к этому прислал набор кассет под названием «Ты умеешь летать: как преодолеть страх перед полетами». Кассеты предлагали использовать специальную дыхательную технику и при этом мысленно рисовать себе картины спокойных взлетов, гладких рейсов и мягких посадок.
Вся эта медитация казалась вполне убедительной, когда я проделывала ее дома на диване, но я с ужасом думала, насколько бесполезной она окажется в случае захвата самолета террористами или отказа обоих двигателей.
– Если я могу летать – значит, и ты можешь, – Внушал мне Майкл по телефону.
– Авиация – самый безопасный вид транспорта в мире. – добавляла в трубку его жена Вера.
В день отъезда я проснулась с чувством заключенного, которого должны отпустить под залог после долгого пребывания в тюрьме. Двенадцать лет я даже близко не подходила к аэропорту и теперь не решалась оглянуться вокруг себя, боясь каких-то страшных напоминаний.
Мне удалось дойти до выхода на посадку, не поднимая глаз и сфокусировавшись на земле под ногами, но потом я случайно выглянула в окно. Как только увидела самолет, меня затрясло, а в животе возникло такое чувство, будто туда бросили таблетку растворимого шипучего аспирина. Я опять увидела себя стоящей между Майклом и нашей тетей Карен: мне четырнадцать лет, и мы провожаем родителей, которые улетают во Флориду, чтобы отметить семнадцатую годовщину свадьбы.
Я помню, что мне очень хотелось увидеть их лица еще раз. но никак не удавалось найти их в маленьких иллюминаторах самолета.
Я помню, как боялась, что никогда не увижу их снова.
Авария произошла из-за ошибки пилота. Это стало известно гораздо позднее. На первом двигателе отвалилась лопасть винта, и компрессор вышел из строя. Если бы пилот отключил этот двигатель и немедленно пошел на посадку, то, по утверждению Национального совета по безопасности на транспорте, все закончилось бы благополучно. Но по ошибке вместо неисправного первого двигателя летчик отключил второй. Когда он это понял, было уже поздно. Самолет врезался в землю на пустынном поле к северу от Акрона. Выживших не было.
В аэропорт имени Кеннеди меня должен был доставить «Боинг-777». Тогда, в июне 2000 года, страшная авария с его участием была еще впереди. Но в последнюю минуту – по техническим причинам, которые нам не потрудились объяснить, – он был заменен на «Боинг-737», выглядевший так, будто на нем мог летать еще Джим Моррисон.
СПРАВКА: Джим Моррисон умер 3 июля 1971 года.
Иллюминаторы были грязными, корпус давно следовало покрасить, и, естественно, напрашивался вывод, что если авиакомпания не может следить за внешним видом самолета, то нет никакой надежды, что она содержит в порядке гидравлику.
Я очень хотела полететь этим рейсом – хотя бы затем, чтобы доказать себе, что у меня есть какое-то минимальное мужество. Но с другой стороны, рассуждала я, существует очевидная грань между мужеством и глупостью, и ни один человек в здравом уме не доверит свою жизнь абсолютно незнакомым людям, в компетентности которых он совсем не уверен, если на расстоянии всего в четыреста шестьдесят семь миль его ожидает блестящее будущее.
Я решительно порвала свой посадочный талон и выбежала из аэропорта, остановившись лишь на минуту, потому что меня стошнило прямо под ноги носильщику в щегольской униформе, стоявшему у выхода.
– Мать моя женщина! – вздохнула Вера, когда я по телефону сообщила ей новость. – Ведь всего чуть-чуть не хватило.
– Я беру билет на автобус, – сказала я, – и приеду завтра вечером.
* * *
Автобус отправлялся в семь утра и делал остановки в нескольких городах между Кливлендом и Нью-Йорком. Я сидела прижавшись лбом к стеклу, и мне казалось, что я смотрю слайды на испорченном проекторе, постоянно показывающем только две или три одни и те же картинки: одинаковые заведения фаст-фуд, одинаковые торговые центры с парковками, одинаковые универсамы «Уол-Март».
Я представляла себе, что в этих городах живут такие же люди, как я – одинокие и мечтающие выбраться из этой тоскливой скуки, когда единственное развлечение – это покупка продуктов в одном месте и за один раз на всю неделю, но они или не знают, как это сделать, или у них не хватает смелости.
Дуг Блэкман считал, что в моих мучениях виновата – отчасти – гомогенизация Америки.
– Она разрушает нашу культуру, нашу индивидуальность и убивает нас изнутри, – говорил он мне тем вечером в Кливленде. – А мы молча смотрим, как это происходит. И стараемся даже не думать об этом, потому что думать об этом слишком мучительно.
Я попросила Дуга поговорить о музыке, и он неожиданно завелся.
– Я и говорю о музыке. Популярная музыка – это микрокосм культуры, Элиза. В ней отражается ментальность нации. Скажи мне, когда ты последний раз слышала по радио что-нибудь по-настоящему неординарное?
Из страстной проповеди Дуга можно было сделать два вывода: либо из ментальности нашей нации окончательно исчезла душа, либо ее интеллект находится на уровне тринадцатилетнего подростка, любителя походов в «Уол-Март».
Я никогда не умела расслабиться в автобусе, и пока мы переправлялись на Манхэттен, у меня в голове металась пугающая мысль о том, что из восьми миллионов людей, населяющих Нью-Йорк, я знакома только с двумя – Майклом и Верой, которые переехали сюда два с половиной года назад. Тогда Майкл решился бросить свою едва начавшуюся карьеру художника-графика и попробовать исполнить мечту всей своей жизни – стать рок-звездой.
Уговорить его уехать удалось не сразу. Он боялся оставлять меня одну. Но далее Сьюзан Кохен – психотерапевт, наблюдавшая меня после несостоявшегося самоубийства, – сказала, что, пожалуй, стоит немного ослабить поводья. И Майкл уехал. А я чувствовала себя вполне прилично до тех пор, пока Адам не сбежал от меня в Орегон с девицей, которая раньше делала нам карамельные маккиато, и в моей голове что-то стало раскручиваться, как клубок пряжи, покатившийся с лестницы.
Майклу нравилось в Нью-Йорке, несмотря на постоянные проблемы с деньгами. Он играл на гитаре в начинающей группе «Бананафиш» и подрабатывал официантом в знаменитом ресторане «Балтазар» в Сохо. Сначала они с Верой снимали маленькую двухкомнатную квартирку в Ист-Сайде вместе с парнем по имени Пол Хадсон – солистом и автором песен «Бананафиш», но недавно переехали в отдельную в более дешевый Бруклин, а свою бывшую половину квартиры предоставили мне.
Я вышла из автобуса, перекинула через плечо туго набитый рюкзак, и душная июльская жара, как полиэтиленовый пакет, облепила меня. Поплутав немного, я вошла в метро, где все казалось покрытым слоем въевшейся грязи и остро пахло мочой и помойкой.
Я не была совсем новичком в Нью-Йорке. С Майклом и Верой мы десятки раз приезжали сюда, когда были подростками. Майкл врал тете Карен, что мы идем в поход со школой, и вместо этого мы ехали на Манхэттен. Мы ночевали в машине, днем Майкл рассматривал гитары и изучал новые записи, появившиеся в здешних магазинах, а мы с Верой, которая была моей подругой еще до того, как стала девушкой Майкла, бродили по центральным улицам, надеясь встретить какую-нибудь рок-звезду.
Именно тогда я научилась уважать и любить недостатки этого города, как можно уважать и любить шрам на теле любимого человека. Особенно это касалось обшарпанных районов Ист-Виллидж и нижней части Ист-Сайда, где мы с Верой околачивались у входа в клуб «Си-Би-Джи-Би», золотые дни которого были далеко в прошлом, имитируя английский акцент и уверяя, что мы родственницы Джо Страммера, чтобы произвести впечатление на собиравшихся там панков.
– Вот так я и хочу жить, – решила я еще тогда.
– Как? Тусоваться с этими недоносками и сидеть на грязном тротуаре? – удивилась Вера.
– Нет. Быть частью этого. Этого города. Этой жизни. Этой музыки.
– Высоко берешь, – сказала Вера.
Не сосчитать, сколько часов своей юности я провела, мечтая о том, что когда-нибудь буду жить на Манхэттене и как счастлива я тогда буду. И вот это когда-нибудь превратилось в сейчас, и я чувствовала, будто перешла через мост и он сгорел за мной. Вернуться назад невозможно. Жизнь изменилась, наверное, к лучшему Но в моей прошлой жизни перемена всегда означала беду, и теперь, направляясь к платформе, я не была уверена, что именно ждет меня.
Я так никогда и не научилась ориентироваться в нью-йоркском метро. Майкл, который на два года старше меня и поэтому сам назначил себя лидером, уверяет, что я страдаю «топографическим кретинизмом». Поэтому накануне отъезда он дал мне по телефону подробнейшие инструкции, как добраться от автобуса до метро и потом до их квартиры, и заставил повторить их три раза.
– Майкл, мне двадцать шесть лет. Перестань обращаться со мной как с ребенком.
От пристани до метро я добралась без особых осложнений. Поезд линии «А» доставил меня до станции «Четвертая Западная». Там я должна была перейти на линию «F» и доехать до «Второй авеню». Майкл не мог встретить меня, потому что работал до полуночи, а Вера обещала, что постарается, но если я не увижу ее на станции «Четвертая», мне придется самой добираться до квартиры и ждать ее там. Чтобы поддерживать честолюбивые устремления Майкла она подрабатывала в благотворительной организации, собирающей деньги на исследования в области рака, и в этот вечер они проводили какое-то мероприятие для спонсоров в отеле «Уолдорф-Астория» Вера не была уверена, что сумеет вырваться раньше.
На станции ее не было, и я немедленно ощутила беспокойное легкое покалывание в желудке. Но даже в вибрации рельсов метро я чувствовала энергию этого города, а мелькание разнообразных лиц вокруг вовлекало меня в какое-то общее электрическое движение, которое я воспринимала всей кожей, и даже во рту появился острый металлический привкус.
На противоположной платформе я заметила двух интересных персонажей. Один из них был стариком с солонкой и помидором, который он ел как яблоко, а другой – парень, которому, наверное, еще не было и двадцати, беспокойно подпрыгивающий у лестницы.
Я наблюдала, как дергается вверх и вниз его голова и ей вторит нога, будто отбивающая ритм песни, которую слышит только он. Темные пряди волос падали на лицо, нос был крупным и вполне римским, а подержанный и не очень хорошо сидящий костюм цвета зеленого горошка, выглядел неуместно нарядным на этой станции.
Он мне сразу понравился. Он был хорош особым нью-йоркским стилем – худой уличный подросток, никогда не видевший дневного света и свежего воздуха. И он ни секунды не стоял спокойно. Даже с другой платформы я смогла прочитать на его лице выражение, говорящее: «на свете все за меня, кроме моей судьбы», но, очевидно, сам он этого еще не знал.
Парень оглянулся, и я не успела отвести взгляда. Наши глаза встретились и уже не расставались. Он сделал несколько осторожных шагов в мою сторону, резко остановившись у желтой линии, которую не должны пересекать пассажиры. Его руки свободно раскачивались, и он, казалось, не шел, а легко скользил, будто кукла, подвешенная на сотне невидимых нитей над самым краем земли.
Послышался шум приближающегося поезда, и из тоннеля подул поток воздуха, давая секундную передышку от жары. Парень в зеленом костюме обернулся в ту сторону и опять уставился на меня.
Он с подозрением оглядел мой рюкзак и негромко крикнул:
– Как тебя зовут?
Звук его голоса застал меня врасплох. Это был уверенный голос, притворяющийся застенчивым.
– Как тебя зовут? – повторил он.
Я хранила молчание, вспомнив, что опасно разговаривать с незнакомцами в метро. Но даже если он был грабителем, он находился слишком далеко от меня, чтобы напасть. И не забывайте, он мне понравился. И у меня была новая жизнь. И я была новой. И у меня появилась возможность хотя бы притвориться, что я такой человек, каким хотела быть. И я никогда не смогу забыть Адама, если не начну знакомиться с теми, кто мне нравится.
– Ну, быстрей! – торопил меня незнакомец.
– Элиза, – в конце концов выговорила я.
Парень улыбнулся, и его лицо просветлело, будто у него в мозгу включили лампочку. Потом он осмотрел меня снизу вверх так, что я немедленно почувствовала себя раздетой.
Через секунду поезд должен был разорвать странную связь, установившуюся между нами.
– Элиза! – Он повысил голос и указал на приближающиеся огни. – Не садись в этот поезд.
Потом поезд подошел к платформе, и я его больше не видела.
Мое новое Я молило меня оставаться на месте, но, очевидно, моторными функциями еще управляло старое Я, и ноги сами шагнули в вагон. Вся электрическая энергия, которая была вокруг меня, внезапно сосредоточилась в середине груди, й когда двери вагона закрылись, мне показалось, что в сердце сделали укол адреналина.
Поезд тронулся, и я прижалась лицом к окну, пытаясь еще раз увидеть парня в зеленом костюме. Он, улыбаясь, смотрел на меня и качал головой.
Я все-таки села не в тот поезд, потому что стояла не на той платформе, и поняла, что еду в противоположном от центра направлении, только когда в треске испорченного репродуктора разобрала слово «Гарлем».
Был уже девятый час, когда я наконец нашла Вторую авеню, прошла несколько кварталов по Хьюстон-стрит и обнаружила примету, означающую, что почти добралась до места – круглую вывеску мини-маркета Каца на углу Хьюстон и Людлоу.
Немного дальше я увидела и Веру, прижимающую к уху мобильный телефон. Ее губы двигались так, будто она кричала, на плече висела большая хозяйственная сумка, одета она была в длинную клетчатую юбку, а на ногах – кроссовки с носками. В моем представлении Вера всегда воплощала голос разума, но одевалась она как зачуханная русская библиотекарша, даже когда на улице было больше тридцати градусов.
– Ну вот и ты! – сказала она, когда я подошла ближе.
Вера была привлекательной и очень неглупой девушкой с темными волосами и ярко-зелеными глазами, отливающими аметистовым блеском. Правда, когда она была в очках, то есть почти всегда, этот эффект пропадал.
Она крепко обхватила меня руками. Мы не виделись несколько месяцев, и теперь в ее присутствии я сразу почувствовала себя лучше.
– Извини, что так долго, – сказала я. – Ты давно ждешь?
Она выудила связку ключей из своей сумки и покачала головой.
– Я только что вырвалась с работы. Я оставила записку твоему будущему соседу, чтобы он встретил тебя на Четвертой улице, но у него какая-то особая метрофобия, и он редко решается сгуститься под землю. Он так и не отзвонился.
Вера опять обняла меня, но я чувствовала, что что-то не в порядке. Она прижимала меня к себе слишком сильно, а когда отпустила, мне показалось, что она набрала в грудь воздуха и забыла выдохнуть.
– Что-то случилось? – спросила я.
– Просто длинный день.
Ответ был типичным для Веры. Она не любила грузить других своими проблемами, хотя сама постоянно помогала мне разобраться с моими – даже истратила часть отпуска, чтобы утешить меня, когда меня бросил Адам.
– Не верю.
– Погоди. Ты только приехала. Давай просто порадуемся.
Она указала на узкое здание из грязного бежевого кирпича, по фасаду которого изгибалась ржавая пожарная лестница, а на нижнем этаже размещался салон татуажа под названием «Даредевил».
– Как тебе?
– Похоже на жилье, – осторожно ответила я.
Вера открыла дверь ключом и повела меня наверх по бесконечному количеству ступеней. На втором этаже орал телевизор, а вся лестница провоняла жареной рыбой.
Коридоры были темными и узкими, все двери серыми, кроме одной – угловой на последнем этаже, выкрашенной в насыщенный пурпурный цвет.
– Это Пол покрасил, – сообщила Вера. – Он хотел, чтобы она выделялась. Из-за этого мы лишились залога.
Дверь была покрашена весьма необычно – как будто кто-то взял ведро краски и просто вылил на нее, позволив свободно стекать сверху донизу. Казалось, что дверь кровоточит.
Вера вошла первой, повернула выключатель, я последовала за ней. Если бы мне вдруг пришло в голову плюнуть, то слюна от входа несомненно долетела бы до самой дальней стены этой квартиры. Кухня напоминала багажник небольшого автомобиля, а в ванной грязноватый кафель доходил только до середины стены и казался украденным из метро.
– Ну, нравится? – спросила Вера.
Это была дыра. Наверное, это была самая плохая из всех виденных мной квартир. Но я не собиралась жаловаться. Хотя могла бы заметить, что в Кливленде мы с Адамом платили на двести долларов меньше за квартиру, в которой были посудомоечная машина и гардеробная.
Слева от ванной находилась каморка. Я заглянула в нее.
– Комната Пола. Вернее, зона бедствия, – объяснила Вера.
Матрас лежал прямо на полу, рядом с ним – аккуратные стопки книг, кассет и компакт-дисков. Разбросанная одежда покрывала весь пол толстым ковром. В углу на подставках стояли две гитары, акустическая и электрическая, и две картонные коробки, на одной – маленький четырехдорожечный магнитофон, на другой – растение в горшке, видавшее лучшие дни.
Единственное окошко было маленьким и выходило на глухую кирпичную стену, не оставляющую никакой надежды на солнечный свет. Еще там были доисторический вентилятор и грязная пепельница рядом с матрасом.
– Пол не будет тебя беспокоить, – сказала Вера. – Днем он работает, а ночью они репетируют.
Я знала о Поле только то, что Вера успела рассказать мне раньше: «Он безумно талантливый. Но иногда немного… как бы… хаотичный».
– Он ничего? – спросила я.
– Да. Если тебе нравятся отвязные гении и разгильдяи, то очень даже ничего.
Я очень соскучилась по Вере и по ее манере говорить с таким точным соотношением сарказма и серьезности, пауз и ударений, что все, что она произносила, казалось или значительным, или очень смешным. При других обстоятельствах я несомненно была бы заинтригована характеристикой Пола Хадсона, Но сейчас почувствовала только тревогу. Страдать от разбитого сердца два раза в год, пожалуй, чересчур.
Последняя комната справа предназначалась мне. Ее меблировка состояла из старой деревянной кровати, лампы, маленького книжного шкафа, трех заранее отправленных мной коробок, в которых содержалось все мое имущество, тараканьей ловушки в углу, на которую я старалась даже не смотреть, чтобы не потерять присутствия духа, и – неожиданная деталь – большого распятия, висящего на стене наискосок от кровати, с полным комплектом из окровавленного тернового венца и зловещего вида гвоздей, торчащих из ладоней Христа.
– Оно уже было здесь, когда мы въехали, – пояснила Вера. – Мы подумали, что это странно, но оставили его. Если захочешь выбросить – не стесняйся.
Я подошла поближе. У Христа были голубые проникновенные глаза и худое, напряженное тело; темные безжизненные пряди волос свисали на лицо, из рук и ног сочилась алая кровь, а то, что скрывалось под условной набедренной повязкой, впечатляло размерами.
– Очень сексуально, – сказала я. – Похож на рок-звезду.
– Мать моя женщина, – вздохнула Вера.
Единственным, что делало комнату не совсем безнадежной, было окно и крошечная скамеечка перед ним, прикрытая афганским ковриком, в котором я узнала творение тети Карен.