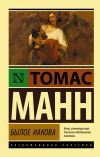Текст книги "Иосиф и его братья. Том 2"
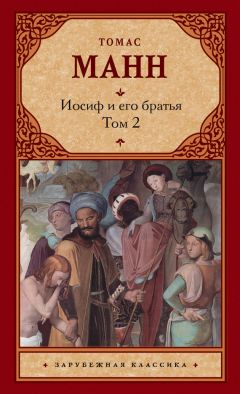
Автор книги: Томас Манн
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Когда он, отклоняя навязываемое ему праздничное платье, довольно резко сказал ей: «Мне хватит моей одежды и моей рубахи», – он сразу узнал, какая у них идет игра. Нечаянно он ответил ей так же, как Гильгамеш, когда его, из-за его красоты, осаждала Иштар и просила: «Ну что ж, Гильгамеш, стань супругом моим, подари мне плод свой», – просила, суля ему множество роскошных подарков в том случае, если он исполнит ее желанье. Такие узнавания в равной мере успокаивают и пугают. «Вот оно снова!» – говорит себе человек, ощущая основательность, мифическую оправданность, не просто действительность, а истинность того, что с ним происходит, – а это означает успокоение. Но он и ужасается, увидев себя лицедеем, вовлеченным в то зрелище, в тот маскарад, где разыгрывается такая-то и такая-то божественная история, и ему кажется, что все это сон. «Так, так, – думал Иосиф, глядя на бедную Мут. – По сути своей ты распутная дочь Ану, только ты, пожалуй, и сама этого не знаешь. Я буду бранить тебя, я припомню тебе многих твоих возлюбленных, которых ты погубила своей любовью, превратив одного в летучую мышь, другого в пеструю птицу, а третьего в дикого пса, так что его, пастуха стада, прогнали его собственные подпаски, а собаки рвали зубами его шерсть. Со мной случилось бы то же, что с ними, – велит мне сказать моя роль. Почему Гильгамеш это сказал, почему он обидел тебя, так что ты в гневе помчалась к Ану и уговорила его выпустить на строптивца огнедышащего небесного быка? Теперь я знаю почему, ибо в нем я вижу себя, а через себя понимаю его. Он сказал это от досады на твои повелительные ухаживания и обернулся перед тобой девой, защитив себя чистотой от твоих подарков и домогательств, Иштар бородатая…»
О чистоте ИосифаПокуда мы наблюдаем, как наш Иосиф, читатель камней, соединяет собственные мысли с мыслями своего предшественника, он произносит про себя слово, побуждающее нас приступить к некоему разбору, являющемуся одновременно неким подведением итогов, разбору, который мы, видя в том свой долг перед изящной словесностью, находим наиболее удобным вставить сейчас: слово это – «чистота». Понятие чистоты, целомудрия в ходе тысячелетий прочно слилось с образом Иосифа и дает классически постоянный эпитет к его имени: «целомудренный Иосиф», или даже, как символическое, родовое обозначение: «этакий Иосиф целомудренный» – вот формула милого жеманства, в которой память о нем все еще живет среди людей, отдаленных от его дней такими глубокими пропастями, и, задавшись целью точно и достоверно восстановить его историю, мы не вполне справились бы с этим делом, если бы в надлежащем месте не собрали рассеянных там и сям намеков на то, чем вызывалось и из чего складывалось знаменитое его целомудрие, намеков разнообразных и замысловатых, и не дали убедительного их обзора тому наблюдателю, который, из понятного сочувствия страданиям Мут-эм-энет, посетует на упрямство Иосифа.
Незачем говорить, что о целомудрии не может быть и речи там, где нет дееспособной свободы, то есть в случае номинальных полководцев и увечных служителей Солнца. Что Иосиф был неущербленный, живой человек, – это предполагается само собой. Да мы и знаем, кстати, что в более зрелые годы он, при содействии царя, вступил в брак с египтянкой и что от этого брака у него было двое детей, два мальчика – Ефрем и Манассия (они еще появятся в свое время). Следовательно, в годы зрелости он уже не был целомудрен, целомудрен он был только в юности, идея которой особым образом сливалась у него с идеей целомудрия. Ясно, что девственность (ведь о ней можно говорить и применительно к молодым мужчинам) Иосиф сохранял только до тех пор, покуда утрата ее была отмечена печатью запретности, печатью искушения, падения. Позднее, когда эта печать с нее, так сказать, спала, он беззаботно утратил девственность, и следовательно, приведенный нами классический эпитет подходил к нему не всю его жизнь, а только временно.
Да не подумают также, что юношеское его целомудрие было целомудрием деревенщины, чурбана в делах любовных – то есть следствием неуклюжести, простоватости, с которой предприимчивый темперамент обычно и связывает представление о целомудрии. Предположение, будто в пикантной области беспокойный любимец Иакова был бесчувственным простофилей, не вяжется с той картиной, что первой, в самом начале, предстала нашему духовному взору, картиной, которую мы наблюдали тревожными глазами отца, когда семнадцатилетний Иосиф сидел у колодца и, охорашиваясь, заигрывал с прекрасной Луной. Знаменитое его целомудрие было отнюдь не следствием его обделенности, наоборот, оно основывалось на том, что мир и его, Иосифа, взаимоотношения с ним были пронизаны духом любви, на всевлюбленности, которая тем более заслуживала столь емкого наименования, что не останавливалась у границ земного, а каким-то привкусом, какой-то нежной примесью, какой-то неуловимой, скрытой подоплекой входила в любую, в том числе и в самую трепетную, самую священную сферу. И из того, что она туда входила, из этого-то и вытекало его целомудрие.
На ранних порах мы занимались явлением живой ревности бога в связи с теми недвусмысленно страстными преследованиями, которым, несмотря на успешное взаимоосвящение в союзе с человеческим духом, демон пустыни все еще подвергал объекты идолопоклонства и необузданных в своей пышности чувств, что́ на собственном опыте испытала Рахиль. Тогда мы заранее сказали: ее отпрыск, Иосиф, поймет, что бог есть бог живой, даже лучше и будет приноравливаться к этой истине податливей, чем Иаков, его целиком подвластный чувствам родитель. Так вот, целомудрие Иосифа было прежде всего выражением этого понимания, этой оглядки. Он, конечно, догадывался, что его страдания и его смерть – какие бы другие, далекие цели с ними ни связывались – были карой за гордое чувство Иакова, это недопустимое подражание божественной избирательности, что они были величайшим актом ревности, направленным против бедного старика. В этом смысле наказанье Иосифа относилось только к отцу и было не чем иным, как продолжением наказанья Рахили, которую Иаков не переставал любить, – любить в сыне. Но ревность имеет двойной смысл и выразиться может двояко. Можно испытывать ревность к тому или иному лицу по той причине, что человек, на всю полноту чувства которого притязаешь, слишком неравнодушен к нему; а можно ревновать это лицо по той причине, что ты сам остановил на нем свой выбор и не хочешь ни с кем делить его чувство. Третья возможность заключается в наличии и того и другого, а это-то и есть совершенная ревность, и, по существу, Иосиф был не так уж не прав, приписывая своему случаю именно совершенство. По его мнению, он был растерзан и похищен не только и даже не прежде всего для наказанья Иакова – или, вернее, похищен с целью такого наказания главным образом потому, что он, Иосиф, сам был объектом сверхвластного избрания, могущественной алчности, ревнивейшей облюбованности, – был им в том смысле, о котором Иаков, наверно, с тревогой догадывался, но который был весьма далек от его собственной, степенной и еще не доведенной до такого лукавства отцовской любви. Мы вполне отдаем себе отчет в том, что такая идея, что такая окраска отношений между творцом и его творением может показаться странной, даже оскорбительной и при нынешнем взгляде на вещи; ибо нам она так же несвойственна, как и степенному отцовскому разуму. Но она занимает свое место во времени и развитии, и, зная душу человеческую, можно не сомневаться, что многие дошедшие до нас плодотворные диалоги Того, на Кого Нельзя Глядеть (какое бы имя Он ни носил), с его учеником и любимцем, протекавшие под защитой облака, носили чрезвычайно пикантный характер, который иосифовскую точку зрения принципиально оправдывает, обусловливая ее справедливость разве что личным Его достоинством, о котором мы не станем судить.
«Я храню чистоту» – услыхал однажды в саду Адониса маленький Вениамин из уст своего восторженно любимого брата, имевшего в виду и чистоту своего лица, то есть отсутствие бороды, которая разрушила бы особую красоту его семнадцати лет, и свое отношение к миру, заключавшееся и тогда и теперь в воздержанности, не имеющей ничего общего с бесчувственностью. Его воздержанность была не чем иным, как осторожностью, благочестием, религиозной деликатностью, в которых то ужасное насилие, когда были разорваны его венец и его покрывало, могло его только особенно утвердить; и надо сказать, что связанное с этой воздержанностью высокомерие совершенно лишало ее обездоленной мрачности. Речь идет не о печальном и тягостном умерщвлении плоти, в тощем образе которого целомудрие почти неизбежно видится ныне. Что существует веселое, даже шаловливое целомудрие, это и ныне в конечном счете придется признать; и если уж какая-то светлая и смелая духовность расположила Иосифа к такому целомудрию, то блаженство благочестивого невестинского самомнения сделало решительно все, чтобы максимально облегчить ему то, что дается другим с великим трудом. В разговоре с почетной наложницей Ме-эн-Уазехт госпожа, сетуя, упомянула о насмешливости, которая почудилась ей в глазах молодого управляющего, о насмешке над печальными узами страсти, этого позорного для занемогшей недуга. То было довольно верное наблюдение; действительно, из трех зверей, охранявших, по сведениям Иосифа, сад птичницы, «Стыда», «Вины» и «Глумливого Смеха», последний был ему наиболее знаком – но не как пострадавшему, не как жертве этого зверя, что́, собственно, и имелось в виду, нет, глумился и смеялся он сам, Иосиф, и ничего, кроме смеха, не находили в его глазах женщины, глядевшие на него с крыш и со стен. Такое отношение к сфере влюбленного сладострастия бесспорно встречается; оно создается сознанием высшей связанности, избранности в любви. А если кто сочтет нечеловечным, преступно-заносчивым видеть чужую страсть в смешном свете, то пусть он знает, что наша повесть приближается к тому часу, когда Иосифу стало совсем не до смеха, и что вторая катастрофа его жизни, новая его гибель, была вызвана именно той силой, которой он, по юношеской своей гордыне, считал ненужным отдавать дань.
Такова была первая причина отказа Иосифа утолить страсть жены Потифара: он был обручен с богом, он проявлял мудрую деликатность, он помнил о той особой боли, которую причиняет предательство одиноким. Второй мотив был тесно связан с первым, он был только его отражением, его, так сказать, повторением в земной, в житейской форме: это была верность, закрепленная союзом с ушедшим на запад Монт-кау, верность Потифару, нежному господину, самому высокому в ближайшем кругу.
Отождествление, озорное смешение безотносительно высшего со сравнительно, то есть для данного места, самым высоким, происходившее в голове Аврамова отпрыска, несомненно, покажется ныне нелепым и даже грубым. Тем не менее с ним придется примириться, чтобы понять, что́ делалось в этой ранней (хотя, с другой стороны, и поздней) голове, которая предавалась своим мыслям с таким же рассудительным достоинством и спокойствием, с такой же естественностью, как мы своим. А тучный, но благородный сановник Солнца и меланхолически себялюбивый названый супруг Мут представлялся мечтательной этой голове низшим соответствием, телесным повторением неженатого и бездетного, одинокого и ревнивого бога отцов, и хранить ему, Потифару, бережную человеческую верность Иосиф, в силу этого ребяческого смешения и не без соответствующих корыстных мыслей, собирался самым решительным образом. Если прибавить к этому священный обет, который он дал Монт-кау в смертный его час, – изо всех сил поддерживать и никогда не посрамлять нежное достоинство господина, – то станет еще понятнее, что почти уже не умалчиваемые желания бедной Мут должны были показаться ему змеиным искушением изведать добро и зло и повторить глупость Адама… Это было второе.
В качестве третьего достаточно сказать, что пробужденная его мужественность не желала превращаться в пассивную женственность под натиском мужских домогательств госпожи, что она хотела быть не целью, а стрелой страсти, – и все станет ясно. И тут сразу же напрашивается четвертое, так как оно тоже касается гордости, только гордости духовной.
Иосифа страшило то, что олицетворяла в его глазах египтянка Мут и с чем он, гордясь наследственной заповедью чистоты, остерегался смешать свою кровь: старость страны, куда его продали, длительность, которая без обетования, в беспутной неизменности, глядела в дикое, мертвое, ничего не сулящее будущее, делая вид, что сейчас она поднимет лапу и прижмет к груди задумчиво стоящего перед ней сына обета, чтобы он назвал ей свое имя, какого бы пола она ни была. Ибо безнадежная дряхлость была одновременно похотью, жадной до молодой крови, а тем более молодой не только годами, но особенно своей избранностью для будущего. Об этом преимуществе Иосиф, в сущности, никогда не забывал, с тех пор как он, никто и ничто, жалкий мальчишка-раб, прибыл в Египет, и при всей своей прирожденной открытости миру, проявленной им среди детей ила, у которых он положил себе далеко пойти, Иосиф всегда сохранял некую отчужденность, некую сокровенную сдержанность, прекрасно зная, что, по существу, он не должен быть запанибрата с запретным укладом, и прекрасно в общем-то чувствуя, какого он духа дитя и какого отца сын.
Отец! Это было пятое – если не первое, если не самое главное. Он не знал, убитый старик, по печальной привычке считавший свое дитя укрытым смертью, – он не знал, где оно жило и здравствовало, одетое в совершенно чужое платье. Узнай он это, – он упал бы замертво и окоченел от горя – в этом можно было не сомневаться. Думая о третьей из трех стадий, – отрешение, возвышение и в конце концов переселение и продолжение рода, – Иосиф никогда не скрывал от себя, какое тут придется преодолеть противодействие со стороны Иакова; он знал патетическое предубеждение этого исполненного достоинства старца против «Мицраима», его отечески-детское отвращение к земле Агари, к дурацкой земле Египетской. Добрый старик совершенно неверно толковал название «Кеме», производя его, хотя оно относилось к плодородному чернозему, от надругавшегося над своим же отцом бесстыдника Хама, да и вообще держался самых преувеличенных суждений об ужасной глупости детей Египта в делах нравственных, суждений, которые Иосиф всегда подозревал в односторонности и над которыми, оказавшись в Египте, посмеивался как над сказкой; сладострастие этих детей было ничем не хуже сладострастия прочих смертных, да и откуда взялся бы у этих стонущих от оброков роботов-земледельцев, у этих понукаемых надсмотрщиками водочерпиев, которых Иосиф знал вот уже девять лет, – откуда взялся бы у них задор пуститься во все содомские тяжкие? Короче говоря, старик торжественно заблуждался насчет поведения жителей Египта, воображая, будто они живут так, что способны растлить и сыновей бога.
Однако Иосиф отнюдь не закрывал глаза на ту долю справедливости, что была в нравственном отмежевании отца от страны безобразников, поклоняющихся животным и мертвецам, и на память ему теперь не раз приходили те благочестиво-резкие слова, в каких этот озабоченный старик рассказывал ему о людях, которые при желании расстилают свои постели у постелей соседей и меняются женами, о женщинах, которые, увидав на рынке юношу, вызывающего у них вожделение, немедленно ложатся с ним без всякого понятия о грехе. Сфера, откуда черпал эти сомнительные картины отец, была известна Иосифу: это была сфера Канаана и ужасных неистовств тамошнего культа, противного божественному разуму, сфера молеховского беспутства, пенья с пляской, бесчестья и авласавлалакавлы, где, подавая пример и подражая идолам плодородия, люди блудили в праздничном свальном буйстве. Иосиф, сын Иакова, не хотел блудить по примеру баалов, и это была пятая из семи причин его воздержания. Шестая не заставит себя ждать; только сочувствия ради следует все-таки попутно отметить печальную судьбу, постигшую любовный порыв бедной Мут. Какой, право, нужно быть злосчастной, чтобы тот, с кем она связала позднюю свою надежду, увидел эту надежду в таком превратном, таком мифическом свете и из-за своего отца услыхал в зове нежности такие искусительные, такие беспутные призывы, каких в нем почти и вовсе не было; ибо страсть Эни к Иосифу имела мало общего с бааловской глупостью и с авласавлалакавлой, она была глубокой и честной тоской по его красоте и молодости, искреннейшим желанием, она была так же пристойна и непристойна, как всякая страсть, и распутна не более, чем распутна любовь. Если она позднее выродилась и обезумела, то виною тому семикратно обусловленная сдержанность, с которой она столкнулась. Судьбе было угодно, чтобы решающим для любви Эни оказалось не то, чем эта любовь являлась, а то, что она означала для Иосифа, а это и было шестое – «союз с Шеолом».
Это нужно верно понять. Духовное отношение Иосифа к случаю, когда ему хотелось вести себя умно и осторожно, не давая себе поблажек и ничем себе не вредя, определялось не только искусительно-враждебным понятием бааловской околесицы понятием канаанским; к этой идее, значительно осложняя ее, присоединялось нечто специфически египетское, а именно – благоговение перед смертью и мертвецами, которое было, однако, не чем иным, как здешней формой бааловского блуда и носительницей которого, к несчастью для Мут, ему казалась домогающаяся любви госпожа. Трудно представить себе, как много значило для Иосифа древнее предостережение, изначальное «нет», тяготевшее над смешанным понятием смерти и распутства, над идеей союза с преисподней и с жителями преисподней: преступить этот запрет, «согрешить» против него, ошибиться в этом зловещем вопросе значило и в самом деле все погубить. Мы, посвященные и тесно связанные с тем, о чем говорим, хотим заставить вас, далеких, мыслить, как он, хотя такой образ мыслей, как и те серьезные препятствия, которые он создавал Иосифу, наверно, покажется более позднему разуму довольно причудливым. И все-таки это сам разум, добытый отцами разум, противился сейчас бесстыдному неразумию. Не то чтобы Иосиф был совершенно чужд неразумию; тревога, снедавшая дома бедного старика, беспочвенна не была. Но разве не нужно знать толк в грехе, чтобы быть способным на грех? Чтобы согрешить, нужно обладать умом; по существу, ум и дух – это не что иное, как понимание греха.
Бог отцов Иосифа был духовным богом, по крайней мере по той цели своего становления, ради которой он заключил союз с человеком; и, соединив свою волю к освящению с человеческой волей, он никогда не имел дела ни с преисподней, ни со смертью, ни с каким-либо безрассудством, гнездящимся в темной области плодородия. Благодаря человеку он понял, что все это ему отвратительно, а человек, в свою очередь, понял это благодаря ему. Прощаясь на ночь с умирающим Монт-кау, Иосиф делал успокоительную уступку последним его тревогам и утешительно расписывал ему, что́ будет после этой жизни и как они снова встретятся, чтобы уже никогда не разлучаться, потому что они связаны историями. Но это было дружеской поблажкой тревоге Монт-кау, милосердным вольнодумством, с которым он на миг поступился истинным своим долгом, – тем решительным отказом от каких бы то ни было заглядываний в потустороннее, посредством которого его отцы и их освящавший себя в них бог резко отмежевывались от соседних богов-мертвецов, коченеющих в храмах своих могил. Ибо только путем сравнения можно определить себя и узнать, кто ты, чтобы вполне стать тем, кем тебе положено быть. Таким образом, прославленная чистота Иосифа, будущего отца и супруга, вовсе не была принципиально нетерпимым отрицанием сферы любви и деторождения, которое, кстати, никак не вязалось бы с полученным праотцем обетованием, что его семя умножится, как песок на берегу моря; она была лишь наследственным велением его крови – хранить в этой сфере божественный разум и отстранять от нее рогатую глупость, авласавлалакавлу, составлявшую для него неразрывное психологическое единство с мертвопоклонством. И беда Мут была в том, что в ее домогательстве он усмотрел искушение этим сплавом разврата и смерти, искушение Шеола, поддаться которому значило бы всегубительно обнажиться.
Вот она, седьмая и последняя причина, – последняя и в том смысле, что она включала в себя все остальные, сводившиеся, по сути, к этому страху, – имя ей «обнажение». Мотив этот уже прозвучал, когда Мут пыталась сбросить с беседы фиговый листок делового повода, но сейчас мы вернемся к нему, чтобы увидеть торжественное многообразие его ассоциаций и его далеко идущие следствия.
Странная вещь происходит со смыслом слова, с его значением, когда оно разнообразно преломляется в уме, подобно тому как свет, проходя сквозь облако, разлагается на все цвета радуги. Ведь достаточно одному из этих преломлений связаться со злом, стать проклятием, чтобы такое слово приобрело дурную славу в любом своем значении, сделалось мерзким в любом своем смысле и обозначало только какую-нибудь мерзость, уже осужденное обозначать всякие мерзости. С таким же правом можно хулить невинную ясность небесного света на том основании, что в него входит злосчастный красный цвет, цвет пустыни, цвет северной звезды. Первоначально понятие наготы и обнажения было вполне невинным и светлым, никакой краснотой, никакой хулой тут и не пахло. Но после проклятой истории с Ноем в шатре, истории с Хамом и скверным сынком его Кенааном, оно, так сказать, навсегда пошатнулось, и, став в этом своем преломлении красным и подозрительным, покраснело и само по себе: больше оно уже вообще никуда не годилось, кроме как для обозначения всякой мерзости, тем более что все мерзкое, или почти все, само требовало этого имени и в нем себя узнавало. По тому, как вел себя тогда у колодца озабоченный Иаков, – с тех пор прошло уже без малого девять лет, – когда он строго отчитал сына за наготу, которой тот хотел ответить прекрасной Луне, – по тогдашней его тревоге вполне можно было судить о скверном помрачении такого по существу своему веселого понятия, как оголившийся у колодца мальчик. Обнажение в простом и прямом физическом смысле слова было поначалу так же невинно и нейтрально, как солнечный свет; это понятие покраснело лишь в переносном значении, обозначая бааловское беспутство и смертельно греховное созерцание близкого родственника. Но краснота переносного значения перешла на невинно-прямое, сделав его в силу этого взаимодействия значений настолько красным, что оно стало служить синонимом всякого кровного греха – и действительно совершённого, и совершённого лишь взглядом или желанием, так что «обнажением» в конце концов стали называть все запретное в области чувственности и плотского совокупления, но особенно – причем опять-таки, наверно, в память о надругательстве над Ноем – сыновнюю нескромность по отношению к отцу. А тут следовало уже новое отождествление, новое переосмысление названий, и главной идеей становился уже рувимовский проступок, то есть осквернение сыном отцовского ложа, а все недозволенное, будь то взгляд, желание или действие, ощущалось уже как надругательство над отцом и даже так и называлось.
Вот как представлялось дело Иосифу, и с этим нужно считаться. То, на что подбивал его сфинкс страны мертвецов, виделось ему обнажением собственного отца, – и разве нельзя понять Иосифа, если подумать, каким злом казалась бедному старику Страна Ила и как ужаснулся бы он и встревожился, если б узнал, что дитя его не только не укрыто навеки, но подвергается подобному искушению? На глазах отца, которые, как чувствовал Иосиф, были к нему прикованы, карие, озабоченные, с натруженными прожилками под нижними веками, на его глазах совершить обнажение, забыться, как забылся Рувим, лишенный благословения за свое буйство? С тех пор благословение отошло к Иосифу, так неужели же он, Иосиф, должен был буйно его промотать, пошутив с этим двусмысленным зверем, как некогда с Валлой Рувим? Кто удивится, что внутренний его ответ на этот вопрос был «ни за что!»? Кто, повторяем мы, удивился бы этому, учитывая, как сложна, как богата отождествлениями была для Иосифа мысль об отце, а следовательно, и об оскорбленье отца? Даже самому резвому, самому податливому в любовных делах человеку – покажется ли даже ему сказочной чья-либо «чистота», если она состояла в продиктованном простейшей набожностью решенье избежать самой грубой, самой опасной для будущего ошибки из всех возможных?..
Таковы были семь причин, по которым Иосиф не хотел, ни за что не хотел последовать зову крови своей госпожи. Собрав их воедино, перечислив и установив важность каждой, мы оглядываем их с известным удовлетворением, каковое, впрочем, если иметь в виду тот час праздника, который мы в настоящее время справляем, совсем неуместно, так как покамест Иосиф еще отнюдь не преодолел искушения, и когда наша история впервые рассказывала себя самое, в этот час было еще очень неясно, выйдет ли он сухим из воды. Он отделался сравнительно еще дешево, так сказать, синяками, – мы это знаем. Но почему он отважился так далеко зайти? Почему не слушался он стрекочущих предостережений чистого своего друга, который уже видел зиявшую перед ним яму, почему водил дружбу с фаллическим коротышкой, который, как сводник, вытряхивал обольстительные слова из уголка своего кошеля? Одним словом, почему он при всем при том не избегал госпожи, а довел дело до того, до чего оно у них, как известно, дошло?.. Да, это было заигрыванье с миром и сочувственное любопытство к запретному; это была, кроме того, известная увлеченность мыслью о своем посмертном имени и о божественном состоянии, которое он в себе усматривал; была тут и доля самоуверенного озорства, убежденность, что, играя с огнем, он успеет отпрянуть, когда придет нужда; была тут, как оборотная, но более похвальная сторона этого, требовательность к себе, честолюбивое желание поставить себя в трудные условия, не давать себе ни малейшей поблажки, чтобы с тем большей честью выдержать испытание, показать высший класс добродетели и быть дороже, чем после более легкой, более осторожной проверки, духу отца… А может быть, это было и тайное знание своего пути и его извилин, догадка, что этот путь должен опять завершить малый свой оборот, а он, Иосиф, должен еще раз угодить в неизбежную яму, чтобы исполнилось то, что предопределено в книге замыслов.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?