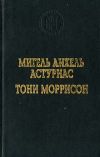Текст книги "Песнь Соломона"

Автор книги: Тони Моррисон
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Мейкон был в восторге. Сын принадлежал теперь ему, а не Руфи и избавлял его от необходимости, собирая квартирную плату, мотаться по всему городу, словно он какой-то уличный разносчик. Таким образом, предприятие приобретало солидность. Мейкон же на досуге мог поразмышлять, обдумать новые планы, изучить газетные объявления, узнать, где состоятся аукционы, выяснить, какие интриги плетутся вокруг взимания налогов и не востребованных наследниками состояний, где и какие строятся дороги, торговые центры, школы, кто и каким образом добивается от правительства утверждения своих строительных проектов. Он знал: ему, негру, ни за что не достанется большой кусок пирога. Впрочем, существовали участки, на которые пока никто не льстился, мелкие кусочки, кромочки участков, которые кому-то очень не хотелось отдать в руки евреев или католиков, а также участки, которым никто еще пока не знал цены. Немалое количество начинки вываливалось из-под кромки пирога в 1945-м. Кое-что может достаться и ему. Во время войны дела Мейкона Помера пошли на лад. Не ладилось у него только с Руфью. И много лет спустя, когда война уже закончилась и начинка пирога плюхнулась ему прямо в руки, отчего ладони стали жирными, наполнился желудок и обозначилось объемистое брюшко, он все еще жалел, что не удушил ее в 1921-м. До сих пор она по временам не ночевала дома, но ей было уже пятьдесят, какой любовник так долго продержится? И что это за любовник, если даже Фредди ничего о нем не знает? Мейкон решил, что это чушь, и теперь все реже сердился на жену настолько, чтобы захотелось влепить ей пощечину. В особенности после самого последнего раза, ставшего самым последним по существенной причине: сын не выдержал, вскочил и так ему врезал, что он свалился на отопительную батарею.
Молочнику было к тому времени двадцать два года, и, так как он уже шесть лет жил половой жизнью, да к тому же часть этого срока с постоянной любовницей, мать представилась ему в новом свете. Теперь он не видел в ней ту, что вечно заставляла его надевать калоши, потеплее кутаться и побольше есть, ту, что не позволяла приносить домой ничего интересного, коль скоро все интересное непременно влекло за собой грязь, шум или беспорядок. Сейчас она представлялась ему слабой женщиной, которая добровольно ограничила свою жизнь деятельностью незначительной и мелкой: взялась растить и пестовать таких подопечных, чье существование недолгосрочно и, прервавшись, не принесет ей боли, – рододендроны, золотых рыбок, георгины, герань, тюльпаны. А они и в самом деле умирали. Золотые рыбки всплывали на поверхность и, когда она постукивала ногтем по стеклу аквариума, не уносились в ужасе, прочерчивая следом за собой сверкающую, словно молния, дугу. Листья рододендронов становились все ярче, все шире, но потом, густо-зеленые, блестящие, как воск, внезапно тускнели и никли, повисали желтоватыми сердечками. В каком-то смысле Руфь завидовала смерти. В безбрежной печали, охватившей ее после смерти доктора, таилась и досада: ей казалось, доктор выбрал нечто интересней жизни и ей, Руфи, предпочел более занимательную спутницу – последовал за смертью, едва она его поманила. Присутствие смерти вселяло в Руфь несвойственные ей одушевление и смелость. Угроза смерти наделяла ее целеустремленностью, мужеством, ясностью мысли. Не придавая ни малейшего значения тому, что сделал Мейкон, она всегда подозревала, что отец ее не умер бы, если бы не захотел. И быть может, смутное ощущение, что она отвергнута, отринута (плюс желание отомстить Мейкону), побуждало ее подталкивать мужа на путь, который вел лишь к одному – к насилию. Неожиданные вспышки его гнева Лине казались неоправданными. Она видела, как мать намеренно вынуждает отца обнаружить не силу свою (девятилетний ребенок мог влепить Руфи пощечину, ничем не рискуя), а беспомощность. Обычно Руфь начинала что-то рассказывать, чистосердечно выставляя себя в самом смешном и нелепом виде. Сидя за обедом, она как бы невзначай заводила эти якобы безобидные разговоры – в самом деле, ведь из всех, кто находился за столом, лишь она одна попадала в неловкое положение, остальным же предоставлялась возможность полюбоваться ее чистосердечием и посмеяться над ее невежеством.
Например, она отправилась на свадьбу к внучке миссис Джворак. Анна Джворак, старуха-венгерка, лечилась в свое время у ее отца. У доктора Фостера было немало белых пациентов из рабочих, кроме того, он пользовал иногда жен служащих и мелких торговцев, считавших его интересным мужчиной. По мнению Анны Джворак, доктор Фостер в 1903 году чудесным образом спас жизнь ее сыну, не направив его вновь в туберкулезный санаторий. Чуть ли не все больные, уехавшие в этот санаторий, там и умерли. Анна не знала, что доктор не пользовался привилегией направлять своих пациентов в этот санаторий, и в «Приют милосердия» также. Не знала она и того, что лечение туберкулеза, практиковавшееся в 1903 году, было предельно пагубным для здоровья больных. Она знала лишь, что доктор прописал ее сыну какую-то диету, отдых в строго определенные часы и жир тресковой печени дважды в день. Мальчик остался в живых. Естественно, Анне хотелось, чтобы на свадьбе младшей дочки этого сына присутствовала дочь чудодея-врача. Руфь отправилась в церковь, и, когда молящиеся подошли к алтарю причаститься, вместе со всеми подошла и она. Опустившись на колени, она склонила голову в земном поклоне, не имея ни малейшего понятия о том, что предоставила священнику выбор: либо положить облатку ей на шляпу, либо просто пройти мимо нее. Он тотчас догадался, что она не католичка, так как при обращенных к ней словах она не подняла головы и не высунула язык, дабы он осторожно положил на него облатку.
– Corpus Domini Nostri Jesu Christ![7]7
Тело Господа нашего Иисуса Христа (лат.).
[Закрыть] – сказал священник и, наклонившись к ней, свистящим шепотом: – Подымите голову. – Она выпрямилась, увидела облатку и прислужника, держащего под облаткой серебряный поднос. – Corpus Domini Nostri Jesu Christi custodiat animam tuam[8]8
Тело Господа нашего Иисуса Христа во исцеление души (лат.).
[Закрыть]. – Священник протянул ей облатку, и она открыла рот.
Позже, после венчанья, священник прямо спросил ее, принадлежит ли она к католической церкви.
– Нет. Я методистка, – ответила Руфь.
– Я это понял, – сказал он. – Так вот, таинства нашей церкви предназначены для… – Но тут его прервала старая миссис Джворак.
– Отец мой, – сказала она, – я хочу вас познакомить с очень близким своим другом. Дочь доктора Фостера. Ее отец спас жизнь моему Рикки. Рикки не был бы сегодня с нами, если бы…
Отец Пэдрю улыбнулся и пожал Руфи руку.
– Счастлив познакомиться с вами, мисс Фостер.
Простенький, но подробно рассказанный случай.
Лина впитывала в себя каждую фразу и сопереживала с матерью все ее душевные движения – от религиозного экстаза до бесхитростного признания того, какую неловкость она допустила. Коринфянам слушала, анализируя и выжидая: любопытно, каким образом мать подведет свой анекдот к ситуации, при которой Мейкон либо обрушит на нее свой гнев словесно, либо ее ударит. Молочник слушал невнимательно.
– «Вы принадлежите к католической церкви?» – спросил он меня. Ну, а я смутилась на мгновенье, но потом ответила: «Нет. Я методистка». И он принялся мне объяснять, что в католической церкви могут причащаться лишь католики. Право же, я ни о чем подобном не слыхала. Я считала, причаститься может каждый. В нашей церкви любой человек может в первое же воскресенье получить благословение. Впрочем, не успел он все это мне изложить, как подходит Анна и говорит: «Отец мой, я хочу вас познакомить с очень близким своим другом. Дочь доктора Фостера». Ох, как он сразу заулыбался мне. И пожал руку, и сказал, что счастлив и что для него большая честь со мною познакомиться. Так что все окончилось благополучно. Но клянусь, я ни о чем таком даже понятия не имела. Явилась туда в полной невинности, как овечка.
– Ты не знала, что только католики причащаются в католической церкви? – спросил Мейкон Помер таким тоном, что было ясно: он ей не верит.
– Не знала, Мейкон. А откуда мне знать?
– Ты знаешь, что они строят отдельные школы для своих детей и не пускают их в общую школу, и все же думаешь, будто каждый, кто заглянет к ним в церковь, может заодно и в обрядах участвовать?
– Причастие есть причастие.
– Ты глупая женщина.
– Отец Пэдрю так не думает.
– Вела себя как дура.
– Миссис Джворак так не думает.
– Она просто старалась помешать тебе испортить свадебное торжество, ты ведь и так порядком ей напаскудила.
– Мейкон, я тебя прошу не употреблять таких слов при детях.
– Каких, к черту, детях? Каждый из них уже достаточно взрослый, чтобы участвовать в голосовании.
– Не надо ссориться.
– В церкви ты вела себя как дура, потом поставила всех в неловкое положение, а теперь взахлеб рассказываешь нам, как ты там блистала?
– Мейкон…
– Врешь и не краснеешь, утверждая, будто ты так-таки ничего и не знала..
– Анна Джворак нисколько…
– Анне Джворак даже неизвестно твое имя! Она называет тебя «дочь доктора Фостера»! Сто долларов ставлю, она до сих пор не знает, как тебя зовут! Сама по себе ты никто. Папочкина дочка!
– Да, это так, – ответила Руфь тоненьким, но твердым голосом. – Разумеется, я папина дочка. – Она улыбнулась.
Мейкон даже не стал класть вилку на стол. Она выпала у него из руки, которая, продвигаясь над хлебницей, сжалась в кулак, с размаху врезавшийся в челюсть Руфи.
Молочник ничего не обдумывал загодя, но он и раньше знал, что в один прекрасный день, после того как Мейкон ее ударит, а Руфь прикроет рукой губы, ощупывая зубы языком – целы ли, и, обнаружив, что целы, будет стараться незаметно для остальных вновь приладить выпавший мост, – что в этот день он наконец не выдержит. Не успел отец отвести руку, Молочник, схватив его за шиворот, рывком поставил на ноги и ударил так сильно, что тот свалился на батарею. Оконная штора затрепыхалась, как от сквозняка.
– Если ты еще хоть раз ее тронешь, я тебя убью. – Мейкон онемел от потрясения: он не представлял себе, что кто-то может поднять на него руку. После того как в течение многих лет он внушал людям почтение и страх всюду, где только появлялся, после того как в течение многих лет он привык в любой компании быть самым высоким, он поневоле стал считать себя неуязвимым. И вот он ползет вдоль стены, не спуская глаз с человека, который так же высок, как он, и притом на сорок лет моложе.
В то время как отца, пробиравшегося ползком вдоль стены, обуревали противоречивые чувства: унижение, гнев и невольная гордость за сына, – сын тоже находился во власти самых противоречивых эмоций. Больно и стыдно было видеть кем-то побежденного отца, и Молочника не радовало, что сам он – победитель. Печально сделать открытие, что простоявшая пять тысяч лет пирамида, одно из чудес цивилизованного мира, созданная упорным трудом строителей, которые из поколения в поколение с усердием и вдохновением возводили и совершенствовали ее, в действительности сделана в подсобном помещении универмага Сирса умелым декоратором, который дал гарантию, что она просуществует ровно столько, сколько длится человеческая жизнь.
В то же время он ликовал, как разыгравшийся жеребенок. Его желание наконец исполнилось – он что-то выиграл и одновременно что-то утратил. Безграничные возможности открылись перед ним, тяжелейшее бремя ответственности на него навалилось, но он не был готов к тому, чтобы воспользоваться первым и взвалить на себя второе. А потому он бодро обошел вокруг стола и спросил у матери:
– Ну, как ты?
Она ответила, разглядывая свои ногти:
– Все в порядке.
Молочник посмотрел на сестер. До сих пор в его глазах они ничем не отличались от матери, все трое выполняли, собственно, одну и ту же роль. Они были уже подростками, когда он родился; сейчас одной исполнилось тридцать пять, а другой – тридцать шесть. И так как Руфь была всего шестнадцатью годами старше Лины, ему казалось, все они примерно одних лет. Но сейчас, когда он посмотрел на сестер, они ответили ему взглядом, полным ненависти столь внезапной и жаркой, что он испугался. Нет, сейчас уже не казалось, будто их бледные глаза сливаются с кожей, еще более бледной. Сейчас казалось, будто их глаза густо обведены углем, будто по щекам их пролегли две борозды, а пунцовые губы так набрякли ненавистью, что готовы лопнуть. Он моргнул два раза, прежде чем их лица вновь обрели привычное, ласковое и слегка встревоженное выражение. Торопливо вышел из комнаты – он понял: здесь никто не поблагодарит его и не обругает. Его поступок коснулся его одного. Ничего не изменил он в отношениях его родителей. Ничего не изменил он у них в душе. Ударив отца, он, возможно, создал новую ситуацию па шахматной доске, но игра все равно будет продолжаться.
Он стал великодушным с тех пор, как начал спать с Агарью. Во всяком случае, он так считал. Рыцарственным. Во всяком случае, ему так чудилось. Таким рыцарственным и таким великодушным, что вступился за мать, о которой почти никогда не думал, и расквасил физиономию отцу, которого и любил, и боялся.
У себя в спальне он начал перебирать разложенные на туалетном столике вещицы. К шестнадцатилетию мать подарила ему две оправленные серебром щетки, на которых были выгравированы буквы П. М. – «Помер Мейкон», но их можно было также расшифровать как «профессор медицины». Они шутили на эту тему, и мать настойчиво намекала, что ему неплохо было бы поступить на медицинский факультет. Он отвертелся: «На что это будет похоже? Какой больной захочет пригласить врача по фамилии Помер?»
Мать засмеялась, но напомнила ему, что у него есть и второе имя – Фостер. Что, если из этого имени сделать фамилию? Профессор Мейкон Фостер. Ведь хорошо звучит? Он вынужден был признаться, что хорошо. Оправленные в серебро щетки постоянно напоминали ему, о чем она мечтала для него – не ограничить образование средней школой, а поступить в колледж и вслед за тем на медицинский факультет. К деятельности мужа она питала не больше почтения, чем тот к выпускникам колледжа. Учиться в колледже, по мнению отца Молочника, значило тратить попусту время и не участвовать в бизнесе, а ведь бизнес учит приобретать. Вот дочерей ему непременно хотелось отдать в колледж, где они смогли бы подыскать себе подходящих мужей; одна из них, Коринфянам, в самом деле посещала колледж. Но Молочнику нет никакого смысла поступать туда, тем более что он приносит немалую пользу в конторе. Пользу настолько очевидную, что Мейкону удалось уговорить своих приятелей из банка побеседовать с какими-то другими их приятелями и перевести его сына из разряда подлежащих первоочередному воинскому призыву в разряд «необходим для поддержания семьи».
Молочник остановился перед зеркалом, освещенным низко висящим бра, и посмотрел на свое отражение. Оно, как и всегда, не произвело особого впечатления. У него было вполне приятное лицо. Глаза, которые нравились женщинам, твердая линия челюсти, великолепные зубы. По отдельности все выглядело неплохо. И даже более чем неплохо. Но связанности не было, в совокупности черты его лица не составляли единого целого. Все как-то неопределенно, смутно как-то, словно ты тайком заглядываешь из-за угла куда-то, где тебе быть не положено, и никак не можешь решиться, идти вперед или удрать. Задумано-то нечто важное, а вот задумано оно второпях, кое-как, не всерьез.
Так стоял он перед зеркалом и старался забыть, как отец крался вдоль стены, и вдруг услышал: в дверь постучали. Ему не хотелось видеть сейчас ни Лину, ни Коринфянам и не хотелось по секрету от всех обсуждать с матерью то, что случилось. Но он не испытал ни малейшего облегчения, разглядев в полутьме коридора отца. Струйка крови все еще темнела возле уголка его рта. Но стоял он прямо, глядел решительно.
– Послушай, папа, – начал Молочник. – Я…
– Помолчи, – ответил Мейкон и, отстранив его, прошел в спальню. – Сядь.
Молочник подошел к кровати.
– Послушай-ка, попробуем все это забыть. Если ты обещаешь…
– Тебе сказано, садись, значит, садись. – Мейкон говорил негромко, но лицо его стало похожим на лицо Пилат: он прикрыл дверь. – Ты у нас нынче стал большим человеком, но стать большим – это еще не штука. Нужно стать человеком в полном смысле слова. А если тебе хочется быть человеком в полном смысле, ты и правду должен знать все полностью.
– Не нужно мне ничего рассказывать. Мне вовсе не обязательно знать все про вас с мамой.
– Нет, рассказать нужно, и знать все это тебе обязательно. Если уж ты приохотился поднимать руку на отца, то располагай хотя бы некоторой информацией перед тем, как двинуть меня в следующий раз. Я отнюдь не собираюсь ни оправдываться, ни извиняться. Информация, и больше ничего.
Я женился на твоей матери в 1917-м. Ей исполнилось тогда шестнадцать лет, и жила она вдвоем с отцом. По-моему, я не был в нее влюблен. В те годы этого не требовалось, не то что нынче. Ну, конечно, вступая в брак, люди рассчитывали на уважительное отношение, верность и… ясность. Так уж нужно человеку: верить и полагаться на то, что муж с женой рассказывают о себе только правду, – иначе пропадешь. Когда ты выбираешь жену, самое главное, чтобы вы оба не расходились в мнениях насчет того, что для вас обоих будет самым главным.
Ее отцу я не понравился, и, должен сказать, я тоже очень сильно в нем разочаровался. Он был, пожалуй, самым почтенным негром в этом городе. Не самым богатым, зато самым уважаемым. Но какой же он был притворщик. Держал деньги в четырех разных банках. Всегда спокойный, важный. Я думал, он и на самом деле такой, а оказалось, он потихоньку нюхает эфир. Все негры в нашем городе его боготворили. А он их презирал. Называл каннибалами. Когда родились твои сестры, он лично принимал и первую и вторую, и оба раза единственное, что его интересовало, – это цвет их кожи. От тебя бы он отрекся. Мне не нравилось, что он вздумал быть акушером у собственной дочки, в особенности оттого, что его дочь – моя жена. В «Приют милосердия» цветных тогда не пускали. Да она бы и не пошла к другому врачу. Я хотел разыскать повивальную бабку, но доктор Фостер сказал, что все они нечистоплотны. Я ответил ему, что меня самого в свое время принимала повивальная бабка и что если она для моей матери сгодилась, то сгодится и для его дочки. Одним словом, мы крупно поговорили, и я сказал под конец, что ничего не может быть отвратней, чем отец, принимающий младенца у собственной дочери. В общем, поставили точки над «i». После этого нам уже больше не о чем было спорить, но настояли-то они на своем. Он и Лину принял, и Коринфянам. Имена они позволили мне выбрать – я ткнул наугад пальцем в Библию, – а больше ничего. Сестры твои погодки, ты знаешь. И принимал ту и другую он. Присутствовал при родах, все видел. Я понимаю, он, конечно, врач, а врачей такие вещи вроде бы не волнуют, но он все-таки прежде всего мужчина, а потом уж врач. Я тогда понял: теперь они оба всегда будут против меня, и, что бы я ни делал, они своего добьются. Мне не давали забыть ни на миг, в чьем доме я живу, и где куплен наш фарфор, и как тесть выписал из Англии уотерфордскую вазу, а также стол, на который они поставили ее. Стол был такой большущий, что не влезал в дверь и его пришлось разобрать на части. Кроме того, доктор вечно бахвалился, что он вторым во всем нашем городе завел пароконный выезд.
Откуда я родом, на какой мы жили ферме – им на это было наплевать. И на мою работу тоже, неинтересно им это было, и конец. Я скупаю лачуги в трущобах – так именовали они мои дела. «Ну-с, как трущобы?» Такими словами приветствовал он меня каждый вечер.
Но не в том дело. С этим-то я мог примириться, потому что знал, чего хочу и как этого добиться. Так что примириться-то я с этим мог вполне. Да в общем-то, и примирялся. Мне другое было обидно: они не желали считаться со мной, кое к чему и близко не подпускали. Один раз я попытался пустить в оборот часть тех денег, что лежали у него в четырех банках. В те времена за некоторые земельные участки платили бешеные деньги. Их скупала железнодорожная компания «Эри Лакаванна». А у меня на эти участки нюх. Я там все обшарил: набережную, пристань, развилку 6-го и 2-го шоссе. Точно вычислил, где будет пролегать железная дорога. И нашел-таки участок, который можно было дешево купить, а потом перепродать компании. Он мне даже десятицентовика не пожелал одолжить. Если бы он раскошелился, то умер бы богатым человеком, а то ведь был ни то ни се. И мои дела пошли бы в гору. Я просил твою мать, чтобы поговорила с ним. Подробно объяснил ей, как пройдет эта дорога. А она ответила: это он сам должен решать, мол, она не вправе на него воздействовать. Мне, своему мужу, ответила так. Тут уж хочешь не хочешь, а задумаешься, за кем же она замужем – за мной или за ним.
Ну, а потом он заболел. – Мейкон внезапно замолчал, как будто эта тема напомнила ему о его собственной бренности, и вынул из кармана белый носовой платок. Осторожно приложил его к разбитой губе. Поглядел на розовое пятнышко, оставшееся на материи. – Я думаю, – продолжал он, – вся его кровь пропиталась этим самым эфиром. Они как-то по-другому обозвали его болезнь, но я-то знаю, все дело в эфире. Он не вставал с постели и весь распух. То есть тело распухло, руки же и ноги высохли как палки. Он перестал принимать пациентов, и впервые в жизни этот надутый осел понял, что за удовольствие болеть и платить другому ослу, чтобы он тебя вылечил. Один врач, тот, что его лечил – из тех врачей, которые сами-то его к своим клиникам и близко не подпускали, а если бы он явился к их дочерям или женам принимать младенца, просто заикнулся бы об этом, они бы его с лестницы спустили, – так вот, один из них, из тех, которых он считал достойными его внимания, принес однажды какое-то зелье под названием «радиатор» и заявил, что этим зельем вылечит его. Руфь под собой от радости земли не чуяла. Ему и впрямь сделалось лучше на несколько дней. Потом снова хуже. Он совсем не мог двигаться, кожа стала слезать с головы. Лежал себе и лежал в той самой кровати, в которой и до сих пор спит твоя мать, а потом умер там, беспомощный, с раздутым брюхом, с костлявыми руками и ногами, похожий на белую крысу. Он, понимаешь ли, давно уже не мог переваривать пищу. Поэтому его только поили, а потом он еще что-то глотал. Я и сейчас не сомневаюсь – тот же эфир.
Вечером, когда он умер, я как раз находился в другом конце города, мы пристраивали к дому мистера Бредли крыльцо. Покосилось-то оно давно, но лет двадцать продержалось, а потом вдруг сразу обвалилось. Я взял помощников, и мы пошли туда прилаживать крыльцо – а то ведь тем, кто из дому выходит, приходилось оттуда прыгать, а тем, кто входит, – без всяких ступеней карабкаться на три фута вверх. Кто-то подошел ко мне тихонько и сказал: «Доктор умер». Руфь, сказали мне, у него, наверху. Я представил себе, как она убивается, и тут же поспешил домой успокоить ее. Я не стал терять время на переодевание и поднялся к нему в спальню в той же одежде, в какой чинил крыльцо. Руфь сидела в кресле у его кровати и, едва увидела меня, вскочила и закричала: «Как ты смеешь появляться здесь в таком виде? Приведи себя в порядок! Приведи себя в порядок, прежде чем сюда заходить!» Я вообще-то обиделся, но я с почтением отношусь к мертвым. Я вышел из комнаты. Принял ванну, надел чистую рубашку и воротничок, а после этого опять вернулся.
Мейкон снова замолчал и потрогал распухшую губу, словно именно здесь гнездилась боль, мерцающая в его глазах.
– В постели, – сказал он и умолк так надолго, что Молочник усомнился, будет ли он продолжать. – В постели – вот где она находилась, когда я снова открыл дверь. Лежала рядом с ним и целовала его. Он лежит там мертвый, белый и раздувшийся, и тощий, а она прижалась ртом к его пальцам.
Ну, скажу я, напереживался я тогда. Какие мне только ужасы не приходили в голову. Чьи дети Лина и Коринфянам? Ну, это я сообразил, что мои, ведь ясно же: старый подлец был не способен заделать ребенка. Куда уж там ему, ведь он нюхал эфир еще задолго до того, как я впервые появился у них в доме. Опять же, если б дети были не мои, он бы не волновался так по поводу цвета их кожи. Потом меня начали одолевать мысли насчет того, что он присутствовал при ее родах. Сношений между ними не было, об этом я не говорю. Но ведь и без сношений мало ли что он мог придумать! Во всяком случае, лежала же она в постели с мертвецом и чмокала его пальцы, а если так, то что же она вытворяла, когда он был жив? Убить такую женщину без всяких разговоров. Можешь мне поверить, я потом не раз жалел, что ее не прикончил. Но уж покоя в жизни я, конечно, не ждал. Иногда, понимаешь ты, Мейкон, иногда я не могу с собой совладать. Просто не успеваю. Нынче вот, когда она сказала: «Да, это так, я папина дочка», да еще с такой улыбочкой… – Мейкон поднял взгляд на сына. Взгляд был открытым, щеки пылали. Только голос чуть заметно дрогнул, когда он сказал: – Ведь я неплохой человек. Ты это должен знать. Поверить мне. Ну сам вот погляди, кто так серьезно относится к своим обязанностям, как я? Не говорю, что я святой, но хоть это-то ты понимать должен. Я тебя старше на сорок лет, и других сорока мне не прожить. В следующий раз, когда тебе взбредет в голову меня ударить, ты сперва подумай: кто он, этот человек, с которым я решил расправиться? А еще подумай, что в следующий раз я тебе, может, этого и не позволю. Я хоть и старик, но сумею дать тебе отпор.
Он встал и положил носовой платок в задний карман.
– Ничего не говори сейчас. Но как следует подумай обо всем, что я тебе сказал.
Нажал на ручку двери и не оглядываясь вышел.
Молочник все сидел на краешке кровати; было тихо, лишь слегка гудело в голове. У него появилось странное чувство полной непричастности к тому, что он услышал сейчас. Словно неожиданно разоткровенничался незнакомец, подсевший к нему на скамейку в парке. И хотя он целиком и полностью сочувствовал огорчениям незнакомца – отлично представляя себе, как именно воспринимает тот все, что с ним случилось, – сочувствие его отчасти основывалось на том обстоятельстве, что к нему самому история незнакомца не имеет отношения и ничем ему не грозит. Час или менее тому назад он испытывал совершенно противоположные чувства. Тот посторонний, который вышел только что из его комнаты, был в то же время человеком, до такой степени ему небезразличным, что он с яростью ударил его. Он и сейчас ощущал зуд в плече от нестерпимого желания размахнуться и расквасить физиономию отцу. Поднимаясь к себе в спальню, он чувствовал, что он от всех отторгнут, но в то же время, что гнев его был справедлив. Он мужчина, на глазах у которого другой мужчина ударил беззащитное существо. Он не мог не вмешаться. Так повелось испокон веков. Мужчины всегда так поступают. Защищают слабых, обиженных и вступают в бой со злым великаном. А то, что слабой и обиженной оказалась его мать, а злым великаном – отец, лишь обострило ситуацию, но не изменило ее сути. Никоим образом. И незачем делать вид, что его толкнула на этот поступок любовь к матери. Слишком бестелесна, слишком призрачна была Руфь, чтобы внушать любовь. Но как раз из-за своей бесплотности она и нуждалась в защите. Она не была замученной семейными обязанностями рабочей лошадью, отупевшей, согнувшейся под бременем домашних трудов и хлопот, запуганной грубияном мужем. Но в то же время не была она и сварливой мегерой, которая умеет постоять за себя и не лезет за словом в карман. Руфь была женщина неяркая, но вовсе не простая – она обладала утонченными манерами и всегда предпочитала прямым путям окольный путь. Она, кажется, довольно много знала, но очень мало понимала. Интересное наблюдение и совершенно неожиданное для него. Прежде ему не случалось размышлять над человеческими свойствами матери, усматривать в ней самостоятельно существующую личность, функции которой состоят не только в том, чтобы что-то позволять или запрещать ему.
Он надел куртку и вышел из дому. Было полвосьмого, еще не стемнело. Ему хотелось походить и подышать каким-то другим воздухом. Откуда ему знать, что он должен чувствовать, если он еще не знает, что ему думать. А думать было трудно в комнате, где поблескивала серебряная оправа щеток с буквами П. М. и на сиденье кресла, в котором только что сидел отец, еще виднелся отпечаток его зада. Разглядывая бледные звездочки, которые начали проступать на небе, Молочник пытался определить, что в рассказанной ему истории правда и какая часть этой правды имеет отношение к нему. Да и вообще, чего ради отец свалил на него эту, как он выразился, информацию? Ищет сочувствия? Интересно, как, по мнению отца, он теперь должен к ним обоим относиться? Ну, во-первых, не мешало бы узнать, правда ли все это. Правда ли, что мать… правда ли, что у нее было такое с собственным отцом? Мейкон говорит, что нет. Что доктор был импотентом. А откуда он знает? Впрочем, наверно, знает, раз говорит, потому что, если бы у него мелькнула хоть тень подозрения, будто такое возможно, уж он бы этого так не оставил. Тем не менее он допускает, что, даже будучи импотентом, можно что-то «придумать». «Черт бы его побрал, – сказал Молочник вслух, – на кой ляд он вздумал мне рассказывать всю эту фигню!» Не хотел он ничего об этом знать. Все равно ничем не поможешь. Доктор умер. Прошлого не переделаешь.
Его смятение внезапно перешло в злость. «Идиотство, – прошептал он, – форменное идиотство». Если ему хотелось просто утихомирить меня, думал Молочник, то почему бы прямо не сказать? Пришел бы как человек и сказал: «Не психуй. Ты не психуй, и я не буду психовать. Оба перестанем психовать». И я ответил бы: «Ладно, годится». Так нет. Является ко мне и начинает черт-те что городить, объясняет, отчего и почему.
Молочник направлялся к Южному предместью. Может, удастся разыскать Гитару. Посидеть с Гитарой, выпить – сейчас бы самое оно. А не найдет Гитару, можно сходить к Агари. Хотя нет. Ему не хочется сейчас разговаривать с Агарью и вообще с женщинами. Разговаривать с ними о странном. А в самом деле, странная подобралась компания. Все ненормальные, вся их семейка. Пилат целыми днями распевает песни и плетет всякую чушь. Реба готова уцепиться за любые брюки. И Агарь … ну что ж, Агарь просто милая, но и она ведь не такая, как все люди. Она тоже бывает с чудинкой. Но у них в доме хотя бы не скучно и никаких секретов нет.
Где он сейчас может быть, Гитара? Когда нужен, его сроду не найдешь. Какой-то попрыгунчик. То отсюда выпрыгнет, то оттуда, когда – не угадаешь, но только не вовремя. Молочник вдруг заметил, что нет-нет, да шепнет себе что-то под нос и на него глядят прохожие. И что это так много на улице людей в такое время? Куда они все прутся? Теперь он старался не произносить своих мыслей вслух.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?