Текст книги "Тысяча бумажных птиц"
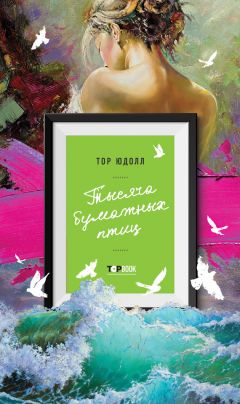
Автор книги: Тор Юдолл
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Она встает перед Гарри. Ее лицо раскраснелось от бега и радости: у нее есть что ему подарить!
– Милли! Я тебе тысячу раз говорил, что нельзя рвать цветы. Я…
– Я подумала, они поднимут тебе настроение. Смотри, какие красивые! – Она пытается поймать его взгляд, потом опускает глаза, смотрит себе под ноги. – Они сами опали. Честное слово.
Гарри не любит рододендроны: слишком кричащие, слишком вульгарные. В них нет достоинства роз, нет загадочности орхидей. Но Милли смотрит на него с такой светлой надеждой, какую способны испытывать только дети. Все последние пять недель она приставала к нему с расспросами о похоронах Одри, но он сумел рассказать только о выборе гимнов, о красивых салфетках «Из окон церкви видно море». Милли по-прежнему тычет букетом в грудь Гарри, словно цветы могут что-то исправить. Это невыносимо. Чтобы Милли не видела его глаз, он приседает на одно колено, тушит сигару о край бетонной дорожки, убирает окурок в карман – на потом. Не разгибаясь, берет у Милли цветы.
– Что ж, делать нечего, солнышко. Пойдем поставим их в воду.
Они идут прочь от Разрушенной арки, кеды Милли шаркают по дорожке.
– Я тебя обыскалась. Где ты был?
– Проверял, как цветет чубушник.
У нее загораются глаза.
– Который пахнет жасмином и апельсином?
– Все верно.
Она подпрыгивает на месте, радуясь своему маленькому успеху.
– Что мы сегодня будем читать?
– Может быть, «Ласточек и амазонок»?[7]7
«Ласточки и амазонки» (1930) – детская книга английского писателя и журналиста Артура Рэнсома (1885–1967).
[Закрыть]
Через пару часов Гарри надевает кепку и идет в город. Вечер теплый, приятный. Гарри шагает по улицам, сквозь раскиданный мусор и пыль, мимо распахнутых окон, привычек и быта: мерцающий телеэкран, семейный ужин. Синева неба сгущается, какой-то мужчина заводит песню на чужом языке – мусульманская молитва или заклинание. Вдалеке – гудок поезда, громыхание грузовика, взрыв рассерженных криков. Семейная ссора выплескивается из открытого окна.
Чуть дальше: мальчик играет гаммы, звонит телефон, рыжий кот идет по кирпичной стене и спрыгивает во двор дома Одри. Ее квартира располагается в большом эдвардианском доме, выходящем окнами на сады Кью. Протерев кулаком заслезившиеся глаза, Гарри смотрит на узкую гравийную дорожку между оградой и зданием – сюда выходит окно ванной Одри.
Он считал себя хорошим человеком; разве не каждый так думает о себе? Какие мы все дураки, думает он, мы так заняты поддержанием своих установок, что забываем задуматься о собственных импульсах и порывах.
– Как мы любим себя обманывать, – бормочет он.
* * *
За деревянными планками жалюзи Джона борется с простынями. В комнате душно, воздух сгустился от его бессонницы, от его остервенелых попыток взбить эту чертову подушку. Ноги свешиваются с кровати, он переворачивается на бок, на живот, потом встает и выходит из спальни. Бродит из комнаты в комнату, включает свет. На нем только футболка. Ниже пояса он голый, по-детски беззащитный.
Спустя пару часов квартира выглядит так, словно здесь побывали грабители. Одри наверняка возмутилась бы, что Джона все сваливает в одну кучу, не отделяет ее туфли от сумочек, зимние вещи от летних, но вот наконец он распихивает ее вещи по большим пластиковым мешкам: лежавшую на батарее ночную рубашку, шелковые платья, бюстгальтеры, туфли из змеиной кожи – подарок от матери, – которые Одри не надела ни разу. Друзья не раз вызывались помочь, терзая его своей добротой и заботой, но он должен был сделать все сам. Каждая вещь хранит воспоминания: концерт, крестины, пикник. Даже этот джемпер на спинке кресла… он еще помнит Одри.
К трем часам ночи скорбь Джоны превращается в медленный подводный танец. Такое ощущение, что воздух стал жидким. На диване в гостиной – красное покрывало, расшитое крошечными круглыми зеркальцами. Джона моргает, и на диване лежит Одри, разбиваясь на тысячу мелких осколков и повторяясь в зеркальном стекле. Повсюду он видит ее. В каждом кресле, на каждом стуле она сидит голая. Вон там, в белом кресле… но когда он оборачивается в ту сторону, там только пятно от красного вина, пролитого ее отцом в 1999 году. Они пригласили его на ужин, и он привел свою новую пассию; кажется, ее звали Мишель. Табурет у пианино пуст. Листок с нотами «Случая в космосе» Боуи лежит на верхней крышке, проседающей под тяжестью газет и нераспечатанной почты. Пианино ему подарила Одри на пятую годовщину их свадьбы; тогда никому даже в голову не приходило, что оно превратится в захламленную полку для бумаг. Маленький коридорчик ведет из гостиной в кабинет Одри, где стол еще обклеен памятками на листочках, полки ломятся от бумаг. Джона уже просмотрел все ее личные записи, искал предсмертную записку или хоть что-то похожее на прощание: рекомендацию фильма, которого он еще не смотрел, фрагмент их разговора, показавшегося ей важным. Образцы краски, исполосовавшие стену, – все оттенки розового и сиреневого. Выбирая цвета, они не закрашивали кусочки стены, а писали пробниками слова. Всегда только имена: Белла, Эми, Вайолет.
В ванной Джона неловко и торопливо сгребает с полок заколки, косметику, маленькое декоративное деревце, увешанное ее кольцами. Потом замечает ее халат, висящий на двери. В кармане так и осталась использованная салфетка. Он относит все в коридор и запихивает в пакет. Каждый звук воспринимается громче, чем должен быть: капающая из крана вода, шлепки его босых ног по паркету, визг «молний» на высоких сапогах его жены.
– Палимпсест.
Ради этого Одри разбудила его посреди ночи.
– Что?
– Четырнадцать по горизонтали. «Рукопись на пергаменте поверх смытого или соскобленного текста». – Она взбила подушку. – Я знаю… Я гений.
– Сейчас три часа ночи…
– Я вдруг проснулась, и слово пришло само. Подсознание – странная штука.
Она потянулась к коробке салфеток на тумбочке, шумно высморкалась.
– Напомни мне завтра, что нам надо купить открытку твоему папе. У него день рождения во вторник…
Как потерянный, Джона бродит среди набитых мешков для мусора. Икры пульсируют болью. Ему был поставлен диагноз: СБН, синдром беспокойных ног. Мышцы сводит судорогой, но Джона больше не хочет принимать снотворное, от которого чувствует себя чужим в собственном теле. Он нередко сидит до пяти утра, составляя планы уроков, и бьется коленями в стол, словно взбрыкнувший конь.
Джона начинает понимать, что вдовство предполагает болезненное физическое разъединение. Сеть, что сплеталась годами, теперь рвется на части. Одри отделяется от него слой за слоем: от его груди, его чресел, его пальцев. Когда Джона наконец ложится, он представляет, что она лежит рядом. Свернулась калачиком, прижимается теплой спиной к его животу.
Одри переворачивается на спину и открывает один глаз.
– Ты меня любишь?
– Да.
Она закрывает глаз.
– Тогда сделай мне чаю.
На тумбочке у кровати – фотография в рамке. Его жена в оливковой замшевой куртке. Она знает, как наклонить голову – да, вот так. Ее взгляд совершенно не соответствует образу, создаваемому дизайнерским нарядом, и сразу хочется подойти ближе, понять, в чем дело. Но больше всего Джоне хочется поговорить. Хочется, чтобы зазвонил телефон, чтобы они с Одри болтали о пустяках. Хочется просто услышать ее тихий голос. Джона жалеет, что не записал на диктофон ее дыхание. Он мог бы слушать его в темноте. Как она дышит во сне.
Джона снова встает и включает радио. Сейчас шесть утра. Он надеется отвлечься на новости, но в итоге слушает госпелы. «О, счастливый день». Краем сознания он слышит шум воды в душе, прямо за стеной. Он ковыряется в памяти, словно сковыривает болячку, зная, что так только хуже. Одри надеялась, что шум воды заглушит ее слезы, но Джона все слышит. Он представляет, как дрожат ее губы. Как она стоит, прижавшись лбом к кафельной стене.
Когда вода в душе умолкла, Джона тихонечко постучал в дверь, но Одри включила радио. Это был госпел, на полной громкости: бравурная надежда против ее слез. Вся эта муть о счастливых деньках. Похоже, Одри курила – земля за окном усыпана окурками. От запаха дыма, сочившегося из-под двери, Джону чуть не стошнило.
Каждый раз было по-разному. Первый выкидыш оказался замершей беременностью: мертвый плод, выявленный на УЗИ, десять минут потрясенного неверия. Вы, наверное, ошиблись. Как же нет сердцебиения? Должно быть. Первым же рейсом Джона примчался домой из Копенгагена, где был на гастролях в поддержку своего второго альбома. Одри не вышла в прихожую, когда он вошел. Но она не спала. Сидела на полу в своем кабинете.
– Надо было попросить, чтобы проверили еще раз… Может быть, аппарат был неисправен.
Джона присел на корточки перед ней.
– Господи, Од. Мне так жаль.
– Мне назначили чистку на понедельник.
– Но это только на той неделе…
– Я раз двадцать спросила, слышно ли сердце. Но они не отвечали. Возились со своим аппаратом…
Он целовал ее мокрые щеки, ее дрожащие ресницы. Когда взошло солнце, она попросила его заняться с ней любовью в комнате, где они собирались устроить детскую. Ей хотелось, чтобы он заполнил собой тишину, поселившуюся у нее внутри. Он знал, что плод мертв, но все равно страстно желал ощутить сопричастность к этой непостижимой связи между матерью и ребенком.
Она впустила его в себя – достаточно, чтобы понять хоть чуть-чуть. Одри была такой хрупкой, что он побоялся кончать. Они лежали, прижавшись друг к другу в поисках утешения, и он думал о том, что хотел бы остаться в ней навсегда, вновь и вновь познавая любовь.
Через несколько месяцев они поехали отдыхать на Сицилию. Джона помнит, как они плавали в море, помнит их ноги, облепленные песком, на белых гостиничных простынях. Обещание долгих лет вместе. Он поражался запасу прочности в ее теле. Они избывали свою потерю, погружаясь друг в друга, – и сблизились еще теснее. Там, на Сицилии, они решили пожениться.
Второй выкидыш случился в ванной. Джона встал на колени и выудил из унитаза крошечный эмбрион. Он держал его на ладони – запечатанный зародышевый пузырек длиной около дюйма.
– Хорошо, что ты смог подержать ее в руках, – сказала Одри. – Представь, я носила ее в себе девять недель. Смотри, – прошептала она в его раскрытую ладонь, – это твой папа.
Джона боялся пошевелиться. Боялся раздавить последний кусочек, оставшийся от их ребенка. Надо ли что-то сказать этому неродившемуся комочку или лучше промолчать? Ему было стыдно за свой интерес, что там внутри: клубок ДНК и нераскрывшийся потенциал, невоплощенная греза о будущем, или не успевший сформироваться уродец с хвостом?
Прошло больше года, прежде чем Одри опять забеременела. К тому времени деньги от студии звукозаписи успели закончиться. Джона устроился на работу: учителем музыки в лицей.
– По-моему, это не для тебя, – беспокоилась Одри. – С твоим талантом…
– Мне надо содержать семью. Когда родится ребенок…
– Сегодня утром у меня начались месячные.
Она стояла у раковины, с локтями в мыльной пене. Он отложил полотенце и принялся массировать ей плечи.
– Все равно нам нужны деньги, а там предлагают неплохую зарплату. И я все равно напишу третий альбом, обещаю.
В сентябре 2002-го он получил свидетельство о последипломном педагогическом образовании. Одри бросила курить. В следующем марте она забеременела. На сроке три месяца УЗИ показало, что все хорошо. Одри строила планы, как они переделают ее кабинет в детскую, но через пару недель у нее снова случился выкидыш. Тогда-то и началась настоящая беда. Джона делал, что мог. Водил ее в модные рестораны, покупал новые книги ее любимых авторов – дорогие издания в твердых переплетах. Но она только ворчала и придиралась к нему по любому поводу. Почему он не починил выключатель, почему не поменял лампочку в коридоре… и что делает на кухонном столе стопка ученических рефератов? Ее подруги заверяли его, что дело не в нем. У нее гормональная депрессия. Но она категорически не желала идти к врачу.
Это разные вещи, думает Джона, потерять жену и потерять неродившегося ребенка. Но большая утрата, она как порча, которая разъедает сердца, и близкие люди постепенно становятся чужими друг другу. Именно так с ними и произошло. В последние три месяца Одри больше не плакала в ванной, а слушала пышную барочную музыку: Баха или Вивальди. Возможно, она пыталась наполнить дом музыкой взамен той, которую перестал играть Джона.
Джона мысленно перебирает воспоминания, как будто прошлое можно переписать. Но он не в силах изменить ни единого слова из тех, что, возможно, расстроили Одри. Включаются новости, шум воды умолкает. Джона оборачивается и видит, как Одри выходит из ванной. Она голая, мокрая. Тень жены подступает к нему и обнимает его за шею. Она трется носом о его щеку, и вот наконец ее губы прижимаются к его губам. Что это за поцелуй? Придуманный Джоной в ее отсутствие. Воображаемый поцелуй с привкусом дыма и слез. Я здесь один? – спрашивает он безмолвно. Она исчезает.
Приют для потерянных вещей
Джона идет по коридору, пропахшему жиром для жарки и мастикой для пола. В классе он объясняет ученикам, что такое уменьшенная квинта в минорном аккорде, но из-за бессонницы все кажется смутным, далеким и блеклым, как фотокопия с фотокопии копии оригинала. Время как будто покрылось коркой. Но сквозь нее проникают звуки: его нога, нажимающая на педаль пианино, его мел, рисующий на доске ключевые знаки.
До летних каникул остается всего неделя. Джона сделал все от него зависящее, чтобы выполнить свои обязательства: он каждый день ездит сюда, в Паддингтонскую школу, и учит музыке старшеклассников. Его бежевая, заляпанная чернилами «учительская» сумка больше похожа на сумку нерадивого ученика. Он купил ее в прошлом сентябре, понадеявшись, что неформальный аксессуар дает основания предположить, будто его обладатель – человек творческий, свободомыслящий, в чем-то даже бунтарь. Теперь ему самому смешно, что когда-то его волновало, что о нем думают люди. Звенит звонок.
В учительской математик читает газету и слюнявит палец, листая страницы. Джона спасается в туалете и четверть часа сидит, запершись в кабинке. Возьми себя в руки, мысленно твердит он. Соберись. После обеда он заменяет заболевшего учителя физкультуры, присматривает за детьми в обветшавшем открытом бассейне. Свистки и вопли рвут его барабанные перепонки. Он орет во весь голос на расшалившихся мальчишек. В горле клокочет ярость.
– Я злюсь на себя, – говорит он своему психологу в тот же вечер. Он посещает психотерапевта по настоянию лечащего врача. – Я думал, она это переживет. Думал, мы с ней попробуем еще раз. Как я мог быть таким дураком? Надо было настаивать, чтобы она обратилась к врачу.
Пол Ридли внимательно слушает.
– Я говорил, что скамейка Одри уже готова? Кейт, ее лучшая подруга… – Джона на миг умолкает и начинает заново: – У нее масса полезных знакомств.
Он отводит глаза, чтобы не встретиться взглядом с психологом.
Тот подается вперед:
– Возможно, вы злитесь не только на себя, но еще на кого-то?
– Вы имели в виду, на нее?
Тишина.
Пол Ридли шумно втягивает носом воздух.
– Будь то авария или самоубийство, вы наверняка чувствуете себя брошенным.
– Она потеряла троих детей.
– И вы тоже.
Джона размышляет обо всех тех словах, которые он не сказал, и теперь очень об этом жалеет. Он не дотянул. Никогда не дотягивал. С его хрупкой любовью, с его скудным умением. Он размышляет о собственном бессилии, о своей неспособности уберечь жену от смерти. Сделать ее счастливой.
* * *
Милли бродит по саду. Если где-то валяется мусор, она поднимает его и относит в ближайшую урну, как ее научил Гарри. Она знает здесь каждую дорожку, даже некоторых людей: маму с коляской – она всегда приходит после обеда, в своей легкой шубке из искусственного меха; пожилую пару на лавочке в Пальмовом доме. Они приносят с собой обед и подолгу сидят в оранжерее, надеясь, что жаркая влажность облегчит боль в их скрученных артритом суставах. Есть еще женщина, которая вечно садится на одну и ту же скамейку и решает кроссворды в «Таймс». Чуть дальше, у храма короля Вильгельма – еще один постоянный посетитель. Фотограф с камерой на трехногом штативе. Закатав рукава рубашки, он наводит объектив на скрюченный ствол старой тосканской маслины. Фотограф делает снимок, Милли наклоняется, чтобы поднять пустую бутылку из-под воды, сигаретный окурок.
Вишни на Вишневой тропе давно отцвели. Милли пытается удержать в руках все собранные бумажки и палочки от леденцов. На скамейке у Прохладной оранжереи сидит женщина, что-то рисует в альбоме. Милли разглядывает ее бритую голову. Волосы очень короткие, выкрашены в черный цвет. Черный как вороново крыло. Есть в ней что-то знакомое: в ее хрупкой фигуре, в ее тонких руках.
Ей, наверное, лет двадцать пять. Из ее холщовой сумки торчит огромная книга с буквами Модильяни. Сумка вдруг начинает звонить.
Женщина достает телефон.
– Нет, Марк. Сегодня вечером я не могу. Мне надо работать.
Тишина.
– Нет.
Женщина поводит плечом, словно пытается оттолкнуть невидимого собеседника. Убирает телефон в сумку. Смотрит на свой рисунок и беззвучно шевелит губами, как будто молится. Милли подходит поближе, ей хочется посмотреть. Но женщина уже вырвала лист и смяла его в плотный шарик. Милли становится не по себе. У нее вдруг возникает странное чувство, что она превратилась в бумажную куклу.
Женщина берет сумку и идет прочь. Бросает смятый рисунок в урну. Милли тоже ссыпает в ближайшую урну весь собранный мусор и мчится следом за женщиной. На ней тяжелые высокие ботинки и ярко-красное платье, слишком яркое для ее бледной кожи. У нее твердая, решительная походка. Сумка болтается на плече. Женщина сходит с дорожки и углубляется в рощу. Сразу ясно, что она знает дорогу: ей известны все заболоченные участки и все места, где гусиный помет особенно густо покрывает землю. Милли думала, что только они вдвоем с Гарри так хорошо знают эти сады. Сколько раз Милли была самураем, побеждавшим драконов под цветущими вишнями, или играла в пиратов у озера… вот у этого самого озера, к которому сейчас подходит женщина. Она приседает на корточки и вынимает из сумки коробку. В коробке – три белых предмета, каждый размером с ее ладонь. Милли, спрятавшейся за тсугой, удается их рассмотреть. Три птицы, сложенные из бумаги. У них гордые шеи. Кончики крыльев изящно изогнуты.
Женщина встает на колени у самой кромки воды, в рифленые подошвы ее ботинок набились раздавленные одуванчики. Она сажает бумажных птиц на воду, словно возлагает цветы. Птицы тонут почти мгновенно. Милли моргает. У нее снова болит голова. Знакомая пульсация под правым виском. Женщина так и стоит на коленях в мокрой грязи. Бумажных птиц больше нет – только мутная от водорослей вода.
Милли сует руку в карман, трогает деревянные дощечки. Ее всегда успокаивают прикосновения к прессу для гербария – резной орнамент на верхней дощечке, прохладные металлические болты, – но сейчас ее захватило желание бежать. Она срывается с места и бежит прочь от озера, кеды гулко стучат по земле, колени гудят. Вернувшись на Вишневую тропу, она роется в урне. Разгребает пустые обертки и корочки хлеба от сэндвичей, вынимает сегодняшнюю газету. И вот он, плотный бумажный шарик. Милли разворачивает смятый рисунок и видит, что это портрет. Портрет маленькой девочки. Ее волосы собраны в два смешных хвостика, на щеках – ямочки от улыбки, но что-то странное с ее глазами… как будто они слишком взрослые. Или взгляд слишком тяжелый. Поразительно, но одним только карандашом женщине удалось передать невысказанный вопрос девочки. Так и оставшийся без ответа, он завис между бумагой и зрителем.
– Что ты делаешь, солнышко?
– Собираю мусор.
Рука, пропахшая дымом, ложится ей на плечо.
– У тебя такой вид, словно ты сейчас упадешь. Только не говори мне, что ты разговаривала с незнакомцами.
Взгляд Гарри – единственная вещь на свете, за которую можно держаться. Он садится на корточки, и Милли гладит его по колючей небритой щеке. Ей нравится его жесткая седая щетина, похожая на шершавое полотенце, которое у нее было когда-то.
Ей всегда хорошо и спокойно, когда он ее обнимает. Вчера он рассказал ей о трехсотлетнем каштане съедобном, или благородном, или посевном. По-научному – Castanea sativa. Как обычно, он разговаривал с ней как со взрослой. Научившись писать название каштана по-латыни, она прижалась ухом к коре, надеясь услышать древнее сердцебиение дерева.
– Это древесные соки текут от корней к листьям. Слышишь? Представь себе тысячи разговоров, которым он был свидетелем… Представь, как он помогал нам дышать. Не одну сотню лет…
Гарри разжимает объятия и кладет руки на плечи Милли.
– На сегодня я все закончил. Пойдем почитаем? Тебе же наверняка интересно, что стало с Ласточками и капитаном Флинтом?
– Да! Давай почитаем!
Он достает из нагрудного кармана большой желтый цветок.
– Allamanda cathartica. Нашел на полу в Пальмовом доме. Его еще называют золотым рожком…
– Какой красивый.
Милли берет цветок. Гарри снимает кепку. Это солидная кепка из твида, джентльменский головной убор. Как всегда, Гарри носит кирпичного цвета шарф, подаренный Одри. Милли расправляет тонкую ткань, целует Гарри в щеку.
– Может быть, это рожок королевы фей.
Ей нравится, как смеются его глаза – словно отблески солнца на воде.
– Пойдем, – говорит он. – Чего стоишь?
Она достает из кармана пресс для гербария. Резные дощечки четыре на четыре дюйма. Милли раскручивает болты, снимает верхнюю дощечку. Промокательная бумага – голубая, пепельно-розовая, светло-зеленая – обтрепалась по краям. К одному листу прилип раздавленный жучок.
Секунду подумав, она выбирает сиреневый фон. Кладет цветок на бумагу, расправляет лепестки. Она чувствует, что Гарри смотрит на шрам на ее правом виске. В этот шрам он целует ее каждый вечер, когда она ложится спать, – сморщенный участок кожи, как лепесток на едва раскрывшемся бутоне розы, чуть розовее всей остальной кожи. Хал всегда думает, что она уже спит, но Милли специально не засыпает ради этого поцелуя. Она лежит с закрытыми глазами и всем своим существом тянется к этой ежевечерней ласке, как росток – к свету.
* * *
Летние каникулы начались, и теперь Джона бывает в садах ежедневно. Он всегда ходит одним и тем же маршрутом: мимо храма Беллоны к озеру. Неизменно обходит озеро по кругу и только потом садится на скамейку Одри. Может быть, если являться сюда каждый день в одно и то же время, его жена будет знать, когда присесть рядом с ним. Он в это не верит, но все равно выполняет свой каждодневный ритуал – несчастный, как пес, потерявший хозяина. Привычка становится рутиной, которую он избывает день за днем.
В садах Кью есть свои собственные устои. Сейчас лето, много туристов. Джоне больше приятны те люди, которые вежливо спрашивают, можно ли сесть рядом с ним, чем те, которые нагло вторгаются в его пространство и отпускают дурацкие замечания о раскраске красноносых нырков. Прямо сейчас в его направлении движется юная парочка. Выходя на платформу, они пытаются произвести впечатление друг на друга своими познаниями о водоплавающих птицах. Джона смотрит на них исподлобья, защищая своим хмурым взглядом шестьдесят квадратных футов бетона вокруг памяти о жене.
Скамейка приметная, как совсем свежая могила. Красное дерево, еще не тронутое непогодой и не изгвазданное птичьим пометом, выделяется из ряда других, уже посеревших скамеек вокруг озера. Табличка сияет на солнце.
Одри Уилсон
1968–2004
Ее следы в моем сердце и в этих садах – навсегда.
Обескураженная пристальным, немигающим взглядом Джоны, парочка умолкает и быстро уходит.
Джона несет свою вахту. В определенный час птицы снимаются с места: плеск воды, шелест крыльев – время кормежки. Гусенок из выводка, следующего за мамой-гусыней, запинается и, наверное, подворачивает лапку; прихрамывая, он ковыляет следом за остальными, стараясь не отставать. Джона вспоминает все то, чего не ценил раньше. Все, чем он недостаточно дорожил.
– Джона? Я была права. Это голубиное дерево. У него белые предцветники, как голубиные крылья. Его еще называют деревом носовых платков или призрачным деревом. Я спросила садовника, он мне все рассказал.
Вернувшись из своей исследовательской экспедиции, Одри взяла его под руку. Он держал руки в карманах, ощущая на пальце вес обручального кольца. Он носил это кольцо уже год, но оно до сих пор было ему в новинку. Ему нравилась его тяжесть, нравилось ощущение основательности, которое оно создавало.
– Его латинское название Davidia involucrata.
Одри сделала паузу, наслаждаясь звучанием древних слов, потом рассказала Джоне, что изначально давидия произрастала в горах в китайской провинции Сычуань. Он поразился тому, сколько подробностей Одри удалось разузнать за ее двухминутное отсутствие.
Они познакомились здесь, в садах Кью, в 1995 году. Обоим было под тридцать, оба наслаждались жарким, словно подернутым белесой дымкой деньком на лужайке рядом с Прохладной оранжереей, викторианской постройкой из стекла и белого металла. В этой восьмиугольной оранжерее содержится удивительная коллекция фуксий, шалфея и бругмансий; но в тот душистый летний день вокруг нее возвели строительные леса, тяжелые ботинки рабочих рвали в клочья красиво подстриженный газон. Пока рабочие устанавливали прожекторы для вечернего концерта, в динамиках звучало «Сочувствие к дьяволу» группы «Роллинг стоунз». Одри подошла к Джоне, загоравшему на траве, и попросила у него зажигалку. В грохоте музыки он не сумел угадать ее имя. Ее улыбка была словно солнечный луч.
Прикрывая глаза от солнца, Джона смотрел на женщину с книжкой Aimez-vous Brahms…[8]8
«Любите ли вы Брамса?» (1959) – книга французской писательницы Франсуазы Саган (1935–2004).
[Закрыть] в одной руке и незажженной сигаретой в другой. На ее кремовую юбку-брюки, ослепительно белую блузку, рыжую косу, перекинутую через плечо. Их первый разговор длился не больше пяти минут. Пока Одри не выкурила сигарету. За это время Джона узнал, что она переводчик. Переводит техническую документацию с русского и польского, хотя мечтает переводить художественную литературу. Их оплетали ликующие аккорды, самонадеянный Джаггер[9]9
Мик Джаггер (р. 1943) – вокалист рок-группы «Роллинг стоунз».
[Закрыть] вовсю синкопировал воздух, и между ними возникло ритмическое напряжение. Но Джону сразила именно ее улыбка. Ему хотелось раскрыть эту хрупкую элегантность, исследовать ищущим языком эту трогательную щербинку между ее передними зубами.
В порыве разгульного любопытства Джона пригласил ее на вечерний концерт и вызвался купить билеты, которые были ему явно не по карману. Они встретились через несколько часов на той же лужайке. Там уже собиралась толпа с пледами для пикников и большими плетеными корзинами, набитыми пластиковыми бокалами для шампанского. Вечер был бархатным, благоуханным, и все понимали, как им повезло – британское лето не балует теплыми вечерами. Все пронизывала атмосфера общего удовольствия.
Джона всегда любил Шуберта. Они с Одри стояли, как завороженные, слушая «Третью песню Эллен», и небо над ботаническими садами наливалось ночной синевой. В антракте они обсудили преимущества и недостатки незнания иностранного языка. Когда они перешли ко второй бутылке вина, Одри вызвалась переводить с немецкого для Джоны, но тот предпочел слушать эмоциональную составляющую звука. Он не хотел понимать слова. Ему было достаточно переживаний, рожденных музыкой.
– Я знаю, что ты лингвист. Просто есть чувства, которые невозможно выразить словами.
Кажется, она собралась возразить, даже открыла рот, но лишь рассмеялась. Они посмотрели друг другу в глаза, и ночной сад вдруг замялся, застыл в нерешительности, вглядываясь в слово «любовь», проступившее в воздухе тонкими карандашными линиями. Оно так и осталось несказанным, это слово – набросок еще смутных чувств, – слишком легкое, слишком неопределенное. Оно было настолько непостижимым, что они и потом еще долго не решались произнести его вслух. Они просто держались за руки, когда ночь взорвалась искрами фейерверка.
Когда запах кордита рассеялся в воздухе, они вышли на Кью-роуд вместе с толпой других зрителей. На автобусной остановке они попрощались. Джона робел, переминался с ноги на ногу. Потом все же решился и поцеловал Одри. Вопрос на его губах – ненавязчивый, робкий. Ее ответ был вдохновенный, горячий. Лежа в своей одинокой постели в ту ночь, Джона думал об автомобильных огнях, полыхающих уличных фонарях и тихом счастье их с Одри губ.
На втором свидании они пошли в итальянский ресторанчик. За тускло освещенной едой их охватило желание – неодолимый порыв – рассказать друг другу о себе. Одри вспомнила свое детство, сплошь экзотические поездки и ухоженные сады. Она была единственным ребенком в семье. Отец учил ее ставить честолюбивые цели. Мать, эффектная светская львица, начинала свой день со стакана спиртного.
– Проблема была только в том, что они изменяли друг другу направо и налево.
В памяти Одри жили секреты и напряженное молчание, светская болтовня, незнакомые гости, звон бокалов на вечеринках. Когда родители наконец развелись, она с головой погрузилась в учебу. Девственность она потеряла за день до получения университетского диплома. Из той ночи она запомнила только пятна влаги на потолке и свое удивление, насколько нелепым может быть человеческое тело.
Джона подозревал, что это был ее великий бунт: встречаться с нечесаным музыкантом в потертых джинсах. Он попытался идеализировать свое детство в Девоне – обычное детство ребенка из среднего класса. Он рисовал романтические картины, как он ребенком бродил по пляжу, рылся палкой в приливных лужах, скакал по прибрежным камням, ловил крабов по воскресеньям. Он рассказывал Одри о семейных вечерах в пабе, когда кто-нибудь обязательно приносил с собой скрипку или аккордеон и весь зал наполнялся песней. О запахе крепкого сидра, открытого огня, влажных шерстяных свитеров и псины.
Его семья переехала в Сербитон[10]10
Район Лондона.
[Закрыть], когда Джоне было тринадцать. Он быстро избавился от провинциального акцента, но все равно оставался здесь чужаком и при всем желании не сошел бы за своего. Однако никто не решался над ним измываться. На голову выше ровесников, он был единственным, кто выглядел достаточно взросло, чтобы сойти за совершеннолетнего и купить пива. В новой школе его приняли в компанию чисто из меркантильных соображений, и вечера он по-прежнему проводил в одиночестве, наигрывая на гитаре и вызывая в воображении прибрежные скалы, вкус соли на коже, гулкое ощущение в ногах, как бывает, когда ты долго гонялся за чайками. Пытаясь поймать звук заката над морем, он чувствовал музыку, словно волны прилива. Когда сестра стала учиться играть на фортепиано, именно в Джоне открылись природные способности. Бывало, он даже не доедал ужин или обед, чтобы скорее бежать к себе в комнату и сочинять песни.
Благодаря своему музыкальному таланту он поступил в Бристольский университет, где наконец-то избавился от налета провинциальности и затусовался с крутыми ребятами, которые слушали Патти Смит и Боуи. Темой дипломной работы он взял кельтский фолк – сравнил его с музыкой Коэна и Дилана. После выпуска он рассылал свои демозаписи по звукозаписывающим студиям, играл каверы на свадьбах, исполнял собственные композиции в крошечных, липких от пива барах. Он взял себе имидж «человека семидесятых», популярный в те годы: коричневая косуха, джинсы клеш, длинные, вечно взъерошенные волосы, косматая бородища. Но он не вписался в бристольскую атмосферу трип-хопа, чей звездный час пришелся на середину девяностых. В Джоне не было ни грана пижонства, обязательного для брит-попа тех лет, у него была только самая обыкновенная акустическая гитара, иногда в сопровождении виолончели. Но в конце концов, в возрасте двадцати восьми лет, он подписал контракт со студией звукозаписи.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































