Текст книги "Заблуждения толпы"
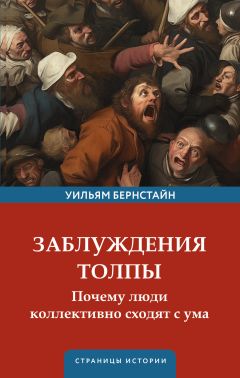
Автор книги: Уильям Бернстайн
Жанр: Экономика, Бизнес-Книги
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Благоразумные миллериты, спокойно ожидавшие 22 октября, с тревогой наблюдали за фанатиками, число которых множилось под влиянием теологии конца света: «Заблуждавшиеся полностью отдалились от общества и затеяли проводить собрания в частном доме по соседству, собирались днем и ночью, почти полностью пренебрегая мирскими делами; в некоторых случаях бросали на произвол судьбы маленьких детей или передавали тех на попечение ближних, менее напуганных, чем родители и покровители»332.
Это ожидание скорого пришествия, отчасти маниакальное, вовсе не было повальным, но на каждого искренне верующего миллерита находилось несколько неверующих, которые, чем ближе становилось 22 октября, тем чаще задавались вопросом, не стоит ли, когда поднимался ветер или небо темнело, все-таки примкнуть к «праведникам». В Итаке, штат Нью-Йорк, один мужчина проснулся от криков «Пожар!»; выяснилось, что горит молитвенный дом адвентистов, и этот человек с облегчением воскликнул: «Хорошо, что пылает храм миллеритов, а не весь мир»333.
Намного позже, в начале 1920-х годов, миллеризмом заинтересовалась чистокровная янки по имени Клара Эндикотт Сирс, получившая достойное частное образование. Она стала изучать сообщения о дне конца света в газетных объявлениях, собрала более полутора сотен таких объявлений в своей книге под названием «Дни заблуждений», которая во многом определяет современное восприятие миллеризма, пусть историки считают, что многие, если не большинство сюжетов в книге Сирс, сохраненных восемь десятилетий спустя в рассказах родителей, бабушек и дедушек, тетушек и дядюшек, скорее всего, изрядно приукрашены или попросту не соответствуют действительности.
Впрочем, отдельные сюжеты в книге Сирс постоянно воспроизводятся. Так, якобы многие миллериты собрались в ту ночь на вершинах холмов, другие решили встретить конец света на кладбищах. Вообще в историях, записанных Сирс, обнаруживаются крупицы правды: одна пожилая корреспондентка, маленькая девочка в 1844 году, вспоминала, как просила помочь с приготовлением еды соседку, дочь миллеритов. Родители велели той очистить душу перед вознесением, и девочка невинно осведомилась, может ли она зайти через неделю, если вознесения не случится. «Да, я была молода, – прибавила эта дама, – но мне никогда не забыть испуганный взгляд соседки и слезы в ее больших голубых глазах».
Согласно другой истории, некий ярый миллерит убеждал в скором конце света священника-унитария Теодора Паркера и поэта Ральфа Уолдо Эмерсона [104]104
Протестанты-унитарии верят в единого Бога и отрицают Троицу, а также отвергают ряд установлений Никейского собора, в том числе догматы о первородном грехе и непогрешимости Библии. – Примеч. перев.
[Закрыть]. Паркер в ответ заявил: «Меня это не касается, я живу в Бостоне», а Эмерсон заметил: «Конец мира меня не тревожит, я вполне могу обойтись без него»334.
Самые запоминающиеся образы из книги Сирс – это миллериты, ожидающие пришествия в белых «одеждах вознесения» или ломающие позвоночники и конечности в прыжках с деревьев (в одном случае – с самодельными крыльями). В целом эти образы правдоподобны, но нельзя исключать того, что их в свое время тиражировала антимиллеристская пропаганда.
Также звучали обвинения, будто на волне миллеризма приюты для душевнобольных заполнились сумасшедшими, но это, скорее всего, тоже миф: шизофрения нередко отягощается религиозным содержанием, а в списках пациентов из приютов Новой Англии миллеризм в качестве диагноза почти не упоминается335. Кроме того, родичи миллерита, кинувшегося раздавать свое мирское имущество, почти наверняка усматривали в этом поступке признаки безумия. Когда верующий по имени Дж. Д. Пур распродал свое имущество ради оплаты поездки из Бостона на запад в 1843 году (он собирался обращать в веру местное население и распространять литературу движения), его заманили в дом брата, который попытался сдать бедолагу в лечебницу, но его спас спутник-адвентист336.
«Октябрьское разочарование» с назначенным днем 22 октября куда сильнее повлияло на верующих, чем разочарование весеннее, с «плавающей» датой пришествия. Коллективное отчаяние затопило все вокруг. По словам Миллера, «чудилось, будто на нас разом обрушились все демоны бездны»337. Старейшина движения Луи Бутель вспоминал: «22 октября миновало, истинно верующие погрузились в невыразимую печаль и тоску, зато возрадовались неверующие и нечестивые. Все словно замерло. Никаких новых газет, никаких встреч, как раньше. Все чувствовали себя одинокими и едва ли желали с кем-либо разговаривать. Мы заперты в холодном и мрачном мире! Нам не дано избавления – Господь не пришел! Не было слов, способных передать разочарование истинного адвентиста. Только те, кто испытал нечто подобное, способны нас понять. Это было унизительно, и все разделяли это чувство. Все молчали, разве что спрашивали: где мы? что же дальше?»338
К провалу плана вознесения прибавлялось всеобщее презрение. Стоит напомнить, что многие адвентисты были сторонниками аболициониста Уильяма Ллойда Гаррисона, и потому их, вероятно, сильно задели его слова насчет страдающих от «прискорбной умственной фантазии, каковая проявила себя во всем ничтожестве». (Впрочем, Гаррисон не был беспристрастен, ведь он считал, что миллериты отнимают людской и финансовый капитал у аболиционистов.339)
Приходилось терпеть большие и малые унижения, покорно выслушивать от мальчишек язвительное: «Как, еще не вознесся?»; Хаймсу между тем предъявили обвинение в мошенничестве, поскольку его преуспевающие периодические издания представлялись конкурентам лакомой добычей, а одна бостонская газета посоветовала ему не появляться на улице.
Обвинения не подтвердились. Хаймс сам предложил выплату в четырехкратном размере за любое доказательство явного мошенничества, но ни одного доказательства так и не нашлось. Свидетели отказывались от своих показаний, уверяя, что те были сфабрикованы, а банки подтвердили, что его личные капиталы невелики340. Затем Хаймс приступил к оказанию финансовой помощи тем собратьям, кто пожертвовал личным имуществом и забросил бизнес ради несостоявшегося Второго пришествия. Сразу после «великого разочарования» разъяренная толпа разграбила и сожгла несколько молитвенных домов, разогнала собрания, размахивая огнестрельным оружием. Пострадал и Миллер: 29 января 1845 года баптистская церковь Лоу-Гемптона исключила его из состава общины.
Как и последователи Дороти Мартин, адвентисты по-разному отреагировали на этот массовый когнитивный диссонанс. Сноу пошел по пути мисс Мартин и ее самых преданных сторонников, которые удвоили ряды и укрепились в вере. Наставник Сноу Джордж Сторрс поступил наоборот и публично отрекся от веры в неизбежный апокалипсис.
Другие действовали иными способами. Прежде всего следует упомянуть «спиритуалистов» во главе с миллеритом из северной части штата Нью-Йорк по имени Хайрем Эдсон, который утверждал, что Христос все-таки явился 22 октября, но пришел наблюдать, а не судить и карать. Дескать, Он укрылся в «Святая святых», чтобы кропотливо разделить человечество на агнцев и козлищ. Когда эти списки будут наконец составлены, Он выйдет в мир и изречет окончательный приговор.
Вторая стратегия преодоления когнитивного диссонанса после разочарования 22 октября заключалась в идее «закрытых дверей»: мол, Иисус не стал возвращаться к людям, но предпочел в назначенный день закрыть дверь на небеса для тех, кто не прозревает свет; Он спасет лишь избранных. Как обычно и бывает с избранными, утверждалось, что совершенство наделяет их различными сексуальными привилегиями, от «распутного омовения ног» до «святых поцелуев» и до высшей плотской награды в виде познания «духовной женственности»341.
Миллер по своему обыкновению избрал довольно невнятную линию поведения – растерянно отмалчивался, потом стал приводить какие-то оправдания, потом возложил вину на скудость и неточность исторических данных: конец света, безусловно, скоро наступит, но по причине сбоя в расчетах это может произойти через несколько лет.
К тому времени его совсем замучили хвори; больной и сломленный, он прожил еще пять лет, а во главе движения после его смерти встал энергичный и талантливый во всем Джошуа Хаймс. То обстоятельство, что ранее он верил в пришествие 22 октября, объяснялось сугубо прагматическими, а не теологическими соображениями, и Хаймс быстро от него отрекся. Он запретил всякие дальнейшие высчитывания дат и постарался угомонить как спиритуалистов, так и приверженцев теории «закрытых дверей», которых искренне презирал. Это возмутило последних, к числу которых принадлежал Сноу, суливший Миллеру и Хаймсу адские муки за отступничество342.
Хаймс не мог не потерпеть неудачу: число сторонников миллеризма неуклонно падало, подписка на газеты резко сократилась, движение раскололось без возможности восстановления. Ортодоксальная фракция Сноу быстро сгинула; «благоразумные», вроде самих Хаймса и Миллера, смирились с ошибкой в прогнозировании, но продолжали верить в неизбежное Второе пришествие. Сам Хаймс позднее порвал с миллеризмом и вернулся в лоно епископальной церкви.
Подобно анабаптистам шестнадцатого столетия небольшая группа спиритуалистов сумела уцелеть; сегодня это миролюбивая секта адвентистов седьмого дня, умеренная в теологических воззрениях и консервативная социально, поощряющая вегетарианство и строгое соблюдение субботних запретов. Признавая неизбежность Второго пришествия, секта по понятным причинам воздерживается от назначения точной его даты343.
Но угли адвентистской апокалиптики продолжали и продолжают тлеть. Через полтора века после «великого разочарования» крохотная секта адвентистов седьмого дня, иначе «Ветвь Давидова» Дэвида Кореша, открыла одну из наиболее трагических страниц в американской религиозной истории.
* * *
Датировка события, как показал Леон Фестингер, порождает динамику, которой свойственна внутренняя нестабильность. Чем точнее прогноз, тем убедительнее он становится. При первых доказательствах ошибочности прогноза возникает когнитивный диссонанс, который побуждает верующих укрепляться в своих убеждениях и активнее распространять вероучение, привлекая все больше последователей. Наконец изрекается предсказание, настолько смелое и точное, что его провал становится сокрушительным потрясением для большинства сторонников веры; они разбегаются, остается лишь горстка наиболее «упертых». Выводы Фестингера позволяют увидеть в миллеризме черты, общие для всякой веры, не только религиозной, но также политической и культурной: «Хотя существует предел, за которым вера перестает существовать, вполне очевидно, что доказательства от противного способствуют ее укреплению и могут воодушевлять верующих»344.
Ни одна мейнстримная христианская секта не повторяла ошибки миллеритов с точной датой конца света. По словам историка религии Эрнеста Сандина, «движение миллеристов как будто на целое поколение фактически покончило с премиллениализмом в Америке… Но, сосредоточившись на 1843 годе, Миллер тем самым внедрил в свою систему элемент, грозивший погубить движение… Успехи Миллера ранее 1844 года сопоставимы с теми трудностями, которыми позднее оказалась вымощена дорога для тех, кто находил в себе смелость проповедовать милленаристское послание после 1844 года. Американцам потребовалось немало времени, чтобы забыть Уильяма Миллера»345.
Правда, непреодолимое желание превратить библейские двусмысленности в точные пророчества до сих пор снедает некоторых представителей человечества. В двадцатом столетии наследники Миллера по богословской линии научились скромно умалчивать о точной дате конца времен, однако они не жалеют красок в описании того, как именно все произойдет; Миллер и его последователи не смогли устоять перед предсказанием точной даты по Библии, а современные апокалиптики охотно экстраполируют газетные заголовки наших дней в мнимо правдоподобные нарративы конца света, раз за разом терпя неудачу в своих прогнозах. При этом, как было с летающими тарелками Дороти Мартин, каждая неудача оборачивается притоком новообращенных и новыми, еще более диковинными фантазиями.
Увы, эти нарративы способны оказывать влияние на поступки тех, кто управляет мировой машиной Судного дня.
Глава шестая
Приключения Уинстона Черчилля в королевстве монетарной политики
Все люди наиболее доверчивы, когда они наиболее счастливы; когда много денег только что заработано, когда некоторые действительно их зарабатывают, когда большинство людей думают, что они зарабатывают деньги, появляется счастливая возможность предаться упоительной лжи. На какое-то время почти все в нее поверят.
Уолтер Баджот346
Ранней осенью 1929 года Уинстон Черчилль неторопливо объезжал Канаду в персональном железнодорожном вагоне. Он прибыл в Нью-Йорк 24 октября 1929 года, в Черный четверг, в день первого катастрофического падения акций на фондовой бирже (их было немало той осенью), и записал: «Какой-то джентльмен бросился с пятнадцатого этажа и разбился; началась суматоха, и прибыла пожарная бригада». На следующий день некий незнакомец пригласил Черчилля на смотровую галерею нью-йоркской фондовой биржи, и глазам предстала такая вот картина347:
«Я ожидал увидеть столпотворение, но зрелище, представшее моим глазам, оказалось на удивление спокойным и упорядоченным. Сотрудники биржи ходили, как в замедленной киносъемке, предлагая друг другу огромные пачки ценных бумаг за треть прежней стоимости, но не могли найти ни одного смельчака, согласившегося бы приобрести состояние, которое они предлагали» [105]105
Перевод С. Бавина. – Примеч. ред.
[Закрыть].
Вскоре после этого он отплыл домой, в Великобританию, не обратив внимания на связь между своими финансовыми проблемами четырехлетней давности и важными событиями, что разворачивались у него на глазах. Впрочем, биржевой крах все-таки отчасти заинтересовал Черчилля. Падение акций опустошило его спекулятивный инвестиционный портфель и обременило долгами. При этом личные невзгоды обернулись радостью для потомков: чтобы расплатиться с кредиторами, Черчилль вновь прибегнул к самому своему надежному оружию – опять взялся за перо. За следующее десятилетие он опубликовал несколько своих лучших книг, а также множество статей и даже одну пьесу.
Назвать политическую карьеру Черчилля до 1929 года «шашечной» было бы преуменьшением. Будучи в годы Первой мировой войны Первым лордом адмиралтейства, он всячески поддерживал катастрофическую по последствиям высадку в Галлиполи, которая обошлась в тысячи жизней и стоила ему должности. Десять лет спустя премьер-министр Стэнли Болдуин, не подозревая о финансовой некомпетентности Черчилля, назначил его канцлером казначейства (в британской чиновной иерархии это министр финансов). Свое общение с чиновниками казначейства Черчилль описывал так: «Будь они солдатами или генералами, я бы понял, о чем они говорят. А то мне чудилось, что все вокруг болтают по-персидски»348.
* * *
Имя Хаймана Мински упоминается почти непременно, когда экономисты начинают обсуждать финансовые пузыри. Мински был любопытной фигурой экономического паноптикума 1950–1980-х годов: длинноволосый бунтарь искренне считал, что капитализм принципиально нестабилен, словно воплощал в себе осовременившегося, получившего лучшее образование Карла Маркса. Превосходя проницательностью всех прочих наблюдателей и очевидцев двадцатого столетия, он отлично разбирался в «патофизиологии» пузырей и экономических циклов, для которых, по его мнению, достаточно всего двух условий: доступности кредитов вследствие снижения процентных ставок и появления передовых технологий.
Начнем с процентных ставок. До Первой мировой войны британские банкноты свободно конвертировались в золотые соверены по цене 4,86 фунта стерлингов за унцию, и владельцы банкнот были уверены, что правительство располагает нужным запасом слитков для удовлетворения спроса. Фунт стерлингов казался надежной валютой, и потому сравнительно малое число владельцев банкнот на самом деле прибегало к конвертации; уж лучше пачка бумаги, чем штабель слитков желтого металла. Но военные усилия Великобритании потребовали запуска печатных станков, а стремительно выросшее количество банкнот подорвало былую уверенность, и владельцы бумажных денег теперь все чаще норовили обменять их на золото.
После войны Великобритании постоянно недоставало золота для обеспечения бумажных денег, и пришлось временно отказаться от конвертируемости валюты, чтобы владельцы обесценившихся банкнот не истощили государственные запасы слитков. В 1925 году Черчилль допустил ошибку, возобновив конвертируемость валюты и вернув фунт к золотому стандарту по старому курсу 4,86 фунта стерлингов за унцию. Переоцененный фунт сделал британские товары более дорогими и тем самым сократил объемы экспорта; кроме того, искусственно завышенный обменный курс привел к удешевлению иностранных товаров и стимулировал импорт. К 1926 году золотые резервы страны уменьшились на сумму 80 миллионов фунтов стерлингов, то есть на 10 процентов от общих запасов золота; это не могло не пугать349.
С самого рождения Соединенных Штатов Америки высокопоставленные американские и британские правительственные чиновники поддерживали близкие, дружеские личные отношения, и в момент кризиса это обстоятельство оказалось поистине роковым: речь о дружбе двух руководителей крупнейших центральных банков мира, председателя Федеральной резервной системы США Бенджамина Стронга и управляющего Банком Англии Монтегю Нормана.
Наилучшим способом поднять стоимость фунта и остановить отток золота было понизить американские процентные ставки, что сделало активы, номинированные в фунтах стерлингов, относительно более привлекательными. Стронг поступил именно так в 1927 году и тем самым выручил Нормана – но за сиюсекундное спасение пришлось заплатить высокую цену. Низкие процентные ставки в Америке, уже охваченной мощным экономическим бумом, породили спекулятивную лихорадку, которая разразилась как раз тогда, когда Черчилль, приближаясь к концу своего турне по Северной Америке, остановился в Нью-Йорке.
* * *
К 1929 году развитый мир успел привыкнуть к регулярным финансовым потрясениям. Очевидцы событий и историки вместе с ними часто характеризуют эти кризисные взлеты и падения как болезни; что ж, медицинская аналогия и вправду позволяет лучше понять пациента и саму болезнь, хотя мы говорим о людях и социальных потрясениях.
Врачи рассматривают болезнь в трех основных оптиках: через патофизиологию, лежащую в ее основе биохимию и физиологию процесса болезни; через анатомию поражаемых органов и части тела; через симптомы и признаки, которые ощущает пациент и которые наблюдает врач у постели больного.
Точно так же можно рассматривать пузыри и кризисы. Например, их патофизиология связана с капризами человеческой психики и колебаниями доступности кредита в рамках современной банковской системы. Под анатомией в данном случае можно понимать «схему четырех П», то есть придумщиков, публики, политиков и прессы. А к признакам и симптомам относятся заразительная тяга общества к богатству, получаемому почти без усилий, высокомерие придумщиков и превознесение последних широкой публикой350.
* * *
Стоит напомнить, что, по мнению Хаймана Мински, для надувания финансового пузыря требуются не только смягчение кредитной политики вследствие снижения процентных ставок (как поступил Бенджамин Стронг в 1927 году), но и новые, прорывные технологии. Примерами таких прорывов в науке и технике могут служить, скажем, железные дороги девятнадцатого столетия, а в области финансов – паевые / акционерные общества семнадцатого и восемнадцатого столетий351. Инвесторы, воодушевленные новыми технологиями или финансовыми продуктами, начинают вкладывать средства в акции, недвижимость или какие-то другие инструменты. Поскольку эти активы также могут использоваться в качестве обеспечения для ссуд, рост цен на них позволяет спекулянтам занимать еще больше, чтобы вкладываться в эти активы; это ведет к дальнейшему повышению цен и новым заимствованиям, то есть образуется самоподдерживающийся «благотворный цикл» (благотворен он лишь при экономическом росте). Вовсе не совпадение, что мании, паники и крахи стали фактически неотъемлемой частью повседневной жизни Запада приблизительно с 1600 года; именно тогда в обиход вошли и «замещение», и гибкая кредитная политика с применением бумажных денег.
Сегодня технологическое «замещение» может принимать различные формы. Головокружительные темпы научного прогресса выглядят постоянным признаком современной жизни: всего двадцать лет назад люди заморгали бы в недоумении, услышав, что во всем мире персональная видеосвязь станет повсеместной и почти бесплатной. Еще в 1940-х годах распространенные бактериальные заболевания, такие как холера, брюшной тиф, бактериальная пневмония и менингит, поражали людей в расцвете сил, не выбирая между богатыми и бедными, высокопоставленными и прозябающими на социальном дне. Ныне в развитых странах эти бедствия почти исчезли после появления таких антибиотиков, как пенициллин.
Напротив, до 1600 года отсутствие прогресса не просто воспринималось как данность, но считалось характерной составляющей жизни. До появления печатного станка многие технологические достижения канули в Лету просто потому, что ручное копирование документации подразумевало изрядные трудовые и финансовые затраты, так что при передаче из поколения в поколение пропало достаточное количество копий. Более того, грамотные встречались редко, а это означало, что многие ремесленники были не в состоянии сохранять свои методы и практики для потомства [106]106
Достаточно спорное утверждение, поскольку непосредственная передача знаний и умений между поколениями («от отца к сыну») в ремесле, безусловно, наличествовала и до изобретения печатного станка, хотя, конечно, о широком «безличном» распространении трудовых практик говорить не приходилось. – Примеч. перев.
[Закрыть]. Например, уже римляне придумали бетон, но эта практика растворилась в небытии вместе с империей; лишь в 1756 году Джон Смитон заново открыл секрет портландцемента.
Изобретение Гутенбергом массового книгопечатания около 1450 года устранило эту преграду на пути к техническому прогрессу, но ведь имелись и другие: ВВП на Западе на душу населения практически не увеличивался до 1600 года, а на Востоке и подавно стал расти намного позже.
В 1620 году философ Фрэнсис Бэкон опубликовал труд под названием «Novum Organum Scientiarium» («Новый инструмент науки», иначе «Новый Органон»). До Бэкона «натурфилософы», как тогда называли ученых, строили познавательные модели при помощи аристотелевского метода дедукции, исходя из аксиом – основополагающих и неоспоримых принципов, на которых зиждились все дальнейшие рассуждения. В этой системе наблюдаемые факты оказывались едва ли не второстепенными.
«Новый Органон» сам по себе выступал как разновидность «замещения», причем гениальность Бэкона проявлялась двояко. Во-первых, утверждалось, что старая аристотелевская система дедуктивного мышления мешает человеческому развитию; во‐вторых, предлагалась жизнеспособная альтернатива, «индуктивный» процесс тщательного накопления эмпирических данных, которые впоследствии сопоставляются с конкретной теорией (в этом состоит суть современного научного метода). За несколько поколений интеллектуальные отпрыски Бэкона – Гук, Бойль и Ньютон, если назвать лишь некоторых – придумали и учредили Королевское общество содействия естественным знаниям (ныне известное просто как Королевское общество). Позднее аналогичные организации появились по всей Европе, обеспечив колоссальное ускорение научных открытий352.
Семнадцатое столетие оказалось повивальной бабкой не только для научного метода, но и для второй социальной революции, то есть для создания эластичной валюты [107]107
Также «гибкой валюты»; этот финансово-экономический термин подразумевает деньги, количество которых быстро изменяется при изменении рыночной конъюнктуры. – Примеч. перев.
[Закрыть]. Большинство американцев ошибочно полагает, что деньги – это зеленые бумажки, объявленные правительством «законным платежным средством для всех обязательств, государственных и частных», или, как в недавнем прошлом, штампованные кругляши из золота и серебра. Но в древнем мире деньгами могло быть почти все – скажем, мера пшеницы, масла или, чуть позже, серебра. Лишь в середине седьмого столетия до нашей эры лидийцы в Малой Азии стали чеканить первые монеты из электрума, смеси золота и серебра.
Сегодня мы живем в совершенно другом мире. В Соединенных Штатах Америки всего десятая часть денег представлена банкнотами и монетами в обращении; остальное создается нажатиями клавиш в правительственных и банковских компьютерах. Так, банк выдает ипотечный заем не в виде спортивной сумки, битком набитой зелеными бумажками с портретами Александра Гамильтона, Бена Франклина и других покойных президентов; нет, он отправляет пакет электронов на адрес соответствующей компании. Уж наверняка эти чеки и электроны не обеспечены нужным количеством банкнот и монет, не говоря уже о золоте, серебре или поголовье скота.
Такую кредитную систему обычно называют «банкингом с частичным резервированием», и она стала еще более эластичной за столетия после возникновения в кругах ювелиров семнадцатого века. Если первые банки выпускали сертификаты с коэффициентом резервирования намного выше соотношения 2:1, они рисковали тем, что однажды скопом явятся вкладчики, требующие возврата своих средств. С развитием банковских консорциумов и государственных центральных банков это соотношение возросло примерно до 10:1 для коммерческих банков (порой, для инвестиционных банков, оно намного выше). Насколько возрастет коэффициент резервирования, зависит от того, сколько потребители и инвесторы хотят заимствовать, насколько банки готовы предоставлять ссуды, и, все чаще, от того, какой уровень кредитования одобряется государственными регулирующими органами353. Подходящей метафорой увеличения нормы резервирования будет растягиваемая резиновая лента: закон США 1913 года, учредивший Федеральный резервный банк, обязал последний «обеспечивать эластичность валюты»354.
Рынок жилья начала 2000-х годов будет прекрасным примером парадигмы Хаймана Мински. До 2000 года этот рынок оставался достаточно спокойным, стабильным и даже унылым. Банки выдавали ипотечные кредиты только надежнейшим заемщикам, то есть тем, кто мог похвастаться отличной кредитной историей, стабильным доходом и малыми долгами; эти люди занимали гораздо меньше рыночной стоимости своих домов. Следовательно, они почти всегда погашали ипотечные кредиты по графику, процент отказов был низким, а банки получали скромную прибыль.
Однако руководители банков начали замечать, что конкурирующие организации с менее жесткими требованиями к обеспечению кредитов обслуживают больше заемщиков и тем самым зарабатывают больше денег; в конце концов почти все банки последовали их примеру. Приблизительно тогда же стало бросаться в глаза другое явление: банки начали продавать ипотечные кредиты фирмам с Уолл-стрит, которые объединяли кредиты во все более сомнительные пакеты вроде обеспеченных долговых обязательств (CDO). Эта так называемая секьюритизация ссуд переносила риски дефолта домовладельцев по ипотеке от банков – источников кредита, хорошо знавших заемщиков, на доверчивые финансовые учреждения и правительства по всему миру, ведать не ведавшие, кто все эти люди.
Упадок стандартов кредитования распространился по всей банковской системе, понемногу начало увеличиваться количество дефолтов. Исходно стоимость базового обеспечения, в данном случае домов, возрастала, так что банки и держатели ипотечных ценных бумаг несли незначительные потери, ведь собственность недобросовестного заемщика можно было конфисковать и перепродать с прибылью. Но около 2007 года объем принудительной продажи таких домов вызвал снижение цен, и банки с держателями ценных бумаг стали нести убытки; в конце концов некоторые из них обанкротились и / или обратились за федеральной помощью. Как следствие, стандарты кредитования снова были ужесточены. Это фактическое прекращение кредитования со стороны банков привело к дальнейшему снижению цен на жилье и заставило домовладельцев отказаться от ипотечных кредитов.
Подобное происходило не только в Соединенных Штатах Америки, но по всему миру. В первые пять лет жилищного пузыря (примерно в 2002–2007 годах) основным доказательством добросовестности заемщика на рынке ипотечного кредитования было, образно выражаясь, наличие пульса; после краха банки принялись считать золотые пломбы во рту потенциального кредитуемого. Точно так же потребители, инвесторы и потенциальные домовладельцы стали гораздо больше интересоваться погашением долга, а не его приобретением, из-за чего снизилась доступность кредита и сократилась денежная масса.
Мински, скончавшийся в 1996 году, учил, что этот цикл является неизбежным результатом эластичности валюты: банки, как центральные государственные (тот же Федеральный резерв), так и частные, могут увеличивать и сокращать предложение денег. Также, указывал он, эти колебания объема денежной массы затрагивают практически все области рыночной экономики, не только жилищный сектор, но и корпоративное управление, а также рынки акций и облигаций.
Знаменитая «гипотеза нестабильности» Мински гласит, что в безопасной и стабильной финансовой среде деньги неизбежно перетекают от надежных заемщиков к тем, кого принято называть потенциально уязвимыми. В конце концов ситуация выходит из-под контроля, что и порождает вышеупомянутые кризисы, из-за чего кредиторы и инвесторы становятся более осмотрительными, а цикл начинается заново; можно грубо предположить, что этот процесс занимает около десятилетия. Коротко говоря, стабильность порождает нестабильность, а нестабильность ведет к стабильности; кредиторы при этом периодически «ломают» экономическую систему своими страхами и жадностью355. Конечно, без алчных заемщиков жадным кредиторам попросту не хватало бы клиентов.
Мински, должно быть, интуитивно понимал, пусть и не говорил о том впрямую, что здесь необходимо наличие еще двух условий, помимо «замещения» и доступности кредита: забывчивость общества в отношении предыдущих циклов и отказ от привычных и разумных, объективных способов оценки рисков.
Склонность к амнезии вытекает из самой сути гипотезы нестабильности. После финансового кризиса, когда свежи воспоминания о болезненных потерях, инвесторы и банкиры всячески избегают риска; первые не спешат покупать акции, а вторые выдают разве что наиболее безопасные и обеспеченные ссуды. По мере постепенного восстановления рынков, когда неприятные воспоминания рассеиваются, игроки начинают все больше рисковать, и цикл нестабильности возобновляется.
Пренебрежение трезвым финансовым расчетом под влиянием убедительных нарративов – последний из тех факторов, что в совокупности порождают финансовые мании. Когда люди сталкиваются с трудными или вовсе нерешаемыми аналитическими задачами, скажем, с оценкой компании, не приносящей прибыли, не говоря уже о дивидендах, обыкновенно используются более простые аналитические методы; среди психологов применительно к таким методикам принято говорить об «эвристике».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































