Текст книги "Английские юмористы XVIII в."
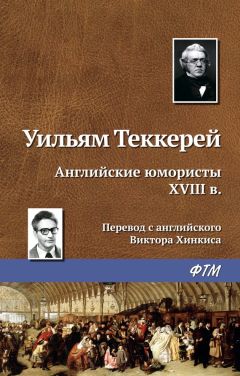
Автор книги: Уильям Теккерей
Жанр: Классическая проза, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Театр бедняги Конгрива представляется мне храмом языческих наслаждений и таинств, дозволенных только язычникам. Боюсь, что театр проносит через века эту древнюю традицию и культ, как масоны пронесли свои тайные знаки и обряды из святилища в святилище. Когда в пьесе распутный герой увозит красавицу, а над старым дураком презрительно смеются за то, что у него молодая жена; когда поэт в балладе призывает свою возлюбленную рвать розы, пока это возможно, и предупреждает ее, что седое Время летит, не останавливаясь; когда в балете честный Коридон ухаживает за Филлидой у решетчатой стены картонной хижины и смотрит на нее с вожделением через голову дедушки в красных чулках, который как нельзя более кстати засыпает; и когда, соблазненная зовом цветущей юности, она подходит к рампе и они оба, встав на носки, проделывают то на, которое вы все хорошо знаете, прерываемое тем, что дедушка пробудился от дремы возле картонного домика (куда он тотчас удаляется, дабы еще вздремнуть и дать молодым людям потешиться); когда Арлекин, сияя юностью, силой и проворством, разукрашенный золотом и переливаясь тысячью ярких цветов, легкими прыжками преодолевает бесчисленные опасности, побеждает разъяренных гигантов и, бесстрашный и великолепный, в танце попирает опасность; когда мистер Панч, этот безбожный старый бунтарь, преступает все законы и смеется над ними с отвратительным торжеством, обводит вокруг пальца юриста, запугивает церковного сторожа, сбивает его жену с ног ударом по голове и вешает палача – разве вы не замечаете в комедии, в пении, в танце, в убогом кукольном спектакле Панча языческий протест? Разве вам не кажется, что сама Жизнь вкладывает в это свою мольбу и пением выражает свое отношение ко всему? Взгляните, как идут влюбленные, держась за руки и нашептывая друг другу нежные слова! Хор поет: «Нет в мире ничего чудесней любви, нет чудесней юности, чудесней красы вашей весны. Глядите, вот старость пытается затесаться в эту веселую игру! Стукните этого сморщенного старого дурака собственным его костылем! Нет ничего чудесней юности, чудесней красоты, чудесней силы. Сила и доблесть покоряют красоту и юность. Будь храбрым и ты победишь. Будь молодым и счастливым. Наслаждайся, наслаждайся, наслаждайся! Хочешь знать segreto per esser felice?[57]57
Секрет, как быть счастливым (итал.).
[Закрыть] Вот он, в улыбке возлюбленной и чаше фалернского». И когда юноша поднимает чашу и поет песню, – чу!.. что это за протяжные звуки все ближе и ближе? Что это за погребальная песнь, неотвратимо омрачающая нашу душу? Огни празднества тускнеют, щеки бледнеют, голос дрожит и чаша падает на пол. Кто там? Смерть и Судьба у порога, и не впустить их нельзя.
Комический пир Конгрива сверкает огнями, и вокруг стола, осушая чаши с игристым вином, неистово жестикулируя и сквернословя, сидят мужчины и женщины, которым прислуживают отъявленные негодяи и служанки, такие же распущенные, как их возлюбленные, – более скверной компании, пожалуй, не найти на свете. Кажется, здесь никто не притязает на высокую нравственность. Во главе стола восседает Мирабель или Бельмур (одетые по французской моде и им прислуживают английские подражатели Скапена и Фронтена). Их призвание быть неотразимыми и побеждать всюду. Подобно героям рыцарского романа, чьи бесконечные любовные похождения и поединки стали благодаря им старомодными, они всегда великолепны и торжествуют – преодолевают все опасности, побеждают всех врагов и в конце концов покоряют красотку. Отцы, мужья, ростовщики вот враги, с которыми воюют эти герои. Все они не знают пощады к старости, и старик играет в драмах ту же роль, что в рыцарских историях злой волшебник или огромный слепой великан, который угрожает, ворчит и сопротивляется, но рыцарь всегда одолевает огромное тупое чудовище, вставшее на его пути! У старика сундук набит деньгами: сэр Беяьмур, его сын или племянник, швыряет эти деньги на ветер и смеется над ним. У старика есть молодая жена, и он держит ее взаперти: сэр Мирабель похищает жену, дает подножку старику, страдающему подагрой, и удирает от старого скряги, – старый дурак, как смеет он прятать свои деньги или держать взаперти робкую восемнадцатилетнюю женщину? Деньги предназначены для юных, и любовь – для юных, а стариков долой. Когда Милламенту минет шестьдесят и он, разведясь, конечно, с первой леди Милламент, женится на внучке своего друга Дорикура, только что из пеленок, – настанет его очередь, и молодой Бельмур оставит его в дураках. Всю эту милую мораль вы извлекаете из комедий Уильяма Конгрива, эсквайра. Они сверкают остроумием. Те нравы, которые он наблюдает, – он наблюдает с большим юмором; но ах!.. скучен этот пир остроумия, на котором нет истинной любви. Вскоре наступает пресыщение; за ним следует прискорбное несварение желудка, а наутро – тоскливая, тупая головная боль.
Я не имею возможности привести здесь многие сцены из блестящих пьес Конгрива[58]58
Великолепный образец смелой манеры Конгрива являет собой сцена притворного сумасшествия Валентина в пьесе «Любовь за любовь».
Скэндл. Ты намекнул хозяину про их затею?
Джереми. А как же, сэр. Он не против, только хочет принять за нее Анжелику.
Скэндл. Вот это будет потеха!
Форсайт. Господи спаси и помилуй!..
Валентин. Молчи и не прерывай меня!.. Я шепну тебе вещее слово, а ты будешь прорицать. Я – Истина, я научу тебя Новому Хитрословию. Я поведал тебе о прошлом, а теперь расскажу о грядущем! Знаешь ли ты, что будет завтра? Не отвечай! Я сам тебе все открою. Завтра мошенники и глупцы будут благоденствовать, одних выручит ловкость рук, других – богатство, а Истина, как и прежде, будет дрожать от холода в летнем платье. Спрашивай дальше про завтрашнее!
Скэндл. Спрашивайте его, мистер Форсайт.
Форсайт. А скажи, пожалуйста, что будет при дворе?
Валентин. Это знает Скэндл. Я – Истина, там не бываю.
Форсайт. Ну, а в городе?
Валентин. В обычное время в пустых церквах будут читать молитвы. А за прилавками вы увидите людей с такими самозабвенными лицами, точно в каждом лабазе торгуют религией. О, в городе все будет идти заведенным чередом! В полдень часы пробьют двенадцать, а в два пополудни на бирже загомонит рогатый скот. Мужья и жены будут торговать порознь, и в семье каждому выпадет своя доля – кому радости, кому заботы. В кофейнях будет до потолка дыма и хитрых планов. А стриженный под гребенку мальчишка, что утром подметает хозяйскую лавку, еще до ночи наверняка измарает свои простыни. Однако две вещи порядком удивят вас завтра: распутные жены с подоткнутыми юбками и покорные рогоносцы с цепями на шее. Но прежде чем рассказывать дальше, я кое о чем спрошу вас. Ваш вид внушает мне подозрения. Вы тоже муж?
Форсайт. Да, я женат.
Валентин. Бедняга! И жена ваша из Ковент-Гарденского прихода?
Форсайт. Нет, из прихода Сент-Мартин-ин-Филдз.
Валентин. О, несчастный! Глаза потускнели, руки дрожат, ноги подкашиваются, спина скрючена. Молись! Молись о чуде! Измени облик, сбрось годы. Достань котел Медеи, и пусть тебя в нем сварят. Ты выйдешь из него обновленным, с натруженными мозолистыми руками, крепкой, как сталь, спиной и плечами Атласа. Пускай Тальякоцци отрежет ноги двадцати носильщикам портшезов и сделает тебе подпорки, чтоб ты прямо стоял на них и глядел в лицо супружеству. Ха-ха-ха! Человеку впору класть голубей к ногам, а он алчет свадебного пиршества. Ха-ха-ха!
Форсайт. Что-то у него совсем ум за разум заходит, мистер Скэндл.
Скэндл. Должно, весна действует.
Форсайт. Вполне возможно, вам виднее. Я б очень хотел, мистер Скэндл, обсудить с вами то, что он здесь говорил. Его речи – сплошные загадки!
Валентин. А что это Анжелики все нет да нет?
Джереми. Да она здесь, сударь.
Миссис Форсайт. Слышала, сестрица?
Миссис Фрейл. Не знаю, что и сказать, ей-богу!..
Скэндл. Утешьте его как-нибудь, сударыня.
Валентин. Где же она? Ах, вижу! Так нежданно является воля, здоровье и богатство к человеку голодному, отчаявшемуся и покинутому. О, привет тебе, привет!..
Миссис Фрейл. Как вы себя чувствуете, сэр? Чем я могу услужить вам?
Валентин. Слушай! Я хочу посвятить тебя в тайну. Эндимион и Селена встретят нас на горе Латме, и мы поженимся в глухой полуночный час. Молчи! Ни слова! Гименей спрячет свой факел в потайном фонаре, чтоб никто не увидел, а Юнона напоит маковой росой своего павлина, и тот свернет глазастый хвост, так что стоглазый Аргус сомкнет очи, не правда ли? Никто не будет знать об этом, кроме Джереми.
Миссис Фрейл. О да, мы будем держать это в тайне и не замедлим осуществить!
Валентин. Чем скорее, тем лучше! Подойди сюда, Джереми! Поближе, чтоб нас никто не подслушал. Так вот что, Джереми. Анжелика превратится в монахиню; а я в монаха, и все же мы поженимся назло священнику. Достань мне рясу с капюшоном и четки, чтоб я мог играть свою роль, ведь через два часа она встретит меня в черно-белых одеждах и длинном покрывале, которое поможет нашему плану. Ни один из нас не увидит другого в лицо, пока не свершилось то, о чем не принято говорить, и мы не покраснеем навеки…
Входит Тэттл.
Тэттл. Ты узнаешь меня, Валентин?
Валентин. Тебя? А кто ты? Что-то не припомню!
Тэттл. Я Джек Тэттл, твой друг.
Валентин. Мой друг? Это чего ради? У меня нет жены, с которой ты мог бы переспать. Нет денег, чтоб ты мог взять их взаймы. Скажи, что толку со мной дружить?
Тэттл. Он говорит все без утайки, такому секрета не доверишь!
Анжелика. А меня вы узнаете, Валентин?
Валентин. Еще бы!
Анжелика. Кто же я?
Валентин. Женщина, одна из тех, кого небо наделило Красотой в тот самый час, когда прививало розы на шиповнике. Вы – отражение небес в пруду, и тот, кто к вам кинется, утонет. Вы белы от рождения, как чистый лист бумаги, но пройдет срок, и все перья на свете испещрят вас каракулями и кляксами. Да, я вас знаю, потому что я любил женщину, любил ее так долго, что разгадал одну загадку. Я понял предназначение женщины.
Тэттл. О, интересно, скажите!
Валентин. Хранить тайну.
Тэттл. Не приведи господь!
Валентин. Уж у нее тайна в безопасности; проговорись она даже, ей все равно не поверят.
Тэттл. Опять неплохо, право.
Валентин. А теперь я б охотно послушал музыку. Спой мне мою любимую песенку. – Конгрив, «Любовь за любовь».
В комедии Конгрива «Двоедушный» есть миссис Никлби, живущая в тысяча семисотом году, в чей образ автор ввел некоторые Чудесные черты озорной сатиры. Ее обманывают светские щеголи, и она умеет противостоять им не более, чем дамы, о которых говорилось выше, – Конгриву.
Леди Плайент. Ах! Подумайте о том, как бесчестно вы себя ведете! Хотите совратить меня (соль тут в том, что он жаждет получить руку дочери этой леди, а вовсе не ее), совратить с пути истины, по которому я до сих пор неизменно шла, ни разу не споткнувшись, не сделав ни одного faux pas [200]200
Ложного шага (франц.).
[Закрыть]. Ах, подумайте только, какую ответственность вы примете на себя, если я по вашей вине оступлюсь! Увы! Человек слаб, видит небо! Ужасно слаб и не способен устоять.
Меллефонт. Где я? День сейчас или ночь? Может быть, я сплю? Сударыня…
Леди Плайент. О господи, задайте же мне этот вопрос! Клянусь, я откажу, – поэтому не спрашивайте: нет, не надо, не спрашивайте, клянусь, я откажу. О, небеса, из-за вас вся кровь бросилась мне в лицо. Я, наверное, красная, как индюк. Фи, кузен Меллефонт!
Меллефонт. Да выслушайте же меня, сударыня. Я хотел сказать…
Леди Плайент. Выслушать вас? Нет, нет; сначала я вам откажу, а потом уж выслушаю. Никогда не знаешь, как можно переменить мнение, когда выслушаешь, – слух ведь одно из наших чувств, а все чувства порой обманывают. Я не стану полагаться на свою честь, уверяю вас. Моя честь тверда и несокрушима.
Меллефонт. Ради бога, сударыня…
Леди Плайент. Ах, не поминайте его больше. Помилуйте; как можете вы говорить о боге, имея такое порочное сердце? Вы, может быть, не считаете это за грех. Говорят, некоторые из вас, мужчин, не считают это за грех. Но, право же, если б это не было грешно… и тогда жениться на моей дочери, чтобы иметь возможность чаще… на это я никогда не соглашусь: можете быть уверены, я расстрою этот брак. Меллефонт. О, ад, вот так чудеса! Сударыня, я на коленях…
Леди Плайент. Ах нет, нет, встаньте. Ладно, сейчас вы убедитесь, как я добра. Я знаю, любовь всемогуща и никому не дано совладать со своей страстью. Вы ни в чем не виноваты, и я тоже, клянусь вам. Что же мне делать, если я обладаю таким очарованием? И что делать вам, если я вас пленила? Мне искренне жаль, что это предосудительно. Но моя честь… и ваша тоже… и грех! Ничего не поделаешь. О боже, кто-то идет. Мне нельзя здесь оставаться. Итак, подумайте над своим проступком и постарайтесь, постарайтесь всеми силами совладать с собой… непременно постарайтесь. Только не тоскуйте, не отчаивайтесь. Но и не думайте, что я в чем-нибудь вам уступлю. Боже избави! Но непременно отбросьте все мысли о женитьбе, потому что хоть я и знаю, что вы не любите Синтию, а лишь ослеплены страстью ко мне, все-таки, я буду ревновать. О господи, что я говорю? Ревновать! Нет, как могу я ревновать, если я не должна вас любить, так что не смейте надеяться, но и не отчаивайтесь. Идут, я оставляю вас. – «Двоедушный», действие 2, сцена V, стр. 136.
[Закрыть] – бесспорно, веселых, остроумных и смелых – и не стану просить вас выслушать диалог между остряком лодочником и великолепной торговкой рыбой, обменивающихся любезностями на Биллингсгейтском рынке; но некоторые его стихи – они вошли в число самых знаменитых лирических произведений того времени и были объявлены современниками равными поэзии Горация – могут дать представление о силе, изяществе, смелой манере Конгрива, о том, как великолепно он умел восхвалять и с каким утонченным сарказмом высмеивал. Он пишет так, словно настолько привык покорять, что придерживается невысокого мнения о своих жертвах. «Ничто не ново, кроме лиц, – говорит он, – и все женщины одинаковы». Он говорит это в первой своей комедии, которую написал от скуки во время болезни[59]59
«Писатели почему-то ужасно любят притворяться, будто они все делают случайно. «Старый холостяк» был написан от скуки, когда автор выздоравливал после болезни. А меж тем здесь явно видны необычайная отточенность диалога и постоянное стремление к остроумию». – Джонсон, «Биографии поэтов».
[Закрыть], когда был «блестящим молодым человеком». Ришелье в восемьдесят лет едва ли мог бы сказать лучше.
Когда он нападает, чтобы одержать очередную победу, то делает это с великолепной галантностью, при полном параде и под звуки скрипок, подобно тому как французские франты Граммона брали приступом Лериду.
«Зачем вам имя?», – пишет он, говоря о молодой даме у источников Танбриджа, которую превозносит до небес:
Зачем вам имя? Имени ей нет.
Благословенный музами предмет,
Она одна из тех, чьей славы свет
Бессмертен. Ну, так что же,
Вы будете настаивать, мой друг?
Тогда окиньте взглядом пестрый круг
Своих очаровательных подруг
Одна из них на ангела похожа.
А вот строки, посвященные другой красавице, которой, вероятно, комплименты поэта понравились куда меньше:
У Лесбии в глазах блистала власть,
Перед которой я готов был пасть,
Поняв, что я совсем не Прометей,
Чтобы добыть огонь таких очей.
Но только завела красотка речь,
Как я решил и взором пренебречь.
Бальзам на раны глупость пролила:
Глаза меня убили – речь спасла.
Аморет умнее очаровательной Лесбии, но поэт, видимо, уважает одну немногим более другой и описывает обеих в изысканном сатирическом духе:
Куда девалась Аморет?
Все ищут – и найти не могут.
Но вот вам несколько примет
Я думаю, они помогут.
Она изысканно скромна,
И каждый жест продуман тонко,
Хотя и держится она
С наивной грацией ребенка.
Ее глаза всегда хотят
Сжигать дотла, разить до смерти
Но он рассчитан, этот взгляд,
И вы ему не слишком верьте.
Она презрения полна
Ко всем, кто ею увлечется,
Не понимая, что она
Не лучше тех, над кем смеется.
Что должна была совершить Аморет, чтобы навлечь на себя такой сатирический обстрел? Неужто она устояла перед неотразимым мистером Конгривом? Да возможно ли это вообще? Могла ли устоять Сабина, когда пробудилась и услышала, что такой бард поет под ее окном? Он пишет:
Смотри, она встает, Сабина!
И солнце поднялось как раз.
Но солнце светит вполовину
Огня ее чудесных глаз.
Светило скрылось за горами,
Настала ночь – и я постиг,
Как животворно солнца пламя,
Как гибелен ее ледник.
Ну как, ваше сердце тает? Не кажется ли вам, что он божественный мужчина? Если вас не тронула великолепная Сабина, послушайте о благочестивой Селинде:
Селинда в храм бежит молиться,
Лишь о любви начну молить,
Но эта дура будет злиться,
Посмей ее забыть.
Я не хочу идти к другим
Но как ее добиться?
Пусть сделает меня святым,
А я ее – блудницей.
Какой всепобеждающий дух в этих строках! Как неотразим мистер Конгрив! Грешник! Далеко же ему до святого, этому восхитительному негодяю! Добиться ее! Разумеется, он ее добьется, неотразимый плут! И он знает это: как же иначе– с таким изяществом, с такими манерами, в таком великолепном, чудесно расшитом наряде; вот он перед вами в туфлях с красными каблуками, украшенных восхитительными узорами, проводит красивой, унизанной перстнями рукой по всклокоченному парику и бросает убийственный любовный взор вместе с надушенным письмецом. А Сабина? Какое дивное сравнение этой нимфы с солнцем! Солнце уступает Сабине первенство и не смеет взойти прежде чем встанет ее милость; солнце светит вполовину огня ее чудесных глаз; но еще до наступления ночи все замрут под ее взорами; все, кроме одного счастливца, который останется неизвестным; Людовик Четырнадцатый во всей своей славе едва ли так великолепен, как наш Феб-Аполлон из Молла и Спринг-Гарден[60]60
«Среди ее (кофейни Уилла) завсегдатаев особой дружбой Драйдена пользовались Саутерн и Конгрив. Но, по-видимому, Конгрив снискал большее расположение Драйдена, чем Саутерн. Он познакомился с ним после того, как написал свою первую пьесу и знаменитый «Старый холостяк» был вручен поэту для исправления. Драйден, сделав несколько поправок, чтобы приспособить ее для сцены, вернул пьесу автору с лестным и справедливым отзывом, что это лучшая из всех пьес начинающего автора, какие ему доводилось читать». Скотт, «Драйден», т. I, стр. 370.
[Закрыть].
Когда Вольтер посетил великого Конгрива, последний сделал вид, будто презирает свою литературную славу, и в этом великий Конгрив, пожалуй, недалек от истины:[61]61
Вольтер побывал у него незадолго до его смерти в доме на Сарри-стрит у Стрэнда, где Конгрив и умер. Его слова, что он хотел, чтобы «его посетили лишь как человека, ведущего простую и скромную жизнь и никак иначе», приводят все, кто писал о Конгриве, и они есть в английском переводе Вольтеровых «Писем об англичанах», изданных в Лондоне в 1733 году, а также в «Воспоминаниях о Вольтере» Гольдсмита. Но следует отметить, что их нет в тех же «Письмах» в «Полном собрании сочинений Вольтера», издание «Пантеон литерер», т. V (Париж, 1837).
«Celui de tous les Anglais qui a porte le plus loin la gloire du theatre comique est feu M. Congreve. Il n'a fait que peu de pieces, mais toutes sont excellentes dans leur genre… Vous y voyez partout le langage des honnetes gens avec des actions de fripon; ce qui prouve qu'il connaissait bien son monde, et qu'il vivait dans ce qu on appelle la bonne compagnie»[201]201
«Из всех англичан выше всего вознес славу комического театра покойный мсье Конгрив. Он написал немного пьес, но каждая из них превосходна в своем роде… Вы найдете в каждой язык честного человека в сочетании с поступками негодяя; а это доказывает, что он знал окружающих людей и жил среди тех, кого принято называть хорошим обществом» (франц.).
[Закрыть]. – Вольтер, «Письма об англичанах», Письмо 19.
[Закрыть] одно нежное прикосновение Стиля стоит всей его помпезности; вспышка свифтовской молнии, сияние аддисоновского чистого луча, – и вот уж его мишурный, слабый, театральный свет меркнет. Но женщины любили его, и он без сомнения был очарователен[62]62
Он написал на смерть королевы Марии пастораль «Скорбящая муза Алексиса». Алексис и Меналькас по очереди поют, выражая свои верноподданнические чувства. Королева зовется Пасторой.
Плачь, Альбион, над молодой ПасторойИ в траур туч одень седые горы! говорит Алексис. Среди прочих необыкновенных вещей мы узнаем, что
Сатиры скорбные скребут когтями землю,Рвут волосы и ранят грудь, печали внемля, (такую чувствительность редко встретишь у сатиров тех времен!)
И дальше:
Пастух великий посреди равнины,Упав ничком, припал к земле щекойИ высохшие листья жжет слезой.Ужели красоту схоронят скоро?Ужели в прах рассыплется Пастора?О злая смерть! В свирепости своейТы беспощадней волка, тигра злей:Им, хищникам, овец и агнцев надо,А ты пастушку отняла у стада! Это утверждение, что волк пожирает лишь овцу, а смерть пастушку; этот образ «Великого Пастуха», лежащего ничком в отчаянье, которое ни ветры, ни дожди, ни воздух не могут выразить, наверняка не будут забыты в поэзии. И таким стилем в свое время восхищались поклонники великого Конгрива!
В «Плаче Амариллы по Аминту» (молодому лорду Бландфорду, единственному сыну герцога Мальборо) Амарилла представляет герцогиню Сару!
Тигры и волки, природа и движение, реки и эхо являются перед нами вновь и делают свое дело. При виде ее горя
И волки опускаются без силы,И тигры постигают состраданье,И храм природы погружен в молчаньеВ часы, когда рыдает Амарилла. И автору этих строк Поп посвятил «Илиаду», а великий Драйден написал ему собственноручно:
Есть три единства – заданный канон.Но гений выше их – он должен быть рожден,И эта участь выпала тебе.Когда-то снисходительной судьбеУгодно было, чтобы всех в борьбеЗатмил один. Так был рожден Шекспир.А ныне ты явился в этот мир.Займи свой пост. Я стар, я все сказалПора мне покидать неблагодарный зал.С небесной ренты невелик доход,Земельная куда как более дает.Но верю я, что ты, избранник муз,И в счастье сохранишь свой строгий вкус.Прощай, мой друг, – и не суди во злеТого, что я оставил на земле.Я для тебя венец мой берегуНе дай оклеветать его врагу.Моя любовь искала лучших строк,Но это все, что подарить я мог. Да, такой способ приветствовать сильно отличается от нынешнего. У Шэдуэлла, Хиггонса, Конгрива и комических писателей того времени мужчины, встречаясь, бросаются друг другу в объятия, восклицая: «Джек, Джек, дай я тебя чмокну!» или: «Черт подери, Гарри, дай-ка я тебя облобызну, старина». И подобным же образом поэты приветствовали своих собратьев. В наше время писатели не целуются; но вот вопрос, любят ли они теперь друг друга больше, чем тогда.
Стиль называет Конгрива «великим наставником» и «великим писателем»; утверждает, что «и знатных варваров его страшило имя»; и титулует его как августейшую особу; он называет «Пастору» величайшим по силе трагизма произведением.
[Закрыть].
Мы видели в Свифте юмориста-философа, чья правда пугает, а смех вызывает скорбь. Мы нашли в Конгриве юмориста-наблюдателя иной школы, которому мир представляется вообще лишенным морали, и его ужасная философия, видимо, сводится к тому, что мы должны есть, пить и веселиться, пока возможно, и идти к черту (если черт есть), когда пробьет час. А теперь мы подходим к юмору, который изливается из совсем иного сердца и души, – к таланту, который заставляет нас смеяться, сохраняя доброту и радость, к одному из самых благожелательных и участливых людей, каких когда-либо знало общество; я думаю, вы уже догадались, что я сейчас назову имя прославленного Аддисона.
Перечитывая его сочинения и биографии, имеющиеся в нашем распоряжении, среди которых можно назвать знаменитую статью в «Эдинбургском обозрении»[63]63
«С самим Аддисоном нас связывает чувство, настолько похожее на любовь, насколько может вызвать любовь человек, который вот уже сто двадцать лет покоится в Вестминстерском аббатстве»… «Тщательно взвесив и беспристрастно обдумав все, мы давно пришли к убеждению, что он заслуживает такой любви и почитания, каких по справедливости может требовать каждый, принадлежащий к дряхлому и блуждающему во тьме роду человеческому». Маколей.
«Многие, кто хвалит добродетель, ограничиваются тем, что лишь хвалят ее. И все же есть основания считать, что профессия и деятельность Аддисона не слишком противоречат друг другу; поскольку среди политических бурь, в которых прошла почти вся его жизнь, хотя положение его было заметным, а деятельность внушительной, отзывы его друзей никогда не оспаривались врагами. Все, с кем его связывали интересы или общность взглядов, не только уважали его, но и тепло к нему относились; в глазах других, кого ярость или вражда вооружали против него, он мог потерять любовь, но не уважение». Джонсон.
[Закрыть], этот превосходный скульптурный портрет великого писателя и моралиста минувшего столетия, рожденный любовью, чудесным искусством и гением одного из самых знаменитых художников нашего века; глядя на его спокойное, красивое лицо, выражающее безмятежность, на эти чеканные черты, ясные и холодные, я могу лишь вообразить, что этот великий человек – в данном отношении подобный тому, о котором мы говорили в прошлой лекции, – также был одним из самых одиноких в мире. У таких людей мало равных, и они не ищут общества равных. Этим избранным умам свойственно одиночество – они живут в мире, но не принадлежат миру; и остаются выше нашей мелочной борьбы, скандалов, успехов.
Он был добр, справедлив, безмятежен и беспристрастен, его сила духа подвергалась лишь легкому испытанию, его привязанности были немногочисленны, ибо его книги заменяли ему семью, а читатели – друзей; будучи несравненно умнее, остроумнее, уравновешеннее и образованнее почти всякого с кем он встречался, как мог Аддисон много страдать, жаждать, восхищаться, чувствовать? Можно ожидать, что маленькая девочка будет мной восхищаться, потому что я выше ее ростом или пишу искуснее, чем она; но как могу я желать, чтобы человек, стоящий выше меня, назвал меня чудом, если мне не сравниться с ним? Во времена Аддисона едва ли можно было показать ему литературное произведение, проповедь, или стихотворение, или критическую статью, чтобы он не почувствовал, что может написать лучше. Его справедливость, по-видимому, сделала его равнодушным. Он никого не хвалил, потому что измерил своих собратьев более высокой меркой, чем простые смертные[64]64
«К близким людям Аддйсон относился безупречно, и в его манере говорить было некое очарование, какого я не видел ни у кого другого; но когда появлялся хоть кто-нибудь чужой, пусть всего только один, он соблюдал достоинство и хранил неловкое молчание». – Поп, «Примечательные случаи» Спенса.
[Закрыть]. Как мог он при таком величии смотреть снизу вверх на кого-либо, кроме недосягаемых гениев? Ему приходилось нагибаться, чтобы встать вровень с большинством. Гете или Скотт, например, встречали чуть не всякого новичка в литературе, расточая снисходительность и улыбки, встречали так чуть ли не каждого мелкого литературного искателя приключений, который приходил к их двору и уходил очарованный после аудиенции великого государя, прижимая к сердцу похвалу, которой его литературное величество его одарило, и оба эти милостивые властители литературы навлекли дурную славу на свою звезду и ленту. Каждый получил ордена от его величества. Каждый имел дешевый портрет его величества на шкатулке, украшенной бриллиантами по два пенса штука. Великий, справедливый и умный человек должен не хвалить без разбора, но высказывать то, что считает правдой. Аддйсон хвалит бесхитростного мистера Пинкетмэна; Аддисон хвалит бесхитростного мистера Доггета, актера, чей бенефис проходит в этот вечер; Аддисон хвалит дона Сальтеро; и Аддисон от всей души хвалит Мильтона, преклоняет колени и искренне приносит дань уважения высшему гению[65]65
«Талант Мильтона и его несравненное превосходство заключаются прежде всего в возвышенности его мыслей. Среди наших современников есть такие, которые могут поспорить с ним в любой другой области поэзии; но в величии чувств он превосходит всех поэтов, как современных, так и древних, за исключением лишь Гомера. Человеческое воображение не в силах породить более великие мысли, чем те, которые воплощены в его первой, второй и шестой книгах». – «Зритель», Э 279.
«Если бы мне предложили назвать поэта, который был бы величайшим мастером во всех формах воздействия на человеческое воображение, я, пожалуй, назвал бы Мильтона». – Там же, Э 417.
Эти знаменитые заметки печатались в каждом субботнем номере «Зрителя» с 19 января по 3 мая 1712 года. Его преклонение перед Мильтоном можно уподобить его восхищению духовной музыкой.
[Закрыть]. Но между этими двумя уровнями его похвалы редки. Сомневаюсь, чтобы великому мистеру Аддисону очеяь нравился молодой мистер Поп, папист; сам он не поносил Попа. Но когда мистера Попа поносили приверженцы мистера Аддисона, мистер Аддисон и рта не раскрыл, чтобы им возразить[66]66
«Сначала Аддисон был ко мне очень благосклонен, но потом стал моим злейшим врагом». – Поп, «Примечательные случаи» Спенса.
«Порвите с ним как можно скорее, – сказал мне Аддисон о Попе. – Иначе он непременно сыграет с вами какую-нибудь дьявольскую шутку; он одержим духом сатиры». – Леди Уортли Монтегью, «Примечательные случаи» Спенса.
[Закрыть].
Отец Аддисона был всеми уважаемый уилтширский священник и достиг высокого сана[67]67
Ланселот Аддисон, его отец, был сыном Ланселота же Аддисона, церковнослужителя в Уэстморленде. Он стал настоятелем Личфилда и архидьяконом Конвентри.
[Закрыть]. Его знаменитый сын не забыл свое церковное воспитание и сохранил ученую серьезность, так что впоследствии его называли в Лондоне «священником в коротком парике»[68]68
«Слова Мандевиля, который, проведя вечер в его обществе, назвал его «священником в коротком парике», никак не могут бросить на него тень. Он всегда бывал сдержан с незнакомыми, и люди вроде Мандевиля не располагали его к непринужденности». – Джонсон, «Биографии поэтов».
«Старый Джейкоб Тонсон не любил мистера Аддисона: он поссорился с ним и, уйдя с должности секретаря, часто говорил о нем: «Вот увидите, когда-нибудь этот человек станет епископом – я уверен, он стремится к этому сану; и, право, я всегда считал, что в душе он священник». – Поп, «Примечательные случаи» Спенса.
«Мистер Аддисон провел в Блуа около года. В разгаре лета он вставал рано, между двумя и тремя часами, а зимой лежал в постели до одиннадцати или до двенадцати дня. Живя здесь, он был молчалив и часто задумчив: иногда он до того углублялся в свои мысли, что я, войдя к нему, ждал минут пять, прежде чем он меня замечал. Обычно вместе с ним ужинали его ученики; кроме них, он мало с кем общался, и с женщинами у него тут, насколько мне известно, никаких связей не было; если бы были, я бы, вероятно, об этом знал». – Филиппо, аббат Блуа, «Примечательные случаи» Спенса.
[Закрыть], в то время короткие парики носили только светские люди, и отцы богословия не считали приличествующим показываться иначе, как в длинных париках. Он учился в школе в Солсбери и в Чартерхаусе, а в 1687 году, когда ему было пятнадцать лет, поступил в колледж Королевы в Оксфорде, где быстро выделился, сочиняя латинские стихи. Красивую и вычурную поэму «Пигмеи и журавли» до сих пор читают любители такого рода поэзии; сохранились также стихи в честь короля Вильгельма, из которых явствует, что верноподданный юноша имел обыкновение пить за здоровье этого монарха из чаш алого Лиэя; в его «Собрании» имеется еще немало других сочинений, одно из коих было посвящено заключению мира в Рисвике в 1697 году и обладало такими достоинствами, что Монтегью исхлопотал для автора пенсию в триста фунтов годовых, и на эти деньги Аддисон отправился путешествовать.
За десять лет в Оксфорде Аддисон глубоко впитал в себя латинскую поэзию, и когда отправился в Италию[69]69
«Его знание латинских поэтов, от Лукреция и Катулла до Клавдия и Пруденция, было необычайно доскональным и глубоким». – Маколей.
[Закрыть], знал этих поэтов как свои пять пальцев. Его покровитель оказался не у дел, поэтому пенсия ему не выплачивалась; и прославленный герцог Сомерсетский, узнав, что этот великий ученый, теперь уже прославленный среди европейских литераторов (великий Буало[70]70
«Наша страна обязана ему тем, что знаменитый мсье Буало прежде всего изучил взгляды на поэзию английского гения, читая «Musae Anglieanae»[202]202
Английские музы (лат.).
[Закрыть], книгу, которую он ему подарил». – Тикелл, «Предисловие к сочинениям Аддисона».
[Закрыть], внимательно прочитав изящные Аддисоновы гекзаметры, понял, что англичане не совсем варварский народ), узнав, что сам знаменитый мистер Аддиеон из Оксфорда готов состоять гувернером при каком-нибудь юном джентльмене, отправляющемся путешествовать для завершения образования, предложил мистеру Аддисону сопровождать его сына, лорда Хартфордского.
Мистер Аддисон ответил, что счастлив быть полезным его светлости и сыну его светлости, и выразил готовность немедля отправиться в путь.
Его светлость герцог Сомерсетский объявил одному из самых знаменитых ученых Оксфорда и всей Европы о своем милостивом намерении выплачивать воспитателю милорда Хартфорда сто гиней в год. Мистер Аддисон ответил письмом, в котором сообщал, что он целиком к услугам его светлости, но ни в коей мере не считает вознаграждение достаточным. Переговоры прервались. Они расстались со множеством любезностей с обеих сторон.
Некоторое время Аддисон провел за границей, вращаясь в лучшем европейском обществе. Да и как могло быть иначе? Он, вероятно, был самым благородным человеком, какого видел свет: во всех случаях жизни спокойный и учтивый, веселый и невозмутимый[71]71
«Мне посчастливилось часто бывать в обществе этих замечательных людей; мой отец всех их хорошо знал. Общество Аддисона было самым чудесным в мире. Никогда не видела такого умного человека, как Конгрив». – Леди Уортли Монтегью «Примечательные случаи» Спенса.
[Закрыть]. Не думаю, чтобы у него когда-нибудь возникали недостойные мысли. Он мог иногда, даже часто, пренебречь добродетелью, но не мог совершить много предосудительных поступков, из-за которых приходилось бы краснеть или бледнеть. Когда он бывал откровенен, беседа с ним, надо полагать, была так восхитительна, что величайшие люди приходили в восторг и упивались, слушая его. Ни один человек не переносил бедность и лишения со столь возвышенной стойкостью. Его письма к друзьям в тот период его жизни, когда он лишился правительственной пенсии и отказался от ученой карьеры, дышат мужеством, бодрой уверенностью и философским оптимизмом, и в моих глазах так же, как, надеюсь, в глазах его последнего и самого знаменитого биографа (хотя мистер Маколей вынужден с сожалением признать, что великий и благородный Джозеф Аддисон, подобно многим другим джентльменам его времени, питал печальное пристрастие к спиртному), они не становятся хуже оттого, что порой его честная рука слегка дрожала наутро после ночного возлияния в честь алого Лиэя. Он любил пить за здоровье своих друзей; он пишет Уичу[72]72
«От мистера Аддисона мистеру Уичу.
Досточтимый сэр!
Рука моя уже достаточно тверда, чтобы писать, и я не могу не воспользоваться этим, дабы поблагодарить Вас, честный и благородный человек, из-за которого она дрожала. Сегодня утром мне пришла в голову отчаянная мысль написать Вам в стихах, что я, несомненно, и сделал бы, если б нашел рифму к слову «кубок». Но хотя Вы и избежали этого покамест, опасность для Вас не миновала, если только я немного восстановлю свою способность. Но я уверен, что в какой бы форме я Вам ни написал, я все равно не смогу выразить то глубокое чувство благодарности, каковое испытываю к Вам за многие милости, которыми Вы осыпали меня в последнее время. Скажу только, что Гамбург был самым приятным местом из всех, какие я посетил в своих странствиях. Если кто-либо из моих друзей спросит, почему я прожил там так долго, пожалуй, я не покривлю душой, сказав: потому что там был мистер Уич. Ваше общество сделало наше пребывание в Гамбурге приятным. Ваше вино доставило нам множество наслаждений во время путешествия по Вестфалии. Я пью за Ваше здоровье, и если это может пойти Вам на пользу, будьте уверены, что Вы проживете Мафусаилов век или, если привести пример более близкий, столько, сколько самое старое вино в Вашем погребе. Надеюсь, ноги, которые мы оставили распухшими, сейчас приняли свою обычную форму. Не могу удержаться, чтобы не выразить свое сердечное уважение их владельцу и прошу Вас верить, что я всегда остаюсь, дорогой сэр, Вашим и проч.
Мистеру Уичу, резиденту Его Величества в Гамбурге. май 1703 г.». – Из «Биографии Аддисона» мисс Эйкин, т. I, стр. 146.
[Закрыть] в Гамбург, благодарно вспоминая его рейнвейн. «Сегодня я пил за Ваше здоровье с сэром Ричардом Шерли», – пишет он Басерсту. «Недавно я имел честь встретить милорда Эффингема в Амстердаме, где мы сто раз пили за здоровье мистера Вуда превосходное шампанское», пишет он в другом письме. Свифт[73]73
Приятно знать, что отношения между Свифтом и Аддисоном были в общем и целом сносными от начала до конца. Ценность свидетельства Свифта, когда никакие личные чувства не воспламеняли его взор и не искажали его суждений, никто не может поставить под сомнение.
«10 сент. 1710 г. – До десяти вечера просидел с Аддисоном и Стилем.
11. – Обедал с мистером Аддисоном у него дома и провел с ним часть вечера.
18. – Сегодня обедал с мистером Стрэтфордом у мистера Аддисона близ Челси… Я хочу получить от мистера Аддисона все что только возможно.
27. – Сегодня всей компанией обедали у Билла Фрэнкленда, были также Стиль и Аддисон.
29. – Обедал с мистером Аддисоном…» и т. д. – «Дневник для Стеллы».
Аддисон подарил Свифту свои «Путешествия» с надписью: «Доктору Джонатану Свифту, самому приятному собеседнику, самому верному другу и самому великому гению нашего века» – Скотт (со слов мистера Теофила Свифта).
«Мистер Аддисон, который бывает у премьер-министра, превосходный человек; и так как он ближайший мой друг, я употребляю все свое влияние, дабы направить в нужную сторону его представления о людях и делах». «Письма».
«Я заглядываю к себе в сердце и не могу найти иной причины, почему я Вам сегодня пишу, кроме глубокой любви и уважения, которые я всегда к Вам питал. Мне не о чем просить Вас ни за себя, ни за своих друзей». – Письмо Свифта Аддисону (1717 г.), Скотт, «Свифт», т. XIX, стр. 274.
Политические разногласия лишь на время прервали их дружеское общение. Со временем оно возобновилось; и Тнкелл пользовался дружбой Свифта, как наследством от человека, с чьей светлой памятью связано его имя.
[Закрыть] описывает его с чашей в руках, – Джозеф поддался искушению, перед которым Джонатан устоял. Джозеф был холоден по натуре и, вероятно, испытывал потребность в горячительном, дабы согреть кровь. Если он и был священником, не забывайте, что он носил короткий парик. Едва ли был на свете человек с более благородной и христианской душой, чем у Джозефа Аддисона. Не будь у него этой маленькой слабости к вину, мы едва ли нашли бы в нем вообще какойнибудь недостаток и не могли бы любить его так, как теперь[74]74
«Аддисон обычно работал все утро; потом встречался с членами своей партии у Баттона; обедал с ними и проводил там часов пять-шесть, а иногда оставался до поздней ночи. Я бывал в их обществе около года, но для меня все это было слишком; это вредило моему здоровью, и я прекратил свои посещения». – Поп, «Примечательные случаи» Спенса.
В возрасте тридцати трех лет этот выдающийся мыслитель, ученый и человек остался без занятий и средств к существованию. Его книга «Путешествия» не имела успеха; его «Диалоги о медалях» были встречены без особого одобрения; его латинские стихи, хотя и были объявлены лучшими со времен Вергилия или, по крайней мере, Статия, не принесли ему места на государственной службе, и Аддисон жил на третьем этаже убогого дома в Хэймаркете (сильно бедствуя, над чем посмеивается старина Сэмюел Джонсон), и там, в этом ужасном жилище, его разыскал посланец правительства и судьбы[203]203
«Когда он вернулся в Англию (в 1702 году), измученный после всех невзгод, которые ему пришлось претерпеть, то застал своих старых покровителей не у власти, и поэтому у него оказалось довольно досуга для упражнения своего ума». – Джонсон, «Биографии поэтов».
[Закрыть]. Срочно требовалась поэма, посвященная победе герцога Мальборо при Бленгейме. Не возьмется ли мистер Аддисон ее написать? Мистер Бойль, впоследствии лорд Карлтон, отвез лорду казначею Годолфину ответ, что мистер Аддисон согласен. Когда поэма обрела некоторую форму, она была представлена Годолфину; заключительные ее строки гласили:
Какие строфы, Муза, мне нужны,Чтобы воспеть безумие войны,Смятенье войск, тревожный барабанИ стоны тех, кто изнемог от ран,Подавленные яростным «ура»,И в чистой синеве полет ядра,И битвы надвигающийся шквал,Где Мальборо великий доказал,Что можно в бегство обратить народ,Но полководец с места не сойдет?..Среди волненья, стонов и молитвОн свысока взирал на ужас битв,И взор его был светел, примирен.Он выручал разбитый эскадрон,На подкрепленье высылал отрядИ отступивших возвращал назад.Так, помня Вседержителя указ,Верховный ангел наказует нас(Так было в дни, когда гроза и мглаНа бледную Британию сошла).Объятый вихрем, он летит вперед,И молниям сродни его полет.
[Закрыть].
Аддисон остановился вовремя. Это сравнение было объявлено величайшим из всех, какие когда-либо создавала поэзия. Этот ангел, этот добрый ангел, поднял мистера Аддисона и вознес его на место члена парламентской комиссии по рассмотрению апелляций – на место мистера Лока, который был как раз в это время повышен в должности. В следующем году мистер Аддисон сопровождал в Ганновер лорда Галифакса, а еще через год стал товарищем министра. О добрый ангел! Сколь редко являешься ты ныне в жилище писателя! Твои крыла теперь не часто трепещут у окон третьего этажа!
Вы смеетесь? Вы думаете, что немногим нынешним писателям по плечу вызвать такого ангела? Что ж, возможно; но в утешение отметим, что в поэме «Поход» есть такие скверные строки, что дальше некуда, и, кроме того, мистер Аддисон весьма предусмотрительно ограничился сравнением милорда Годолфина с ангелом. Позвольте мне, в виде безобидного озорства, прочитать вам еще несколько строк. Вот встреча герцога с римским императором после битвы:
Монарх австрийский, тот, под чью корону
Подведены все скипетры и троны,
Чье древо пышное ушло корнями
К языческим богам, – встает под знамя
Сыновних войск и поздравляет он
Того, кто поддержал великий трав.
О, не опишешь радость господина
В объятиях божественного сына.
В соединенье с доблестью такой
Прекрасны были кротость и покой,
Которые с достоинством блистали
На поле брани и в дворцовом зале.
Думается, многие из учеников четвертого класса в школе мистера Аддисона в Чартерхаусе могли бы теперь написать не хуже. В «Походе», при всем его успехе, есть грубые недостатки и промахи, как во всех походах[75]75
«Мистер Аддисон писал очень быстро; но иногда он долго и скрупулезно вносил поправки. Он показывал свои стихи нескольким друзьям и изменял почти все, что кто-либо из них находил неудачным. Мне кажется, он был очень неуверен в себе и слитком заботился о своей поэтической репутации; или (как он выражался) слишком чувствителен к похвалам такого рода, какие, видит бог, весьма мало значат!» – Поп, «Примечательные случаи» Спенса.
[Закрыть].
В 1713 году вышел «Катон». У Свифта есть описание премьеры. Всех лавров Европы едва хватило для автора этой удивительной стихотворной пьесы[76]76
«Что касается поэтических дел, – писал Поп в 1713 г., – я в настоящее время удовлетворяюсь ролью простого наблюдателя… «Катон» не был таким чудом в Риме в свое время, как в Британии в наши времена, и хотя все дурацкое усердие, какое только возможно, было приложено, чтобы убедить людей, что это пьеса, имеющая политическую тенденцию, однако ж то, что этот поэт сказал о другом поэте, можно вполне приложить в данном случае к нему самому:
И зависть восторгается тобою.И партии изнемогли в борьбеЗа право аплодировать тебе. Долгие и бурные аплодисменты вигов, сидевших в театре с одной стороны, были подхвачены тори с другой; а автор в холодном поту метался за кулисами, боясь, что эти аплодисменты больше дело рук, чем голов… Думаю, вы слышали, что после этих аплодисментов с враждебной стороны милорд Болинброк позвал Бута, который играл Катона, к себе в ложу и подарил ему пятьдесят гиней, в благодарность (как он выразился) за то, что он так хорошо защищал дело свободы от вечного диктатора». – Письма Попа к сэру Уильяму Трамблу.
«Катон» не сходил со сцены тридцать пять вечеров подряд. Пои написал к нему пролог, а Гарт – эпилог. Заслуживает внимания, сколько цитат сохранилось из «Катона» и вошло в общее употребление:
Чреват судьбою Рима и Катона.Нам не дано командовать успехом,Но мы захватим в плен его, Семпроний.Он только сделал честь своей звезде,Когда свою судьбу украсил ею. …что в РимеОбычно называют стоицизмом.Мой голос тих – пусть говорит воина.Но государством правят нечестивцыИ дело чести стало частным, делом. Не говоря уж о:
Заколебавшись, женщина погибла, и бессмертном:
Платон, ты рассуждаешь хорошо, которое, быть может, мстит публике за пренебрежение к пьесе!
[Закрыть]. Похвалы лидеров вигов и тори, овации публики, букеты и поздравления от литераторов, переводы на различные языки, восхищение и почести отовсюду, кроме Джона Денниса, который один остался в меньшинстве; после этого мистера Аддисона провозгласили «великим мистером Аддисоном». Сенат из кофейни возвел его в боги; сомневаться в истинности этого постановления считалось кощунством.
Тем временем он писал политические статьи и делал политическую карьеру. Он поехал в Ирландию, куда был назначен губернатором. В 1717 году он стал министром. Сохранились его письма, написанные за год или два перед тем и адресованные молодому лорду Уорику, в которых он обращается к нему «дорогой лорд», трогательно осведомляется о его занятиях и очень красиво распространяется о соловьях и о птичьих гнездах, которые нашел в Фулеме для его милости. Эти соловьи были предназначены услаждать слух матушки лорда Уорика. Аддисон женился на ее милости в 1716 году и умер в Холленд-Хаусе через три года после заключения этого блестящего и печального союза[77]77
«Эта леди согласилась выйти за него замуж на условиях, подобных тем, на каких вступали в брак турецкие принцессы, которым султан, как рассказывают, говорил: «Дочь моя, отдаю тебе этого человека в рабство». Этот брак, если верить сведениям, которые никто не пытался опровергнуть, не сделал его счастливее; супруги не были и не стали равными… Говорят, что баллада Роу об «Отчаявшемся пастухе» была написана либо накануне, либо вскоре после соединения этой примечательной четы». – Д-р Джонсон.
«Я узнала, что мистер Аддисон назначен министром, без особого удивления, поскольку мне было известно, что этот пост чуть ли не предлагали ему раньше. В то время он отклонил предложение, и, право, я думаю, хорошо бы сделал, если б отклонил его снова. Такой пост и такая жена, как графиня, если взглянуть на дело благоразумно, едва ли подходят для человека, страдающего астмой, и, возможно, настанет день, когда он будет от души рад отделаться от того и от другого». – Письма леди Уортли Монтегью к Попу, «Сочинения» под редакцией лорда Уорнклиффа, т. II, стр. 111.
В этом браке у них родилась дочь Шарлотта Аддисон, которая после смерти матери унаследовала поместье в Вилтоне, близ Регби, купленное ее отцом, и умерла старой девой в преклонном возрасте. Она была повреждена в рассудке.
Роу, по-видимому, оставался верен Аддисону во время сватовства, так как среди его стихов, кроме баллады, о которой упоминает доктор и которая называется «Жалоба Колина», есть «Стансы к леди Уорик по случаю отъезда мистера Аддисона в Ирландию», в которых ее милость именуется Хлоей, а Джозеф Аддисон – Ликидом. Но даже интерес к Аддисону не мог заставить читателя прочесть это сочинение; приведем, однако, один образчик:
Зачем от Муз я принимал венецИ не отвергнул царственной обузы?Я пел для услаждения сердецТак почему они рыдают – музы?Ах, Колин, Колин! Знать, всему конец.Твой лавр увял и трубка догорела.Обманщицу пленил другой певец.И нет ей до твоих напевов дела.
[Закрыть].
Но мы чтим Джозефа Аддисона не за «Катона» и «Поход», имевшие шумный успех, не за его заслуги в качестве министра, и не за его высокое положение в роли супруга леди Уорик или блестящие достижения в исследовании политических проблем с позиций вигов, и не как блюстителя британских свобод. Мы любим и ценим его как Болтуна в светской беседе, как Зрителя человечества, доставившего нам едва ли не больше удовольствия, чем любой из пишущих людей в мире. В свой фальшивый век он заговорил чудесным, искренним голосом. Мягкий сатирик, он никогда не наносил запрещенных ударов; милосердный судья, он карал только улыбкой. В то время как Свифт вешал без пощады – как настоящий литературный Джеффриз, – в милосердном суде Аддисона рассматривались лишь мелкие дела, лишь пустячные проступки и небольшие грехи против общества; лишь опасное злоупотребление сладостями и фижмами[78]78
Одной из самых смешных была статейка о кринолинах, которая, как сообщает Зритель, особенно понравилась его другу сэру Роджеру.
«Любезный зритель!
Почти целый месяц ты развлекал городских жителей за счет сельских; давно пора предоставить сельским жителям реванш. Со времени твоего отъезда отсюда прекрасный пол обуяли превеликие странности. Юбки, которые начали раздуваться и вспухать еще до того, как ты нас покинул, теперь вспучились невероятным образом и с каждым днем разбухают все больше; короче говоря, сэр, с тех пор, как наши женщины почувствовали, что за ними уже не следит око Зрителя, их невозможно удержать ни в каких рамках. Ты слишком поторопился похвалить их за скромность причесок; ибо подобно тому, как болезнь в человеке часто переходит из одного члена в другой, так обилие украшений, вместо того чтобы совершенно исчезнуть, только спустилось с голов на нижние части тела. То, что потеряно в высоте, восполняется шириной, и вопреки всем законам архитектуры расширяется фундамент, тогда как само здание укорачивается.
Женщины в защиту своих обширных одеяний утверждают, что они воздушны и очень подходят к сезону; но я рассматриваю это лишь как уловку и притворство, поскольку всем известно, что уже много лет не было более прохладного лета и, стало быть, жар, на который они жалуются, вне сомнения никак не связан с погодой; кроме того, я хотел бы спросить этих чувствительных дам, почему для них требуется более сильное охлаждение, чем прежде для их матерей?
Я знаю, некоторые приводят довод, что наш пол в последнее время стал непомерно уж дерзок, а фижмы помогают удерживать нас на расстоянии. Не приходится сомневаться, что невозможно лучше оградить честь женщины, нежели таким способом, кольцом в кольце, среди столь великого многообразия внешних укреплений и линий обороны. Женщина, защищенная китовым усом, достаточно ограждена от посягательств дурно воспитанного нахала, с которого вполне станется прибегнуть к тому способу ухаживания, какой изобразил сэр Джордж Этеридж, поскольку фижмы имеют сходство с бочкой.
В числе прочих мнений люди с предрассудками почитают фижмы родом распутства. Некоторые видят в этом знамение, предвещающее падение французского короля, и вспоминают, что юбки с фижмами появились в Англии незадолго до падения испанской монархии. Другие придерживаются того мнения, что это предвещает войну и кровопролитие, и уподобляют этот знак хвостатой звезде. По моему же мнению, это означает, что слишком многие стремятся в свет, вместо того чтобы стремиться покинуть его…» и т. д. и т. п. «Зритель», – Э 427.
[Закрыть] или же ущерб, нанесенный издевательством над тростями и табакерками щеголей. Иногда перед судом представала какая-нибудь дама, которая обеспокоила нашу повелительницу королеву Анну и подозрительно косилась на ложи; или юрист из Темпла за то, что он подрался со стражниками или исковеркал правила грамматики; или жена горожанина за излишнее пристрастие к кукольному театру и недостаточное внимание к детям и мужу; каждый из мелких грешников, представших перед ним, забавен, и он отпускает всякого с милым наказанием и самыми очаровательными словесными увещаниями.
Аддисон писал свои заметки весело, словно отправлялся на праздник. Когда «Болтун» Стиля впервые затеял свою болтовню, Аддисон, живший в то время в Ирландии, подхватил выдумку своего друга и стал присылать статью за статьей, отдавая все возможности своего ума, все сладкие плоды своей начитанности, все чудесные зерна своих каждодневных наблюдений с удивительной щедростью, и это плодородие казалось неиссякаемым. Ему было тридцать шесть лет: он находился в расцвете сил. Он не спешил снимать со своего ума урожай за урожаем, торопливо унаваживая и бесстрастно вспахивая его – жатва, сев и снова жатва, – как другие неудачливые земледельцы от литературы. Он написал немного: несколько латинских стихотворений – изящную пробу пера; скромную книгу путевых заметок; трактат о медалях, не слишком глубокого содержания; трагедию в четырех актах, монументальный классический труд; и «Поход», большую хвалебную поэму, за которую получил немалую мзду. Но когда его друг придумал «Болтуна», Аддисон нашел свое призвание, и самый восхитительный собеседник в мире заговорил. Он ни во что не углублялся слишком; пускай люди глубокого таланта, критики, привыкшие погружаться в бездны, утешаются мыслью, что он просто не мог проникнуть слишком глубоко. В его произведениях нет следов страдания. Ведь он был так добр, так честен, так здоров, так весело эгоистичен, если позволите мне употребить это слово. В том, что он написал, нет глубокого чувства. Сомневаюсь, были ли у него до женитьбы когда-нибудь бессонные ночи или дневные тревоги из-за женщины[79]79
«Я никогда не слышал, чтобы мистер Аддисон сочинил хоть одну эпиталаму, и даже, подобно более бедному и более талантливому поэту, Спенсеру, собственную женитьбу вынужден был воспеть сам», – «Письма Попа».
[Закрыть], зато бедняга Дик Стиль умел умиляться и томиться, и вздыхать, и плакать, не осушая своих честных глаз, по целому десятку женщин сразу. В его сочинениях не раскрыта изнутри и не показана с уважением любовь к женщине, и, на мой взгляд, одно было следствием другого. Он бродит по свету, наблюдая их милые причуды, обычаи, глупости, амуры, соперничества и подмечая их с самым очаровательным лукавством. Он видит их в театре, или на балу, или на кукольном спектакле, в модной лавке, где они прицениваются к перчаткам и кружевам, или на аукционе, где они спорят из-за голубого фарфорового дракона или премиленького японского уродца, или в церкви, когда они измеряют взглядом ширину кринолинов своих соперниц или ширину их кружев, когда те проходят мимо. Или же он разглядывает из окна в «Подвязке» на Сент-Джеймс-стрит карету Арделии, ее шестерых лакеев, покуда та, сверкая диадемой, входит в гостиную; и памятуя, что ее отец торговец из Сити, ведущий дела с Турцией, он прикидывает, сколько губок понадобилось, чтобы купить ей серьги, и во сколько ящиков инжира обошлась ее карета; или он скромно наблюдает из-за дерева в Спринг-Гарден, как Сахарисса (которую он узнает под маской) спешит, выйдя из портшеза, в аллею, где ее ждет сэр Фоплинг. Он видит только светскую жизнь женщин. Аддисон был одним из самых частых завсегдатаев клубов своего времени. Он каждый день по многу часов проводил в этих излюбленных местах. Кроме пристрастия к вину – против которого, увы, всякая молитва бессильна, – он признавался, да будет это вам известно, дамы, что у него была ужасная привычка курить. Бедняга! Помните, жизнь его прошла в мужском обществе. О единственной женщине, которую он действительно знал, он ничего не писал. И мне кажется, если бы написал, это было бы вовсе не смешно.
Он любит сидеть в курительной «Греческой Кофейни» или в «Дьяволе», гулять у биржи и по Моллу[80]80
«Я заметил, что читатель редко увлекается книгой, пока не узнает, брюнет или блондин ее автор, тихого он или буйного нрава, женат или холост и прочие подробности, которые очень помогают правильно понять автора. Дабы удовлетворить подобное любопытство, столь естественное в читателе, я задумал написать эту и следующую статьи как введение к моему очередному сочинению, и в них расскажу кое-что о людях, которые заняты этой работой. Так как самое трудное дело – собрать материал, свести его воедино и держать корректуру выпадет на мою долю, я по справедливости должен начать с самого себя… В нашей семье рассказывают, что, когда моя мать была беременна мною на третьем месяце, ей приснилось, что она разрешилась от бремени судьей. Объясняется ли это тяжбой, которую в то время вела наша семья, или же тем, что мой отец был мировым судьей, не знаю; во всяком случае, я не настолько тщеславен, чтобы думать, что это знаменовало какое-либо высокое звание, которого я достигну в будущем, хотя соседи истолковали сон именно так. Серьезность моего поведения сразу же после появления на свет и все время, пока я сосал материнскую грудь, видимо, подтверждала вещий сон; ибо, как часто повторяла мне мать, я отбросил погремушку, когда мне еще не было двух месяцев, и не желал точить зубки о кольцо, пока она не сняла с него колокольчики.
Поскольку в остальном мое детство было ничем не замечательно, я обойду его молчанием. Я знаю, что в пору своего отрочества я слыл весьма угрюмым подростком, но всегда был любимцем учителя, который не раз говорил, что зад у меня крепкий и выдержит много. Поступив в университет, я сразу же отличился глубокомысленным молчанием, ибо за целых восемь лет, кроме общих упражнений в колледже, я едва ли произнес сотню слов; и право, я не помню, чтобы за всю жизнь сказал подряд три фразы…
Последние годы я провел в этом городе, где меня часто можно увидеть в самых посещаемых местах, хотя лишь пять-шесть самых близких друзей знают меня в лицо… Нет такого оживленного места, где я не был бы завсегдатаем; иногда люди видят, как я сую нос в кружок политиканов у Уилла и с напряженным вниманием слушаю рассказы, которые распространяются в этом маленьком обществе. Иногда я покуриваю трубку у Чайлдса, и хотя кажется, будто я целиком поглощен «Почтальоном», подслушиваю разговоры за всеми столиками сразу. Во вторник вечером я появляюсь в кафе в Сент-Джеймсе, а иногда присоединяюсь к небольшому политическому кружку во внутренней комнате, как человек, который пришел выслушать и одобрить присутствующих. Знают меня и в «Греческой Кофейне», и в «Дереве Какао», и в театрах на Друри-лейн и в Хэймаркете. Вот уже более двух лет в рядах меня принимают за торговца; у Джонатана в обществе биржевых маклеров я иногда схожу за еврея. Короче говоря, стоит мне увидеть кучку людей, как я затесываюсь среди них, хотя нигде не раскрываю рта, кроме как в своем клубе.
Так и живу я на свете скорее как Зритель, созерцающий человечество, чем как один из его представителей; таким способом я стал прозорливым государственным деятелем, военным, торговцем и ремесленником, никогда не вмешиваясь в практическую сторону жизни. Теоретически я прекрасно знаю роль мужа или отца и замечаю ошибки в экономике, деловой жизни и развлечениях других лучше, чем те, кто всем этим занят, – так сторонний наблюдатель замечает пятна, которые нередко ускользают от тех, кто замешан в деле. Короче говоря, я во всех сторонах своей жизни оставался наблюдателем, и эту роль я намерен продолжать и здесь». – «Зритель», Э 1.
[Закрыть], смешиваясь с толпой в этом огромном всеобщем клубе, и потом посидеть там в одиночестве, всегда исполненный доброй воли и благожелательности ко всем мужчинам и женщинам, которые его окружали, и у него была потребность в какой-нибудь привычке, в пристрастии, которое связывало бы его с немногими; он никогда никому не причинял зла (если только не считать злом намек, что он несколько сомневается в способностях человека, или порицание с легкой похвалой); он смотрит на мир и с неиссякаемым юмором подшучивает над всеми нами, смеется беззлобным смехом, указывает нам на слабости или странности наших ближних с самой добродушной, доверительной улыбкой; а потом, обернувшись через плечо, нашептывает нашему ближнему о наших слабостях. Чем был бы сэр Роджер де Коверли без его глупостей и очаровательных мелких сумасбродств?[81]81
«И действительно, он дал столь суровую отповедь насмешкам, которые порок в последнее время направляют против добродетели, что с тех пор открытое нарушение приличий всегда считалось в нашей среде верным признаком глупости». – Маколей.
[Закрыть] Если бы этот славный рыцарь не воззвал к людям, спящим в церкви, и не сказал «аминь» с такой восхитительной торжественностью; если бы он не произнес речь в суде a propos de bottes[82]82
Без всякого повода (франц.).
[Закрыть], просто чтобы показать свое достоинство мистеру Зрителю[83]83
«Судьи уже заняли свои места, когда пришел сэр Роджер; но несмотря на то что все уже расселись, для старого рыцаря освободили почетное место; а он, пользуясь своим положением в тех краях, не преминул шепнуть судьз на ухо, что он рад, «что его светлость приехал сюда на сессию в такую чудесную погоду». Я внимательно следил за ходом судебного заседания и был бесконечно рад, что пышность и торжественность достойно сопровождают публичное претворение в жизнь наших законов; как вдруг, просидев там около часа, я с величайшим удивлением заметил, что мой друг сэр Роджер встает с намерением произнести речь посреди процесса. Я несколько опасался за него, но, как оказалось, он ограничился лишь несколькими фразами, произнесенными с видом крайне деловым и решительным.
Когда он поднялся на ноги, суд притих и среди местных жителей пробежал шепот, что «сэр Роджер встал». Его речь имела столь малое отношение к делу, что я не стану приводить ее здесь, дабы не докучать читателям, и, я уверен, была предназначена самим рыцарем не столько для того, чтобы сообщить что-то суду, сколько чтобы порисоваться в моих глазах и поддержать свою репутацию в округе». – «Зритель», Э 122.
[Закрыть], если бы он, прогуливаясь в саду Темпла, не принял по ошибке Доль Тершит за почтенную даму; если бы он был мудрей, если бы его юмор не скрашивал ему жизнь и он был бы просто английским аристократом и любителем охоты, какую ценность представлял бы он для нас? Мы любим его за его суетность не меньше, чем за его достоинства. То, что в других смешно, в нем восхитительно; мы любим его, потому что смеемся над ним. И этот смех, эта милая слабость, эти безобидные причуды и нелепости, это безумие, эта честная мужественность и простота вызывают у нас в результате радость, доброту, нежность, жалость, благочестие; и если мои слушатели задумаются над тем, что читали и слышали, они согласятся, что духовным лицам не часто выпадает счастье вызвать такие чувства. Что тут странного? Разве славу божию должны непременно воспевать господа в черном облачении? Разве изрекать истину непременно нужно в мантии и стихаре, а без этого никто не может ее проповедовать? Я готов довериться этому милому священнику без сана – этому духовнику в коротком парике. Когда этот человек глядит из мира, чьи слабости он описывает так доброжелательно, на небо, которое сияет над всеми нами, я не могу представить себе человеческое лицо, озаренное более безмятежным восторгом, человеческий ум, охваченный более чистой любовью и восхищением, чем у Джозефа Аддисона. Послушайте его; вы знаете эти стихи с детства; но кто может слушать их священную музыку без любви и благоговения?
Лишь только свет уступит мгле,
Луна опять твердит земле
Слова о том, как рождена
Была таинственно она.
Ей вторит звезд согласный хор,
И, обходя ночной простор,
Толпа кружащихся миров
Клянется в правде этих слов.
А может быть, они молчат:
Ведь звука не постигнет взгляд,
Безмолвно ночи торжество,
И твердь не скажет ничего.
Но разума глубокий слух
В безмолвье постигает дух,
И в свете затаился звук:
«Мы вышли из нетленных рук!»
Для меня эти стихи сияют, как звезды. Они сияют из глубин величайшей безмятежности. Когда этот человек обращается к небу, его душа воскресает; и лицо его от этого озаряет величие благодарности и молитвы. Религиозное чувство переполняет все его существо. В поле, в городе, когда он глядит на птиц, сидящих на деревьях, на детей на улицах, утром или при лунном свете, над книгой у себя в комнате, в веселой компании на деревенском празднике или на городском балу, – добрая воля и желание мира всем творениям божьим, любовь и благоговение перед тем, кто их создал, наполняют его чистое сердце и сияют на его добром лице. Если судьба Свифта была самой несчастной на свете, то судьба Аддисона была, по-моему, самой завидной. Безбедная и красивая жизнь, спокойная смерть, а потом бесконечное почитание и любовь к его светлому, ничем не запятнанному имени[84]84
«Гарт послал к Аддисону (о котором был очень высокого мнения) со смертного одра, спросить, истинна ли христианская вера». – Д-р Янг, «Примечательные случаи» Спенса.
«Я всегда предпочитал бодрость веселью. Последнее я рассматриваю как действие, первую – как склад души. Веселье кратко и преходяще, бодрость прочна и постоянна. Величайших восторгов веселья достигают те, кто подвержен величайшим глубинам меланхолии; напротив, бодрость, хоть и не доставляет уму такого изысканного наслаждения, не дает нам погрузиться в пучину отчаянья. Веселье подобно вспышке молнии, разрывающей черные тучи, я сверкает лишь на миг; бодрость светит, как день, и наполняет душу прочной и постоянной безмятежностью». – Аддисон, «Зритель», стр. 381.
[Закрыть].
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































