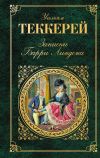Текст книги "Записки Барри Линдона, эсквайра, писанные им самим"

Автор книги: Уильям Теккерей
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
На вопрос офицеров, что толкнуло его на столь ужасное преступление, француз ответил: «Ваша зверская грубость и произвол. Все вы гнусные мясники, кровопийцы и звери, – добавил он, – вас давно бы прикончили, кабы не трусость ваших подчиненных».
Услышав это, капитан со страшными проклятиями бросился на раненого и изо всех сил ударил его кулаком! Но Блондин, хоть и потерял много крови, с быстротой молнии выхватил штык из рук поддерживавшего его солдата и вонзил в грудь офицеру.
– Изверг и каналья! – воскликнул он. – Какое великое счастье, что мне удалось перед кончиной отправить тебя на тот свет.
В тот же день его расстреляли. Перед смертью француз попросил разрешения написать письмо королю при условии, что оно в запечатанном виде будет из рук в руки сдано почтмейстеру, но офицеры, опасаясь, как бы он не написал чего такого, что переложило бы частично вину на них, отказали ему в его просьбе.
Говорят, будто на ближайшем параде Фридрих встретил их весьма немилостиво и задал им проборку за то, что не посчитались с волею француза. Однако в интересах того же короля было схоронить концы, и дело, как я говорил, замяли, да так основательно, что сотни тысяч солдат были о нем осведомлены: немало нашего брата выпивали свое вино в память храброго француза, пострадавшего за общее дело всех солдат. Не сомневаюсь, что среди моих читателей найдутся такие, которые поставят мне в вину, что я поддерживаю неповиновение и защищаю убийство. Если бы этим читателям пришлось служить в прусской армии в годы 1760–1765-й, они проявили бы куда меньшую щекотливость. Человек, чтобы вырваться на свободу, убил двоих часовых, а сколько сотен тысяч своих и австрийских подданных убил король Фридрих только оттого, что позарился на Силезию? Подлый произвол всей этой проклятой системы отточил топор, раскроивший черепа двум нейсским часовым, так пусть же это послужит офицерам наукой и заставит их лишний раз подумать, прежде чем посылать под палки несчастных горемык.
Я мог бы рассказать немало эпизодов из армейской жизни; но поскольку я сам старый солдат и все мои симпатии на стороне серого рядового, в рассказах моих могут усмотреть безнравственное направление, а потому буду лучше краток.
Представьте себе мое удивление, когда, еще пребывая на острожном положении, я в один прекрасный день услышал знакомые интонации и стал свидетелем того, как некий тщедушный юный джентльмен, только что доставленный к нам парой кавалеристов, которые разков пять в дороге вытянули его по спине хлыстом, разоряется на отменнейшем английском диалекте:
– Пвоклятые вазбойники, я вам этого не пвощу! Я напишу своему посланнику, и это так же вевно, как то, что меня зовут Фэйкенхем из Фэйкенхема!
Я невольно расхохотался: это был мой старый благоприятель, напяливший мой капральский мундир. Оказывается, Лизхен твердо стояла на том, что он и в самом деле солдат, и беднягу забрали и отправили к нам. Но я не злопамятен, а потому, насмешив до колик всю камеру рассказом, как я надул бедного малого, я же затем подал ему дельный совет, который и помог ему добиться освобождения.
– Прежде всего жалуйся инспектирующему офицеру, – сказал я, – коль скоро тебя угонят в Пруссию – прости прощай, – оттуда уже не выцарапаешься. Тем временем переговори с комендантом острога, пообещай ему сто – нет, пятьсот гиней за свое освобождение, скажи, что бумаги твои и кошелек прикарманил капитан вербовочного отряда (как оно и было на самом деле); а главное, убеди его, что ты в состоянии уплатить означенную сумму, и дело твое в шляпе, ручаюсь!
Мистер Фэйкенхем воспользовался моим советом. Когда мы выступили в поход, он нашел повод попроситься в госпиталь, а за время его пребывания там все устроилось как нельзя лучше. Правда, дело чуть не сорвалось, оттого что он по скупости вздумал торговаться. А уж меня, своего благодетеля, он так ничем и не отблагодарил.
Не ждите от меня романтического описания Семилетней войны. К концу ее прусская армия, столь прославленная своей отвагой и железной дисциплиной, была прусской лишь что касается офицерского и унтер-офицерского состава, ибо туда допускались лишь природные пруссаки; в огромном же большинстве ее набирали из всех европейских наций, действуя где подкупом, а где обманом и насилием, как это было со мной. Побеги были массовым явлением. В одном лишь моем полку (Бюлова) до войны насчитывалось не менее шестисот французов; когда началась кампания и они выступили из Берлина, один из этих парней наигрывал на старой скрипке французскую песенку, а его товарищи, не столько маршируя, сколько пританцовывая в такт, пели хором: «Nous allons en France!»[41]41
Мы идем во Францию! (фр.)
[Закрыть] Прошло два года, и только шестеро вернулось в Берлин, остальные бежали или полегли в бою. Жизнь рядового была несносно тяжела и по плечу только людям железного мужества и железной выдержки. За каждой тройкой рядовых шел по пятам капрал и без всякой жалости потчевал их палкой; говорили, что в сраженьях за шеренгой рядовых неизменно следует шеренга сержантов и капралов и вторая гонит первую в бой. Постоянные пытки и истязания доводили солдат до полного отчаяния. В нескольких полках вспыхнула страшная эпидемия, вызвавшая переполох даже при дворе. Распространился жуткий, чудовищный обычай детоубийства. Солдаты объясняли это тем, что жизнь невыносима, а самоубийство – смертный грех; и чтобы избежать его, а вместе с тем избавиться от нестерпимых страданий, лучшим выходом считали погубить безгрешного младенца, которому обеспечено Царствие Небесное, а затем отдаться в руки властям, принеся чистосердечную повинную.
Сам король, сей герой, мудрец и философ, сей просвещенный государь, похвалявшийся широтой своих взглядов и осуждавший на словах палочную систему, испугался этого страшного протеста своих пленников против чудовищного самовластия; однако единственное, что он придумал для искоренения зла, был приказ ни под каким видом не допускать к этим злодеям священников, ни одного исповедания, дабы несчастные лишились церковного утешения.
Пороли беспрестанно. Каждому офицеру было дано право назначать любую экзекуцию, причем в мирное время наказания были, как правило, тяжелее, чем в военное. С наступлением мира король уволил со службы всех офицеров простого звания, какие бы ни были у них заслуги. Он вызывал капитана и заявлял перед всей ротой:
– Не дворянин! В бессрочную!
Все мы трепетали перед ним, словно хищные звери пред укротителем. Я видел известных своей храбростью солдат, которые плакали, как дети, от удара палкой. Видел, как мальчишка, пятнадцатилетний прапорщик, вызвал из рядов пятидесятилетнего кавалера, поседевшего в битвах: он стоял, взяв на караул, и всхлипывал и скулил, точно беспомощный младенец, а этот змееныш со смаком хлестал его по рукам и икрам. На поле брани такому человеку сам черт не брат. Попробовали бы там ему сказать, что у него пуговица отлетела!
Но стоило хищному зверю отвоеваться, как его хлыстом приводили в повиновение. Все мы жили под властью страха, и мало кому удавалось от него освободиться. Французский офицер, схваченный вместе со мной, служил в моей роте и бывал нещадно бит. Лет через двадцать мы встретились с ним в Версале. Когда я заговорил с ним о тех временах, он даже переменился в лице от волнения. «Ради бога, – взмолился он, – не поминай мне былое, я и по сю пору просыпаюсь, дрожа и обливаясь слезами».
Что до меня, то спустя короткое время (за каковое, признаюсь, мне довелось, как и моим товарищам, отведать палки) я принял те же меры, что и на английской службе, дабы оградить себя от дальнейших унижений. Я носил на шее пулю, которую отнюдь не прятал, но всячески давал понять, что она предназначена тому, будь он солдат или офицер, кто посмеет поставить меня в палки. Было в моем характере что-то, заставлявшее начальников верить, что я слов на ветер не бросаю; пуля уже сослужила мне службу, когда я застрелил австрийского полковника, и я без колебаний всадил бы ее и в пруссака. Их распри были мне безразличны, мне было безразлично, под каким маршировать орлом – одноглавым или двуглавым. Я говорил: «Никто не скажет, что я манкирую своими обязанностями, а значит, никто меня пальцем не тронь!» И этому правилу я оставался верен до конца моей солдатской жизни.
Я не намерен писать историю баталий, в коих мне довелось сражаться под прусскими знаменами, как не вдавался в их описание, вспоминая свою английскую службу. Я не хуже других выполнял свой долг, и к тому времени, как отрастил себе порядочные усы, а было мне тогда лет двадцать, более храброго, красивого и ловкого солдата, а также, сознаюсь, более прожженного негодяя не нашлось бы во всей прусской армии. Я выработал в себе все положенные вояке черты хищного зверя: в бою бывал свиреп и беспечен, а в передышки между боями накидывался на все доступные мне удовольствия, добытые любым, пусть и зазорным путем. Но по правде сказать, солдатская среда была здесь несравненно выше, чем общество вахлаков-англичан, да и по службе нас так подтягивали, что времени не оставалось на проказы.
Так как я жгучий брюнет со смуглой кожей, меня прозвали в полку «Der schwarze Engländer» – «Черномазый англичанин», а также «Английский дьявол». Наиболее ответственные поручения всегда выполнял я. Не обходили меня и денежными наградами, зато уж насчет производства – ни-ни! В тот день, когда мне удалось убить австрийского полковника (это был улан, и, как говорили, из крупных шишек, я схватился с ним один на один в пешем бою), сам генерал Бюлов, наш командир, поздравил меня перед фрунтом, пожаловал двумя фридрихсдорами и сказал:
– Сейчас я тебя награждаю, но как бы вскорости не пришлось тебя повесить!
Я прокутил эти деньги все до последнего грошена (а заодно и те, что нашел на убитом полковнике) этим же вечером, в развеселой компании, да и вообще, пока была война, денежки у меня не переводились.
Глава VII. Барри ведет гарнизонную жизнь и обзаводится друзьями
Когда война кончилась, наш полк перевели в столицу, этот, быть может, наименее тоскливый из всех прусских городишек, хотя особого веселья и здесь не наблюдалось. Служба у нас, как всегда, была суровая, но кое-каким свободным временем мы располагали и могли посвящать его развлечениям и удовольствиям – было бы чем платить. Многие солдаты получили разрешение заняться вольным ремеслом; я же ничему не был обучен, да и честь моя не стерпела бы такого унижения: слыхано ли дело – джентльмену пачкать руки грязной работой! Однако солдатского жалованья едва хватало, чтобы не помереть с голоду, и так как я всегда был падок до удовольствий, а наше пребывание в столичном городе мешало нам добывать средства обычным способом, накладывая поборы на гражданское население, что так выручает солдата в военное время, то и пришлось мне примириться с единственным имевшимся у меня выходом и, чтобы промыслить средства на развеселое житье, заделаться так называемым Ordonanz, иначе говоря доверенным денщиком моего капитана. Четыре года назад я с негодованием отверг подобное предложение, но то было на английской службе – иное дело чужбина; к тому же, по правде сказать, промаявшись пять лет простым рядовым, становишься нечувствительным ко многим щелчкам, столь несносным для нашей гордости в вольной жизни.
Мой капитан был еще очень молод, что не помешало ему отличиться на войне и достичь такого чина. Он был к тому же племянник и единственный наследник министра полиции мосье Поцдорфа, каковое обстоятельство, без сомнения, тоже ускорило его производство. На плацу и в казармах капитан Поцдорф никому не давал спуска, но лестью его можно было обвести вокруг пальца. Я полюбился ему в первую очередь аккуратной косой (никто в полку не умел так искусно убирать голову, волосок к волоску, как моя персона), а потом закрепил его расположение всяческими ловкими комплиментами и подходцами, коими, как истый джентльмен, умел распорядиться с большим тактом. Мой капитан любил повеселиться и позволял себе в этом отношении больше, чем допускалось суровым укладом двора; он легко и беспечно транжирил деньги и особенно пристрастился к рейнским винам, я же, разумеется, поддерживал его в этих склонностях, извлекая из них известную для себя пользу. В полку его не любили, поговаривали, что он чересчур предан своему дядюшке-министру и доносит ему обо всем, что у нас творится.
Итак, я без труда вкрался в милость моего хозяина и вскоре был посвящен почти во все его дела. Это избавляло меня от множества смотров и учений, от которых я иначе бы не отвертелся, и открывало предо мной возможность легких заработков. Теперь я был одет как джентльмен и подвизался даже с известным éclat[42]42
Блеск (фр.).
[Закрыть] в некоторых кругах берлинского общества, хотя и нельзя сказать, чтобы изысканных. Дамы всегда меня отличали. Я умел так поразить их галантностью, что они понять не могли, почему в полку мне присвоено нелестное прозвище Черный Дьявол. «Не так страшен черт, как его малюют», – говорил я, смеясь, и дамы хором возглашали, что этот рядовой воспитан не хуже своего капитана, хотя, собственно, иначе и быть не могло, принимая в расчет мое воспитание и происхождение.
Уверясь в добром расположении капитана, я испросил у него позволение написать в Ирландию бедной моей матушке, которая уже много-много лет ничего обо мне не знала, ибо писем солдат-иностранцев на почте не принимали, опасаясь неприятностей со стороны родителей пропавших без вести сыновей. Капитан обещал найти способ переслать мое письмо, и так как я знал, что он захочет ознакомиться с его содержанием, то и отдал его нарочито запечатанным, показывая этим, сколь я ему доверяю. Самое же письмо, как вы догадываетесь, составил так, чтобы оно не повредило мне, буде кто-нибудь его перехватит. Я просил у моей досточтимой матушки прощения за то, что бежал от нее; сообщал, что мое расточительство и безрассудство в родном отечестве делает мое возвращение заведомо невозможным, пусть же она, по крайней мере, утешается тем, что я здоров и благополучен на службе у величайшего монарха в мире и что жизнь солдата мне по душе; к тому же, добавлял я, мне удалось обрести защитника и покровителя, который в будущем устроит мою судьбу, чего она, как мне ведомо, сделать не в силах. Я посылал приветы всем девицам в замке Брейди, перечислив их поименно от Бидди до Бекки, по старшинству, и подписался: любящий вас сын (каким я и в самом деле был) Редмонд Барри, военнослужащий роты капитана Поцдорфа, Бюловского полка в Берлинском гарнизоне. Я также рассказал ей забавный анекдот, как король спустил с лестницы канцлера и троих судейских, чему я был самоличным свидетелем, стоя на карауле в Потсдаме. Надеюсь, писал я, скоро начнется новая война и я буду произведен в офицеры. Словом, если судить по письму, я был счастливейшим человеком на свете и в рассуждении этого нисколько не огорчался, что ввожу свою дорогую родительницу в обман.
Письмо и в самом деле было прочтено, ибо несколько дней спустя капитан Поцдорф стал расспрашивать о моих семейных делах, каковые я и изложил ему настолько точно, насколько позволяли обстоятельства. Я младший сын в добропорядочной фамилии, но матушка осталась без всяких средств и билась как рыба об лед, чтобы содержать восемь дочерей, которых я и перечислил поименно. Я изучал в Дублине право, но угодил в плохую компанию, залез в долги и убил человека на дуэли. Вздумай я вернуться на родину, его могущественные друзья постарались бы либо заключить меня в тюрьму, либо повесить. Я добровольно поступил на военную службу в Англии, а когда мне представился случай, не устоял перед соблазном и убежал; тут я изобразил эпизод с мистером Фэйкенхемом из Фэйкенхема, да в таком уморительном свете, что мой патрон животики надорвал от смеха. Впоследствии он сообщил мне, что рассказал эту историю на вечере у мадам де Камеке и что тамошнее общество жаждет лицезреть молодого Engländer[43]43
Англичанина (нем.).
[Закрыть].
– А не было среди гостей английского посланника? – осведомился я будто в величайшей тревоге. – Ради бога, сэр, не говорите ему, как меня зовут, а то он, чего доброго, потребует моей выдачи, у меня же нет ни малейшего желания быть вздернутым в родном отечестве.
И Поцдорф стал уверять, смеясь, что никуда меня не отпустит, на что я поклялся ему в благодарности до гроба.
Несколько дней спустя он сказал мне с серьезным видом:
– Редмонд, я говорил насчет тебя с генералом. Я выразил удивление, почему человек твоей отваги и твоих способностей не был произведен на войне, и полковник сказал мне, что ты известен командованию как храбрый солдат, из хорошей, как видно, семьи, что в полку нет солдата тебя исправнее и в то же время нет такого, который бы меньше заслуживал производства. Ты будто бы отпетый негодяй, распутник и бездельник; вечно ты пакостишь своим товарищам и при всех своих талантах и храбрости, по его мнению, добром не кончишь.
– Сэр, – сказал я, немало удивленный тем, что у кого-то могло сложиться такое мнение обо мне, – генерал Бюлов явно заблуждается на мой счет; надеюсь, это какая-то ошибка; ну пусть я попал в дурное общество, но я позволяю себе не больше, чем другой солдат. Вся беда в том, что не было у меня до сей поры покровителя и доброго друга, которому я мог бы показать, чего я в самом деле стою; генерал считает меня пропащим малым, он считает, что мне сам черт не брат, но будьте уверены, ради вас, капитан, я не побоюсь сразиться с самим чертом!
Я видел, что эти слова пришлись ему по сердцу; а так как я вел себя с большим тактом и оказался ему полезен в тысяче случаев самого деликатного свойства, то вскоре он искренне ко мне привязался. Так, в один прекрасный день – вернее, в одну прекрасную ночь, когда он находился в приятном tête-a-tête с супругою советника фон Доза… впрочем, что толку вспоминать проказы, никому уже не интересные!
Спустя четыре месяца после того, как я написал матушке, капитан вручил мне письмо, пришедшее на его имя, и не могу описать, какую оно пробудило во мне тоску по дому и какую навеяло на меня грусть. Уже пять лет не видел я каракуль моей родимой. Мое невозвратное детство и родные зеленые поля Ирландии, облитые солнечным сиянием, и материнская ласка, и баловник-дядюшка, и Фил Пурселл, и все, что я когда-то делал и чем жил, нахлынуло на меня неудержимо при чтении этого письма; оставаясь один, я проливал над ним слезы, каких не лил с тех пор, как Нора насмеялась надо мной. Я скрыл свое горе от капитана и однополчан. В тот вечер мне предстояло пить чай в загородной кофейне у Бранденбургских ворот в обществе фрейлейн Лоттхен (горничной госпожи фон Доз), но я был слишком убит, чтобы куда-то идти, и, отговорившись нездоровьем, бросился раньше обычного на свою койку в казарме, где бывал теперь когда и сколько вздумается, и всю долгую ночь провел в слезах и размышлениях о дорогой моей Ирландии.
Впрочем, уже на следующий день, воспрянув духом, я разменял билет в десять гиней, присланный матушкой в письме, и задал своим дружкам пир на славу. Письмо бедняжки было закапано слезами, испещрено библейскими текстами и написано так мудрено и невнятно, что трудно было что-нибудь понять. Она счастлива знать, писала матушка, что я служу протестантскому государю, хотя и сомневается, на праведном ли он пути; что до праведного пути, то, по ее словам, ей посчастливилось вступить на него под руководством преподобного Иоссии Джоулса, ее духовного наставника. Она писала, что сей муж – сосуд избранный, что он – душистое притирание и драгоценный ящик нарда, а также употребляла и другие выражения, смысл коих остался мне темен; и только одно явствовало из всей этой абракадабры, что добрая душа по-прежнему любит своего сыночка, что день и ночь она думает и молится о своем бесшабашном Редмонде. Кому из нас, отверженных горемык, не приходила мысль в часы одинокого ночного бдения, в болезни, печали или плену, что в эту минуту его мать, быть может, молится о нем! Меня часто посещали эти мысли; веселыми их не назовешь, и хорошо, что они не приходят к нам на людях – какая уж это была бы веселая компания! Все сидели бы хмурые, поникшие, словно плакальщики на похоронах. В тот вечер я выпил за здоровье матушки полный бокал и жил джентльменом, пока не промотал все ее деньги. Бедняжка лишила себя самого необходимого, чтобы послать их мне, как она потом рассказывала, и прогневила мистера Джоулса.
Матушкины гинеи скоро растаяли, но на смену им пришли другие; у меня были сотни путей добывать деньги, капитан и его друзья на меня надышаться не могли. То мадам де Доз подарит мне фридрихсдор за то, что я принесу ей букет или записку от капитана, то, наоборот, сам старый советник угостит меня бутылкой рейнского и сунет мне в руку талер-другой, чтобы выведать что-нибудь относительно liaison[44]44
Связь (фр.).
[Закрыть] между его дражайшей половиной и капитаном. Но хоть я был не так глуп, чтобы отказываться от денег, у меня, поверьте, хватало честности не предавать своего благодетеля, и от кого-кого, а от меня ревнивец узнавал не много. Когда же капитан покинул свою даму сердца ради дочери голландского посланника, невесты с большим приданым, несчастная советница без счету перетаскала мне писем и гиней, чтобы я вернул ей ее сокровище. Но любовь не знает возврата, разве лишь в редких случаях; капитан только посмеивался над ее докучными мольбами и вздохами. В доме же минхера Ван Гульдензака я так расположил к себе всех от мала до велика, что вскоре сделался там своим человеком и, случалось, разнюхивал даже кое-какие государственные тайны, чем немало удивлял своего капитана и угождал ему. Он докладывал о моих открытиях своему дядюшке, министру полиции, который, без сомнения, умел ими распорядиться с пользой для себя. Вскоре я завоевал благосклонность всего семейства Поцдорф и был теперь солдат лишь по названию: разгуливал в штатском платье (отменного покроя, смею вас уверить) и развлекался на сотню ладов, к великой зависти всей этой швали – моих однополчан. Что до сержантов, то они ходили у меня по струнке, как перед начальством: повздорить с человеком, который наушничает племяннику всесильного министра, значило для них рисковать своими нашивками.
Служил в моей роте некий молодой парень, Курц[45]45
Коротышка (нем.).
[Закрыть] по фамилии, что не мешало ему быть шести футов росту. Как-то в бою я спас ему жизнь. Я рассказал ему одно из своих похождений, и этот стрюцкий назвал меня шпиком и доносчиком и запретил обращаться к нему на «ты», как это бывает между молодыми людьми, когда они близко сойдутся. Мне ничего не оставалось, как послать ему вызов, хоть я не держал на него ни малейшей злобы. В мгновение ока я вышиб у него шпагу и, когда она пролетела над его головой, сказал:
– Как по-твоему, Курц, человек, проделывающий такие штучки, способен на низкий поступок?
Этим я заткнул глотки и прочим ворчунам, у них пропала охота меня задирать.
Вряд ли кому придет в голову, что человеку моего склада приятно было шнырять по чужим передним и амикошонствовать с лакеями да приживалами. Но это было, право же, не более унизительно, чем сидеть в осточертевших мне казармах. Мои уверения, будто жизнь солдата мне по душе, были рассчитаны на то, чтобы отвести глаза моему хозяину. На самом деле я рвался из оков. Я знал, что рожден для лучшей доли. Доведись мне служить в Нейссе, я вместе с отважным французом проложил бы себе путь к свободе. Но единственным моим оружием была хитрость, так разве я был не вправе пустить ее в ход? У меня был план – сделаться так необходимым мосье де Поцдорфу, чтобы он сам исхлопотал мне увольнение: выйдя на волю, я, при моей счастливой наружности и моем происхождении, легко добьюсь того, что до меня удавалось десятку тысяч ирландцев, – женюсь на богатой невесте из хорошей семьи. А в доказательство того, что я, будучи интересантом, не вовсе был лишен благородных устремлений, приведу следующий случай. В Берлине я знавал вдову бакалейщика, толстуху с рентой в шестьсот талеров и весьма прибыльным делом; так вот, когда эта женщина дала мне понять, что готова выкупить меня из армии, если я на ней женюсь, я напрямик сказал ей, что не создан торговать бакалеей, и решительно отверг этот шанс на освобождение.
И я был признателен моим хозяевам, куда более признателен, чем они мне. Капитан был по уши в долгах и постоянно имел дело с евреями-ростовщиками, которым выдавал векселя с обязательством уплатить после дядюшкиной смерти. Видя, как доверяет мне племянник, старый герр фон Поцдорф был не прочь меня подкупить, чтобы разведать, как обстоят дела у молодого повесы. И как же я поступил в этом случае? Осведомил мосье Георга фон Поцдорфа об этих домогательствах, и мы, сговорившись, составили вместе список, но только самых умеренных долгов, которые скорее успокоили, чем раздосадовали старого дядюшку, и он уплатил их, радуясь, что дешево отделался.
И хорошо же меня отблагодарили за такую верность! Как-то утром старый господин заперся со своим племянником (он обычно разузнавал у него все последние новости о молодых офицерах: кто крупно играет; кто с кем завел тайные шашни; кто в такой-то вечер был в собрании; кто увяз в долгах и прочее тому подобное, так как король лично входил в дела каждого офицера), меня же послали к маркизу д’Аржану (тому самому, что впоследствии женился на мадемуазель Кошу, артистке), но, встретив маркиза в нескольких шагах от дома, я отдал ему записку и повернул обратно. Капитан и его достойный дядюшка, оказывается, избрали темой разговора мою недостойную особу.
– Он из хорошей семьи, – говорил капитан.
– Вздор! – сказал дядюшка, и я почувствовал, что готов удавить наглеца. – Все ирландские побирушки, когда-либо к нам нанимавшиеся, говорили то же самое.
– Гальгенштейн утащил его силою, – настаивал капитан.
– Та-та-та, похищенный дезертир, – отмахнулся мосье Поцдорф, – la belle affaire![46]46
Знаем мы эти штучки! (фр.)
[Закрыть]
– Во всяком случае, я обещал малому похлопотать о его освобождении. Уверен, что он окажется вам полезен.
– Что ж, ты и похлопотал о нем, – сказал старший, смеясь. – Bon dieu![47]47
Боже! (фр.)
[Закрыть] Ты прямо-таки образец честности! Как же ты заступишь меня, Георг, если не постараешься стать умнее? Используй этого субъекта как угодно. У него неплохие манеры и лицо, внушающее доверие. Он лжет с апломбом, какого я ни у кого не встречал, и готов драться, как ты говоришь, при первом удобном случае. У этого мерзавца немало ценных качеств. Но он хвастун, мот и bavard[48]48
Болтун (фр.).
[Закрыть]. Доколе полк держит его in terrorem[49]49
В страхе (лат.).
[Закрыть], ты можешь из него веревки вить. Но стоит ему освободиться, и только ты его и видел. Продолжай водить его за нос, обещай произвести в генералы, если хочешь. Какое мне дело! В этом городе фискалов и шпиков – хоть пруд пруди.
Так вот, значит, как неблагодарный старик расценивал услуги, которые я оказывал его племяннику; обескураженный, я тихонько вышел из комнаты, думая о том, что еще одна моя мечта рухнула и что все мои надежды освободиться, служа верой и правдой своему капитану, построены на песке. Одно время я так приуныл, что подумывал о союзе с той вдовой, но солдат имеет право жениться лишь по непосредственному разрешению короля, а вряд ли его величество позволил бы мне, двадцатидвухлетнему молодцу и к тому же первому красавцу в его армии, соединиться с шестидесятилетней старухой, у которой вся морда в прыщах и которая давно уже вышла из возраста, когда брак может способствовать приросту населения в державе его величества.
Еще одна надежда на освобождение пошла прахом! Выкупиться на волю я тоже не мог, разве что какая-нибудь сердобольная душа внесет за меня внушительную сумму, ибо, хоть мне и довольно перепадало денег, я всю свою жизнь был неисправимым транжиром и (таков уж мой великодушный нрав) всегда в долгу как в шелку, сколько я себя ни помню.
Мой капитан – этакая продувная бестия! – представил мне свой разговор с дядюшкой в совершенно другом свете.
– Редмонд, – сказал он, улыбаясь, – я напомнил министру о твоих заслугах[50]50
Заслуги, о коих упоминает здесь мистер Барри, описаны им в весьма туманных выражениях, и, как мы полагаем, неспроста. Возможно, ему поручалось прислуживать за столом иностранцам, приезжающим в Берлин, а потом сообщать министру полиции сведения, которые могли бы представлять интерес для правительства. Фридрих Великий никогда не принимал гостей без этих гостеприимных мер предосторожности. Что же до бесчисленных поединков мистера Барри, то да будет нам дозволено усомниться в точности его показаний. Нетрудно заметить, как это уже было раза два в его «Записках», что, как только наш рассказчик попадает в трудное положение или совершает поступок, не слишком благовидный в глазах общества, на выручку ему приходит дуэль, из которой он неизменно выходит победителем, а отсюда читатель должен заключить, что перед ним человек порядочный и честный. – Примеч. авт.
[Закрыть] – считай, что твоя карьера сделана. Мы выцарапаем тебя с военной службы и устроим по полицейской части на должность таможенного инспектора, это даст тебе возможность вращаться в лучшем обществе, чем то, какое определила тебе до сей поры фортуна.
Я, конечно, не поверил ни одному его слову, но сделал вид, что тронут до слез, и поклялся капитану в вечной признательности за его участие к бедному ирландскому изгнаннику.
– Твои заслуги в голландском посольстве оценены по достоинству. А вот и еще случай, когда ты можешь быть нам полезен. Выполнишь с честью это поручение, и твое дело в шляпе!
– Какое поручение? – спросил я. – Я на что угодно готов для моего благодетеля.
– В Берлине уже несколько дней гостит некое лицо, состоящее на службе у австрийской императрицы. Сей господин именует себя шевалье де Баллибарри, он носит звезду и красную ленту папского ордена Шпоры. Немного он, правда, болтает по-французски и итальянски, но у нас есть основания предполагать, что мосье де Баллибарри твой соотечественник. Слышал ты в Ирландии такое имя?
– Баллибарри? Баллиб…? – У меня мелькнула догадка. – Нет, сэр! – сказал я уверенно. – Первый раз слышу.
– Поступишь к нему в услужение. Ты, конечно, ни слова не знаешь по-английски; если шевалье заинтересуется твоим произношением, скажи, что ты венгерец. Слуга, который его сопровождает, сегодня получит расчет, а то лицо, что обещало найти ему верного человека, порекомендует тебя. Итак, ты венгерец и служил в Семилетнюю войну. Уволился из армии по причине болей в пояснице. Два года прослужил под началом мосье де Квелленберга; он сейчас стоит с полком в Силезии, вот тебе рекомендательное письмо за его подписью. Потом ты служил у доктора Мопсиуса, он тоже даст тебе аттестацию, если понадобится. Хозяин «Звезды», разумеется, удостоверит, что знает тебя как честного человека, но на него не ссылайся, его рекомендация ни черта не стоит. Что касается прочих биографических сведений, можешь сочинить их в любом угодном тебе духе, романтическом или забавном, как подскажет воображение. Впрочем, лучше бей на жалость – так легче вкрасться в доверие. Он крупно играет и неизменно выигрывает. Ты хорошо соображаешь в карточной игре?
– Нет, слабо, не больше, чем обычный солдат.
– А я-то думал, ты ловкач по этой части. Надо выяснить, чисто ли шевалье играет, если нет, он в наших руках. Он постоянно сносится с английским и австрийским посланниками, молодежь из обоих посольств частенько у него ужинает. Узнай, о чем они говорят и кто из них сколько ставит, особенно те, кто играет на мелок. Последи за его письмами – не за теми, что идут по почте, тут ты можешь не беспокоиться, за ними присмотрим мы сами. Но если он напишет кому-нибудь записку, обязательно доищись, кому она адресована и кому поручена для передачи. Ключи от шкатулки с бумагами висят у него на шее, он и спит с ними. Двадцать фридрихсдоров, если изготовишь с них слепок! Пойдешь к нему, конечно, в цивильном платье. Советую снять с волос пудру, перевяжи их просто лентой. Усы, разумеется, сбрей.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?