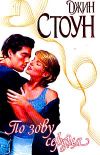Читать книгу "Она доведена до отчаяния"

Автор книги: Уолли Лэмб
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Уолли Лэмб
Она доведена до отчаяния
Кристине,
которая смеялась и плакала
и в чем-то стала прообразом моих персонажей
Wally Lamb
SHE'S COME UNDONE
Печатается с разрешения издательства Atria Books, an imprint of Simon & Schuster, Inc. и литературного агентства Andrew Nurnberg.
© Wally Lamb, 1992
© Перевод. О.А. Мышакова, 2017
© Издание на русском языке AST Publishers, 2017
«Она до сих пор где-то рядом»
(вступительное слово к юбилейному изданию по случаю двадцатилетия романа)
Впервые Долорес Прайс явилась мне в виде голоса. Я торопливо мылся в душе после утренней пробежки, готовясь к новому дню преподавания в старшей школе, где работал уже девять лет. «Ну все, бросил меня мой козел, – сказал голос. – Ну и скатертью дорога». Долорес еще была безымянной и невидимой, но эти десять слов она произнесла уязвленно, с вызовом – и юмором, чем меня и подкупила.
Несколькими годами ранее в возрасте тридцати лет я стал отцом и начал писать короткие рассказы. На первый День отца моя жена Кристина подарила мне тогдашний хай-тек – электронную пишущую машинку (шел 1981 год). В тот день, когда женский голос заговорил со мной о своем бывшем козле, у меня уже лежали готовыми четыре рассказа. Я дал голосу имя – Мэри-Энн, и она начала рассказывать о своем браке и разводе. Я решил, что пишу короткий рассказ номер пять.
О Мэри-Энн было уже написано страниц двадцать, когда однажды утром по неизвестной причине мне вспомнилась семнадцатилетняя старшеклассница, которую я видел десять лет назад на стажировке в школе. Шейла была одиночкой и интровертом: из-за ожирения она не помещалась за парту и сидела у задней стены класса за обычным столом. Одноклассники ее не травили, но от ее габаритов им было неловко, и они ее попросту перестали замечать. Шейла никогда не открывала рта и ни с кем не общалась. Пока другие дети не оглядывались, ее как бы и не было. В безмерной молодой наивности я решил заняться спасением Шейлы, заняв ее в общей дискуссии, но всякий раз, когда я называл ее имя, она лишь молча качала головой. Жир служил ей крепостными стенами, непробиваемыми для салаги-стажера, и до конца стажировки Шейла оставалась для меня загадкой. Когда через десять лет я вдруг вспомнил о ней, в голове словно сверкнула молния. Я соединил придуманный голос Мэри-Энн с образом реальной Шейлы, и рассказ сразу ожил и заиграл.
В то время я заочно учился в колледже Вермонт (сейчас это Вермонтский колледж изящных искусств) на магистра и показал свой рассказ нашему преподавателю Глэдис Свон. «Дорогой мой, – сказала она, – по-моему, у вас слишком много холста на пару штанов для малой-то формы». Я спросил, что, по ее мнению, мне нужно выбросить.
– Может, и ничего, – ответила Глэдис. – Кажется, вы пытаетесь сказать себе, что вам хочется написать роман.
Если бы я знал, что вот-вот отправлюсь в девятилетнюю поездку по американским горкам, итогом которой станет «Доведенная до отчаянья», я бы выбежал из аудитории с криком ужаса, но ситуацию спасло мое невежество.
– Роман? – переспросил я. – А как пишут романы?
Глэдис посоветовала обратиться к первоисточникам.
– Мир очень стар, и написать абсолютно оригинальное произведение невозможно, – заявила она. – Архетипические сюжеты вечны, потому что они проливают свет на человеческую природу. Людям хочется слышать их снова и снова. Если планируешь написать современный роман, почитай древние мифы.
Я вышел от Глэдис со списком литературы, где, в частности, значился «Герой с тысячью лиц» Джозефа Кэмпбелла, «Король и труп» Генриха Циммера и мифопоэтический шедевр Гомера «Одиссея». Невероятно, но именно последнее произведение легло в основу «Доведенной до отчаянья»: я придумал Мэри-Энн предысторию и отправил ее в полный противостояний квест на поиски себя.
Дописав до середины романа, я послал отрывок в «Нортист», воскресное приложение к «Хартфортским курантам». Фейф Миддлтон, ставшая теперь знаковой фигурой «Национального общественного радио», читала присылаемые рукописи. Она-то и известила меня, что мой рассказ понравился и она направила его редактору Ларри Блуму для ознакомления. От восторга я схватил своего сына, тогда еще дошкольника, и подбросил так высоко, что он пробил головой потолок кухни. К счастью, потолок был подвесной, из мягких пеновых панелей, так что голова Джареда просто скрылась из виду на секунду и тут же появилась снова. «Хранить в сухом прохладном месте» опубликовали в пасхальное воскресенье 1982 года. Ранним утром я поехал в магазин и купил «Хартфортские куранты». В машине пролистал журнал, нашел свой напечатанный рассказ и заорал как сумасшедший. Вскоре, готовясь к уроку по английской лексике, я прочел в словаре определение слова «dolorous»: «Отмеченный грустью, печалью или скорбью». Тогда-то Мэри-Энн и стала Долорес.
Во всей литературе не найти персонажа, более непохожего на дерзкого храбреца Улисса, чем замкнутая и язвительная Долорес Прайс, однако их одиссеи довольно схожи. Улисс покинул родную и любимую Итаку, сражался в Троянской войне, а потом долго искал дорогу домой. Долорес очертя голову вырвалась из удушающего, замкнутого покоя бабкиного дома в Истерли, Род-Айленд, чтобы выполнить желание покойной матери и поступить в колледж. В своих странствиях и Улисс, и Долорес получили боевое крещение и огребли по полной, при этом неплохо наваляв и обидчикам. И тому, и другой пройти путь до конца помогли оракулы. «Я скажу тебе, что я из всего этого вынес, – говорит Долорес ее товарищ мистер Пуччи, прежде чем умереть от СПИДа. – Бери то, что люди тебе предлагают. Пей их молочные коктейли. Принимай их любовь». Подобно Улиссу, после долгих скитаний Долорес возвращается домой другим человеком – печальнее, мудрее, готовой применять усвоенные уроки на практике, чтобы ради себя и других вести более аутентичную жизнь.
Когда впереди замаячил финал романа, меня одолели фантазии насчет того, чтобы его издать, хотя я представления не имел, как это делается. Тут как раз у родителей случился сорокалетний юбилей совместной жизни, и я подарил им поездку в Нью-Йорк, заказав номер в отеле «Эдисон», где они останавливались в свой медовый месяц. Из Нью-Йорка я попросил маму с папой привезти «Желтые страницы» с адресами каких-нибудь нью-йоркских издательств. Вежливая и робкая мама подошла к стойке регистратуры в «Эдисоне» и справилась, нельзя ли из телефонной книги в номере вырвать нужный раздел. Отец рассказывал, что клерк как-то странно на нее посмотрел и ответил отказом. Мой не столь робкий и вежливый папа применил иной подход – он поднялся в номер и выдрал необходимые страницы без спроса.
Рассудив, что в издательства тоже присылают рукописи и мне непременно снова повезет, я упоенно набивал большие коричневые конверты и надписывал адреса, когда в мой кабинет поднялась супруга и подала письмо на розовом, как «Мэри Кей», листке. Письмо оказалось от литературного агента из Калифорнии Линды Честер, которая прочла один из моих рассказов, «Астронавты», опубликованный в «Миссури ревью». Если у меня уже есть литературный агент, писала Линда, пусть тогда ее письмо будет как от поклонницы (поклонницы? Моей?!). Но если я агента только ищу и у меня есть готовая вещь крупного формата – скажем, роман, то нам есть о чем поговорить.
На правах моего литературного агента Линда пообещала Джудит Реган, талантливому редактору из «Саймон и Шустер», «первый взгляд» на «Доведенную до отчаянья», как только она будет закончена. Так получилось, что к Джудит рукопись попала в самое неудачное время: редактор взяла ее с собой в больницу, куда ложилась делать кесарево сечение (в результате которого появилась на свет ее дочка Лара). Позже Джудит Реган рассказывала, что после операции у нее подскочила температура, начались боли и меньше всего хотелось что-то читать. Она взялась за рукопись с намерением пробежать наискосок страниц двадцать и отправить обратно с вежливым отказом, однако читала до утра, а сразу после выписки поковыляла в «Саймон и Шустер» и сказала издателю, что хочет купить этот роман.
Еще в декрете Джудит пригласила меня на встречу в манхэттенском ресторане в Верхнем Уэст-Сайде. Помню, был знойный августовский день. Абсолютный новичок в Нью-Йорке, я даже не умел остановить такси и шел пешком кварталов сорок от Центрального вокзала. Добрался весь на нервах и мокрый от пота, как свинья. Джудит протянула мне руку, я подал свою – и чуть не умер от унижения: утром я порезал палец и заклеил рану единственным пластырем, который нашелся в доме – детским, моего сына, с черепашками-ниндзя. Но редактор простила мне все оплошности – мы сразу подружились и до сих пор остаемся добрыми приятелями.
Незадолго до выхода «Доведенной до отчаянья» я дал своим родителям гранки посмотреть. Мама открывала почти исключительно «Макколс»[1]1
Журнал кройки и шитья. – Здесь и далее примеч. пер.
[Закрыть] и «Дамский домашний журнал», а папа часто хвастался, что после школы книг в руки не брал и даже программные не дочитывал. Три недели спустя он позвонил и сказал, что прочитал историю Долорес от корки до корки, и ему понравилось. «Только я удивился, что в конце ты ее не убил», – добавил он. «Это еще зачем?» – удивился я. «А вдруг она до сих пор где-нибудь тут болтается?»
Мама Джудит Реган, Рита, тоже решила, что Долорес живой человек, а не строчка на бумаге. «Она хочет познакомиться с Долорес», – сообщила мне Джудит. Я ответил, что с удовольствием познакомлюсь с миссис Реган. «Нет-нет, – возразила Джудит. – Вас мама видеть не хочет, только Долорес».
«Доведенная до отчаянья» увидела свет в июле 1992 года, и меня отправили в книжное турне по шести городам. Есть от чего закружиться голове школьного учителя, пусть даже аудитория, собиравшаяся в книжных магазинах, состояла порой из четырех-пяти работников, твердо решивших спасти ситуацию. Всякий раз я слышал одни и те же слова и вопросы от прочитавших историю Долорес: «Я все время переворачивала книгу и глядела на заднюю обложку – проверяла, точно ли автор мужчина… Как вам удавалось так верно писать от лица женщины?»
Сказать правду, повествовать от имени противоположного пола не показалось мне чем-то архисложным: я вырос в районе, где тон задавали мои старшие сестры и кузины, и с детства не видел в женщинах ничего таинственного. Плюс я девять лет получал отзывы от своих коллег с литературного, и наши дамы всегда без обиняков говорили, где я взял неверную ноту, что у меня случалось довольно часто. Но я многократно перечитывал и безжалостно правил рукопись. Хоть и писал от лица Долорес, ощущения у меня всегда были родительские. Часто, взяв ручку «Бик» и пригласив свою героиню поведать мне еще что-нибудь о жизни, я переживал за ее слова и поступки, совсем как отец не вполне контролируемой дочери. И тем не менее от постоянно повторявшихся вопросов и замечаний мне стало неуютно, будто я нарушил некое основное правило, о котором знали все, кроме меня. Поэтому, возвращаясь в гостиницу после каждой встречи в читателями, я снимал штаны и проверял, на месте ли мое мужское снаряжение. Снаряжение было на месте, и я с облегчением сверялся с маршрутом, соображая, куда поедем дальше, забирался под одеяло и засыпал.
Когда очередным пунктом турне оказалась Калифорния, помощница Линды Честер Лори Фокс повела меня на бранч в прекрасное уличное кафе.
– Что это? – спросил я, когда она достала из сумки кипу листов формата А4. Лори ответила, что это контракт на книгу: издательство хочет, чтобы я написал новый роман, и готово заплатить аванс. «Как-то через задницу, – смутился я, – брать деньги за несделанную работу». Лори заметила, что у меня очень нестандартный взгляд на вещи, и заказала мне еще «Шабли». К концу бранча я расписался на пунктирной линии, а к концу лета взял в школе академический отпуск и засел за второй роман, который через шесть лет превратился в «Я знаю, что это правда» – историю об идентичных близнецах, один из которых был шизофреником.
Едва Долорес и К° убрались с моего письменного стола и из моей жизни, начали приходить письма читателей – и телефонные звонки. Когда позвонила Опра Уинфри сказать, что прочла и полюбила «Доведенную до отчаянья» и я теперь должен ей две ночи сна, я тыкал пальцем в телефон и одними губами говорил жене: «Опра! Это Опра!» У Крис масса талантов, но по губам она читает плохо. «Копра? – допытывалась она. – Швабра? Папа римский, что ли?» Этот памятный звонок случился за пять лет до того, как Опра открыла свой феноменально популярный книжный телеклуб; тогда она снова позвонила сказать, что «Доведенная до отчаянья» у нее третья в списке книг, рекомендованных для чтения миллионам телезрителей. Но первый звонок не имел отношения к шоу: Опра хотела сообщить как читатель писателю, что история Долорес тронула ее до глубины души и она рада, что я написал эту книгу. Ее слова до сих пор остаются для меня вишенкой на рожке мороженого, которое началось позже.
Спустя двадцать лет у меня набралось несколько пластмассовых ведер с письмами читателей, в основном о «Доведенной до отчаянья». Я тогда уже сменил двух литературных агентов и написал четыре романа. Я бережно храню все письма, но особенно дорожу поступившим вскоре после выхода романа посланием от молодого душевнобольного – «резчика», который неоднократно пытался заглушить душевную боль, нанося себе порезы. Ниже привожу отрывок из его письма:
«Я пишу не душу изливать, мистер Лэмб. За два с половиной года лечения в Институте Жизни я много читал и размышлял, и мне пришла в голову нелепая мысль/фантазия – кого из литературных персонажей я бы пригласил на званый ужин. Прискорбно инфантильный в свои двадцать семь лет, я позвал бы Холдена Коулфилда (Сэлинджера), Джейка Барнса (Хемингуэя), Эдну Понтелье (Кейт Чопен) и Кролика Ангстрома (молодого) (Джона Апдайка). Так вот, хочу вам сообщить, что мое приглашение распространяется и на Долорес Прайс. Ребенком я не был таким толстым, как Долорес, но когда я попал в Институт Жизни, мне кололи торазин и много еще чего, и я живо набрал пятьдесят килограммов. И хотя топиться, как Долорес, я не пробовал – я же мужчина, сцена с дохлым китом меня потрясла: мне казалось, Долорес борется за меня. А когда на поверхность пенным кругом поднялись пузырьки воздуха (перед тем, как киту всплыть на поверхность), я искренне за нее обрадовался. Спасибо, что написали эту книгу. Передавайте Долорес горячий привет.
Шалом,
Дэвид Ф.
P. S. Вас не бесит, что люди покупают книжки собачонки Милли или Раша Лимбо, когда могли бы обрести друга на всю жизнь, познакомившись с Долорес Прайс? Не понимаю таких олухов. Ну и черт с ними. Уверен, ваш роман станет бестселлером».
Письмо Дэвида Ф. вызвало у меня смех и слезы, совсем как сама Долорес, пока я рассказывал ее историю. Я тогда решился на небольшое детективное расследование (дело было до принятия закона об унификации и учете в области медицинского страхования) и, против ожиданий, выяснил его фамилию и телефон. Я позвонил поблагодарить за смелое и удивительное письмо и сказать Дэвиду Ф., что ему нужно пробовать себя в литературе. Шокированный моим звонком, он общался с болезненной застенчивостью, а когда я сказал, что надеюсь когда-нибудь с ним встретиться, Дэвид извиняющимся тоном ответил, что он бы с удовольствием, но личную встречу ему не осилить. После этого у нас завязалась дружба по переписке, которая длится по сей день.
Через пять лет после письма от Дэвида Ф. Опра сделала «Доведенную до отчаянья» бестселлером номер один по версии «Нью-Йорк таймс» и «США сегодня». Статья в «Бостон глоуб» в январе 1997 года о выборе романов для книжного клуба Опры (первой в списке значилась книга, написанная мужчиной) лучше всего описывает водоворот всеобщего внимания, в который я неожиданно попал. Над моей большой фотографией, сделанной на уроке со старшеклассниками (шнурок развязан, на лице недоумение), красовалась надпись: «Какой такой Уолли?»
В далеком 1981 году, став отцом и начав писать рассказы, я и подумать не мог, сколько всего случится, хорошего и плохого: 11 сентября и Колумбайн[2]2
Речь идет о массовом убийстве в школе Колумбайн в 1999 году – 37 раненых, из них 13 смертельно (организаторы бойни, два ученика старших классов, застрелились).
[Закрыть], популярность электронных книг, потеснивших печатные, закат эры пишущих машинок и их преемников, матричных принтеров, смерть моих родителей и рождение младших братьев Джареда – Джастина и Тедди. Сегодня малыш, которого я подбросил к потолку от радости, что мой рассказ сочли достойным публикации, уже ровесник меня тогдашнего. Джареду тридцать один, он директор Новоорлеанской академии руководящих кадров – независимой школы в рамках программы «Знание – сила», открытой им для детей новоорлеанского гетто после урагана «Катрина».
Тогда я этого не знал, равно как и не представлял, что случится зимним вечером 2008 года незадолго до выхода моего третьего романа «Час, когда я впервые поверил». Я читал отрывок из книги перед большой, благожелательно настроенной аудиторией в баре «Русалочка», забегаловке в Нью-Хейвене. Когда у слушателей иссякли вопросы и я собрался уходить, ко мне подошел красивый здоровяк лет сорока с лишним. «Здравствуйте, Уолли, это я, – сказал он. – Хочу вам сообщить – я наконец воспользовался вашим советом. Меня приняли в магистерскую программу по литературному творчеству в Фэйрфилдский университет. Теперь я смогу рассказать мою историю». Передо мной стоял мой друг по переписке с шестнадцатилетним стажем Дэвид Ф. – Дэвид Фицпатрик. Чудесным образом правильное сочетание психотерапии и психотропных препаратов дало длительную ремиссию душевной болезни, изолировавшей его от мира. «Я встретил прекрасную женщину, – сказал он. – Мы с Эми обручились». В октябре прошлого года мы с Крис побывали на свадьбе Дэвида и Эми – самом радостном и торжественном событии, какое только можно себе представить, а еще через несколько месяцев я читал гранки мемуаров Дэвида о мучительном путешествии в безумие и возвращении в здравый рассудок. «Харпер Коллинз» опубликует «Шарпа» примерно в то же время, когда «Атрия букс» выпустит шикарное юбилейное издание «Доведенной до отчаянья» в честь двадцатилетия создания романа. Приятно думать, как на полках книжных магазинов наши книги будут стоять обложка к обложке и составят друг другу компанию.
Я рад, что не убил Долорес Прайс, как советовал папа, и что время ее тоже не прикончило. На встречах с поклонниками я до сих пор слышу, что, читая «Доведенную до отчаянья», люди то и дело посматривают на последнюю обложку с моей фотографией, не веря, что мужчина столь убедительно влез в голову женщины. Однажды на фешенебельном официальном мероприятии по сбору средств в Линкольн-центре журналистка Лиз Смит представила меня собравшимся, заявив, что я вызвал немалый шум, начав думать как женщина, и хотя много мужчин не прочь сделать то же, их интересует вовсе не голова. Попробуйте подняться на сцену после такого вступительного слова! Комментарии и вопросы по поводу пола меня уже не беспокоят. Мой пятый роман «Мы – вода», который скоро увидит свет, рассказан восемью разными голосами – четырьмя мужскими и четырьмя женскими. Если мужчины с Марса, а женщины с Венеры, может, я просто межгалактический путешественник?
Иногда, заходя в ближайший книжный, я приветственно машу рукой луноликой героине на обложке «Доведенной до отчаянья», моей вымышленной дочери, чья история переведена на шестнадцать или семнадцать языков. Я рад, что она до сих пор где-то рядом: значит, и я недалеко.
Уолли Лэмб
Коннектикут, 2012 г.
Часть I
Леди печального образа
Глава 1
Одно из моих самых ранних воспоминаний: мы с матерью стоим на крыльце арендуемого дома на Картер-авеню и смотрим, как двое грузчиков заносят новенький телевизор. Я в восторге, потому что о телевидении я слышала, но еще не видела. Мужчины одеты в рабочие комбинезоны того же цвета, что и коробка, которую они втаскивают, карабкаясь по бетонным ступенькам боком, как крабы в Рыбачьей бухте. На этом независимая часть заканчивается: дальше зрительная память настаивает, что грузчиками у нас были президент Эйзенхауэр и вице-президент Никсон.
В гостиной куб со стеклянной стороной извлекли из коробки и водрузили на высокий пьедестал.
– Осторожнее, – вырвалось у матери, хотя она не тот человек, чтобы командовать людьми, тем более мужчинами. Мы стояли и смотрели, как грузчики возятся с телевизором, а потом президент Эйзенхауэр обратился ко мне:
– Ну-ка, девочка, поверни вот эту кнопочку. – Мать кивнула, разрешая, и я подошла. – Вот так, – сказал он, и я почувствовала его жесткую, мозолистую руку поверх моей, а под пальцами – пластмассовую ручку вроде тумблеров на отцовском тестере. Иногда, когда отец начинал кричать на маму, я уходила в коридор, брала тумблер в рот и сосала, водя языком по бороздчатым бокам. Я одновременно услышала и почувствовала, как заработал телевизор: из ящика раздалось шипенье и голоса.
– Смотри, Долорес! – произнесла мать. В центре зеленого стеклянного лица появилась звезда, расширилась и превратилась в двух женщин за кухонным столом, обладательниц голосов. Я заплакала. Кто так уменьшил этих тетенек? Они живые, настоящие? Шел 1956 год, мне было четыре. Я не того ожидала. Грузчики и мама смеялись над моим испугом, забавляясь им. Или же умилялись и старались меня утешить? Воспоминания о том дне у меня сродни телевизору: четкие, но ненадежные.
Телевизор мы не покупали – это был подарок миссис Мэсикотт, богатой вдовы и начальницы моего отца. Прошлой весной миссис Мэсикотт наняла его покрасить некоторые из ее огромных высоток. Так начались их отношения. Затем она уговорила отца перекрасить его собственный фургон в ее любимый персиковый цвет, а на дверцы нанести трафаретную надпись «Генеральный менеджер «Мэсикотт пропертис»». Телевизор стал как бы подарком отцу за согласие.
Дальше вспоминается папа, который машет нам с мамой рукой и спускается со стремянки с аэрозольным пистолетом в руке. Мы тогда привезли ему обед в нашей бирюзовой с белым машине. Спустившись, отец снимает респиратор. Шум пыхтящего оранжевого воздушного компрессора отдается в горле и ногах. Папа его выключает, и внезапная тишина очень приятна. На папиных волосах, ушах и бровях капли краски – остальное закрывает респиратор. Я отвожу взгляд, когда говорит его чистый рот.
Мы обедаем на траве. Отец ест сандвичи с пахучими продуктами, которые мы с мамой не едим: ливерной колбасой, маринованными перцами, лимбургским сыром. Он пьет горячий кофе прямо из термоса, и его кадык двигается вверх-вниз при каждом глотке. Папа говорит «она» так, что мне непонятно: не то «она» – это наполовину побеленный снаружи дом миссис Мэсикотт, не то сама старуха.
Старуха. Мне уже почти сорок, я приближаюсь к возрасту миссис Мэсикотт. Сейчас мне столько лет, сколько было тогда моим родителям. Когда они сидели на лужайке, смеялись и сдували на меня пушинки одуванчика. Курили одну сигарету «Пэлл-Мэлл» на двоих и считали миссис Мэсикотт ключом к их будущему. А черно-белый телевизор «Эмерсон» был для них просто подарком, свободным от любых уз и нитей, с которых начала распускаться наша семья.
Просмотр телевизора прочно вошел у меня в привычку – можно сказать, я под него жила.
– Иди во двор поиграй, Долорес, ты же телевизор пережжешь, – говорила мать, проходя через гостиную. Но положенная на него ладонь чувствовала тепло, а не обжигающий жар, комфорт, а не опасность вроде живущего напротив мальчишки, который швырялся камнями. Иногда я поворачивала ручку громкости до отказа и прижимала к полированному боку ладонь, впитывая вибрацию.
Мама сразу бросала хлопотать по хозяйству, как только начиналась ее любимая передача «Королева на день». Мы садились рядышком на диван, я забрасывала ногу на мамины ноги, и мы слушали женщин, у которых дети остались инвалидами после перенесенного полиомиелита или на чей дом обрушились молнии, смерти и разводы. Героиня передачи с наиболее тяжелой жизнью получала самые громкие аплодисменты и меняла свои невзгоды на вельветовый плащ, букет роз и современную домашнюю технику. Я хлопала вместе со студией – дольше и громче тем женщинам, которые не выдерживали и начинали плакать во время своего рассказа. У меня ладони жгло, так я за них болела.
В обязанности отца как менеджера миссис Мэсикотт, помимо окраски домов изнутри и снаружи, входили ответы на жалобы жильцов и сбор ежемесячной ренты. Этим он занимался в первую субботу каждого месяца, разъезжая от дома к дому на персиковом «Кадиллаке» миссис Мэсикотт. Когда я пошла в первый класс, мне объявили, что я уже взрослая и буду ездить с папой; моей обязанностью стало звонить в дверные звонки. Моему отцу никто не радовался, а меня в основном не замечали, и я подглядывала в сумрачную глубину квартир, вдыхала запахи чужих кухонь и подслушивала включенные телевизоры.
Миссис Мэсикотт любила пиво, смех и танцы, поэтому винный магазин был одной из наших постоянных субботних остановок.
– Ящик «Рейнголда», в бутылках, – говорил отец пожилому продавцу, которого звали Куки, что меня безмерно смешило. Куки всегда протягивал мне ириску в целлофановой обертке и, благодаря заказу миссис Мэсикотт, давал возможность выбрать Мисс Пиво «Рейнголд». Для этого нужно было опустить карточку в картонную коробку у кассы, служившую урной для голосования. Раз за разом я отдавала свой голос одной и той же рейнголдовской девушке. Ее темные волосы и ярко накрашенные улыбающиеся губы напоминали мне Жизель Маккензи из «Твой хит-парад» или мою маму, самую красивую из них троих.
Собственной смуглой красотой отец гордился и тщательно берег. Помню, как мне приходилось порой попрыгивать у розовой двери туалета на Картер-авеню, чтобы не описаться, пока папа не торопясь закончит бриться. Когда он выходил, я становилась на табурет среди пара и аромата незакрытого «Олд Спайса» и глядела, как колеблется и сочится каплями мое лицо в зеркальной дверце аптечки. Папа поднимал гантели и штангу в подвале – босиком, в нижней рубашке и желтых плавках. Иногда после этого он расхаживал по кухне, поигрывая перед мамой мускулами, или хватал металлический тостер и целовал свое отражение.
– Это у тебя не тщеславие, а искренняя убежденность! – смеялась мама.
– Что, скажешь, плохой у тебя муж? – И отец начинал бегать по кухне, щелкая кухонным полотенцем по нашим попам. Мы с мамой вопили и протестовали, в восторге от этой игры.
Когда появился телевизор, папа перенес гантели из подвала в гостиную и качался перед любимыми программами. Он предпочитал викторины – «Вопрос на 64 000 долларов», «Тик-так пончик» и «Победитель получает все». Иногда его сиплое дыхание и резкие ритмичные движения нарушались выкрикиваемыми раньше игроков ответами, а если те отвечали неправильно, в их адрес летела ругань.
– Ну, – говорил он маме, – еще один олух облажался. На одного пролетария больше. Нашего полку прибыло.
Папино презрение к олухам казалось как-то связанным с его способностью поднимать тяжести.
Послушать отца, так мы должны были стать богачами. Денежки, по его убеждению, сами плыли к нам в руки и оказались бы нашими, не продай его скудоумные родители тридцать акров земли в Рыбачьей бухте за три тысячи долларов мистеру Вайсу за месяц до того, как утонуть во время Большого урагана 1938 года. Во время Великой депрессии, пришедшейся как раз на совершеннолетие моего отца, Рыбачья бухта была сырым углом, заросшим спартиной и голубикой и застроенным деревянными хибарами с сортиром во дворе. Когда папа поступил работать к миссис Мэсикотт, Рыбачья бухта уже превратилась в благоустроенный район миллионеров, среди которых был и сын мистера Вайса, живший через два особняка от миссис Мэсикотт и зарабатывавший игрой в гольф.
Отец прощал миссис Мэсикотт ее богатство, потому что она не была жадной – «сорила деньгами», по его выражению. Кроме телевизора, в потоке подарков были качели для меня и кухонная утварь для мамы (набор темно-коричневых стаканов для сока и черное ведерко для льда на бронзовых ногах с когтями). Папа обзавелся твидовой спортивной курткой, кожаными перчатками на кроличьем меху и восхитившими меня наручными часами на ремешке «твист-о-бенд», который можно согнуть, но нельзя сломать.
– Давай, жиденок, добавь в свою заначку еще пару тысячонок, – крикнул отец как-то вечером, как всегда, качая мышцы перед телевизором. Показывали «Вопрос за 64000 долларов»; победитель, в круглых очках и с лоснящимися щеками, только что торжествующе вышел из ревлоновской звукоизолированной кабинки.
– Не нужно так говорить, Тони, – не выдержала мать.
Глаза отца метнулись с экрана на жену. Он махал гантелями над головой.
– Чего не нужно говорить?
Мама указала на меня подбородком.
– Я не хочу, чтобы она слышала такие вещи.
– Какие вещи? – повторил отец.
– Ой, все, – бросила мама и вышла из гостиной. Гантели грохнулись об пол – так громко и неожиданно, что сердцу на секунду стало тесно в груди. Папа пошел за мамой в спальню.
На той неделе он уже принес от миссис Мэсикотт толстый альбом для рисования и коробку цветных карандашей «Крейола» в несколько ярусов. Открыв альбом на середине, я нарисовала лицо красавицы, сделав ей длинные загнутые ресницы, алую помаду, крашенные «жженой сиеной» волосы и корону. «Привет, – сказала мне красавица. – Меня зовут Пэгги, мой любимый цвет – фуксия».
– И никогда – никогда! – не смей мне указывать, что я могу и чего не могу говорить в собственном доме! – орал отец в спальне.
Мама плакала и извинялась.
Позже, когда отец грохнул дверью спальни, прошел мимо меня и уехал, мать долго лежала в ванне, когда мне уже давно пора было ложиться спать. Я пол-альбома изрисовала подробностями жизни Пэгги.
Обычно мать сразу меня прогоняла, если я заставала ее голой, но папин гнев сделал ее безучастной и отстраненной. Пепельница на краю ванны была полна окурков «Пэлл-Мэлл». Висевший в ванной густой дым колыхнулся, когда я вошла.
– Смотри, какая тетя, – сказала я. Мне хотелось утешить маму, но она похвалила рисунки, не взглянув.
– Папа злой? – спросила я.
Мать помолчала – я даже подумала, что она не слышала вопроса.
– Иногда, – ответила она наконец.
Ее груди показывались и вновь исчезали под слоем мыльной пены. У меня впервые появилась возможность их рассмотреть. Ее соски походили на шоколадные «Тутси роллс».
– Он злится, когда чувствует себя несчастным.
– А почему он чувствует себя несчастным?
– О… – произнесла мать. – Ты еще слишком маленькая, не поймешь.
Она резко повернулась ко мне и перехватила мой взгляд на ее блестящие, мокрые груди. Со всплеском прикрылась руками и снова стала моей мамой.
– А ну, шуруй отсюда, – сказала она. – Вовсе папа не злой, что ты выдумала?
Арендаторы миссис Мэсикотт платили ренту наличными, отсчитывая двадцатки в протянутую руку моего отца. В удачные субботы, когда кожаная, на молнии, сумка миссис Мэсикотт наполнялась деньгами, папа обращал внимание на меня. Ему нравилось, как я копирую телевизионную рекламу: