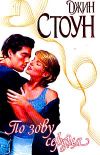Текст книги "Она доведена до отчаяния"

Автор книги: Уолли Лэмб
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Живот напрягся, спина выгнулась, ощущения длились и длились.
Кровать содрогалась.
Затряслась дверная ручка.
– Привет, дочка, – сказала мама из-за двери. – Можно к тебе?
– Нет! – крикнула я, с трудом натягивая трусы. – Я сплю.
– Выпускной вечер был очень хороший, правда, немного затянутый. Мистер Пуччи отдал мне твой аттестат. Хочешь посмотреть?
– Нет.
– Мы с бабушкой ездили в «Китайский рай» вместе с мистером Пуччи. Я взяла для тебя номер шестнадцатый – ло мейн с креветками и свиные ребрышки. Ты кушать хочешь?
– Я спать хочу. Положи в холодильник. – Я натягивала фуфайку, торопясь прикрыть себя слоями одежды.
Ночью я словно очнулась от свинцово-тяжелого сна. Снаружи шел дождь и уже светало. Я думала о том, чтоˊ сделало для меня мое тело, чтоˊ я позволила ему сделать. Но сон украл былую силу, и лицо Джека запуталось в паутине головной боли. «Свинья, – говорил он, – шлюха, динамистка!»
По телевизору показывали только религиозные передачи и цветовые тестовые таблицы. Я вспомнила о ло мейн и на цыпочках сошла вниз, перешагнув скрипучую ступеньку. Если мать или бабка проснутся и заговорят со мной, я не выдержу. Я умру.
Свернутые в трубку программки выпускного вечера лежали на кухонном столе. Я нашла свое имя, разодрала их на куски и швырнула в помойное ведро. Вернувшись к себе, я увидела, что начался повтор черно-белой «Моей маленькой Марджи». Я смотрела сериал с выключенным звуком, всасывая пряди застывшей лапши и откусывая от холодных, липких креветок, плотно свернувшихся в позу зародыша. Когда я взглянула в окно, прояснившееся небо уже было жемчужно-серым. Мокрый бриз шевелил ветви катальпы.
Глава 9
В начале июля пришло письмо на семи страницах от девочки из Эдисона, Нью-Джерси. Она ошибочно решила, что в Мертоне я буду ее соседкой по комнате. Письмо было написано розовым фломастером, а i и восклицательные знаки обведены в кружочек, вместо того чтобы ставить точки. Ее зовут Катерина Стредники, писала она, но все называют ее Киппи. Ей нравятся «Коусиллс», Слая и «Фэмили Стоун». Ее бойфренд Данте водил ее на мюзикл «Волосы» в Нью-Йорке, но в обнаженных сценах заставлял отворачиваться. У них все серьезно, но они не помолвлены. Киппи интересовалась, в каких клубах я состояла в старшей школе и не соглашусь ли заплатить с ней пополам за шторы и кроватные покрывала с индийским орнаментом. Шторы сошьет ее мать, а я могу отдать половину стоимости в сентябре, спешки нет. Киппи надеялась стать фармацевтом, но не одобряла употребления наркотических лекарств ради удовольствия. Она предпочитала получать кайф от жизни и надеялась, что и я тоже.
Мама в своей комнате натягивала форменные брюки хаки.
– Третья смена все-таки лучше, – заметила она. – Ночные водители душевнее дневных. Все эти бумажные стаканы с кофе на приборной доске… Ты бы удивилась, узнав, сколько из них не прочь задержаться и поболтать.
Я подала ей письмо.
– Мама, я не могу. Я слишком толстая и слишком боюсь.
Мать снова села на кровать, и мы обе уставились на нее в зеркале на комоде.
– Чего? Чего ты боишься?
– Людей вроде нее. Нормальных людей.
– Ты нормальная!
– Легко тебе говорить, – буркнула я.
– Ну конечно, легко мне! Черта с два мне легко! – вздохнула она и с размаху улеглась на спину – голова чуть-чуть подскочила на спружинившем матрасе. Когда мама снова заговорила, ее голос немного заглушали подушки. Глаза ее заблестели. – Я тоже боюсь, – сказала она. – Боюсь, что если ты будешь так продолжать, закончишь, как я.
Я что-то не поняла – это же моя трагедия, почему мать переводит разговор на себя?
– Я приеду, и все будут пялиться, – сказала я. – Погляди на меня!
– На меня погляди! – тут же ответила мать, обвиняюще указав на свое отражение в большом зеркале. Ее волосы выглядели какими-то пожухлыми, нижняя губа стала дряблой. – В тридцать восемь лет живу с мамашей, от которой всю жизнь хотела уехать на край света. Сейчас пол-одиннадцатого вечера, я устала, Долорес, я бы спать с удовольствием легла, но я еду на работу, одетая как… одна из треклятых сестер Эндрюс!
В зеркале мы обменялись улыбками. Я хотела погладить маму по спине, сказать, что люблю ее. Я уже открыла рот, но у меня вдруг вылетело:
– А что, если там у меня начнется депрессия, и я порежу вены? Вдруг тебе позвонят и скажут, что нашли меня в луже крови.
– Господи, когда же этому конец! – Свистнувшая мимо меня щетка для волос врезалась в стену. Мать c шумом удалилась в ванную и там несколько раз грохнула дверцей аптечки. Несколько минут из крана текла вода. Мама вышла с красными глазами, подняла с пола щетку и начала выбирать волосы из зубчиков. – Не хочешь в колледж – не иди. Я так больше не могу. Думала, что выдержу, но – нет.
– Я найду работу, – заявила я. – Может, на диету сяду. Прости, мне очень жаль.
– Тебе жаль, мне жаль, всем жаль, – вздохнула она. – Напиши этой девушке ответ, чтобы не оказалась у разбитого корыта со своими покрывалами.
Я остановила ее, когда она начала спускаться по лестнице.
– Мама! – позвала я.
Она обернулась и посмотрела на меня. Взгляд у нее был заторможенный, как в первые дни после ее возвращения из клиники.
– Черт бы все побрал, Долорес, – произнесла она. – Как я от тебя устала!
На этом она спустилась и вышла из дома.
Выиграв, наконец, свою войну, я в тот вечер не знала, чем себя занять. Есть не хотелось. Любимые телепрограммы были отменены: дурацкая лунная экспедиция заграбастала эфир на всех каналах. Бабка сидела в своем кресле, брюзжа, что прогулки по Луне плохо скажутся на погоде, которая и так не предел мечтаний. Я задремала, и мне приснились псы из собачьего приюта. Черный доберман бросился на меня с лаем, но вдруг резко остановился и сказал: «Мы едим секреты», и начал лизать мне ноги…
Бабушка потыкала меня в бок тупым концом вязальной спицы:
– Иди в кровать, – сказала она. – Ты так громко бормочешь, что я петли пропускаю.
Я проснулась в сбившихся комом простынях от голоса Джека Спейта в гостиной, как сперва показалось. «Это просто сон», – сказала я себе, уткнувшись лицом в подушку.
Но тут же снова послышался мужской голос. Два голоса.
Бабка что-то отвечала.
У дома на подъездной аллее громко потрескивали радиопомехи. Катальпа мигала льдисто-голубым светом. На часах было три пятнадцать утра. Почему у нашего дома полицейская машина?
Я крадучись пошла вниз по лестнице, чувствуя – что-то случилось. Сгорбившаяся бабка съежилась на диване, машинально потирая руку выше локтя вверх-вниз. Двое полицейских сидели, подавшись к ней. Я вцепилась в перила.
– …Грузовая фура не нашего штата, из Шарлотты, Северная Каролина. Клянется, что заснул за рулем и проснулся, уже когда все произошло.
Кто проснулся? Отец?
Бабка закашлялась и подавилась. Замолчала. Мы все ждали.
– А почему она была не в будке? – спросила бабка.
– Они точно не знают, мэм. У нее был перерыв… Скорее всего, она даже не поняла, что случилось. И ничего не успела почувствовать.
– Да, – подтвердил другой полицейский. – Наверняка так оно и есть.
По телу прошло странное покалывание. Головы полицейских выросли в размерах. Я услышала визг тормозов и голос мамы: «Как я от тебя устала…» Я увидела и одновременно почувствовала какой-то блеск вокруг. Гостиная качнулась и провалилась. Желудок ухнул куда-то вниз…
С закрытыми глазами я гадала, чьи подо мной неуклюжие руки.
Ужасно болела голова. Я с трудом разлепила глаза. Я лежала на полу в коридоре. Сломанные перила были по диагонали прислонены к стене. Острые концы обломанных столбиков торчали, как акульи зубы.
Надо мной появилось побагровевшее лицо полицейского со вздувшейся веной на лбу.
– Иисусе, Ал, давай вызывай парамедиков, – с натугой выдохнул он. – Я ее даже с места сдвинуть не могу.
Послышался стон – мой. Я подняла руку потрогать, что так болит на лбу. Из рассеченной брови сочилась кровь.
– Подожди, – сказал полицейский. – Она приходит в себя.
На следующий вечер после того, как погибла моя мать, Нейл Армстронг прошелся по Луне. Бабушка, маленькая и хрупкая, сидела у телефонного столика в коридоре, обзванивая живших в других штатах кузин по своей записной книжке-раскладушке в металлической обложке, снова и снова повторяя порядок похорон. Она напоила меня чаем со своими успокоительными пилюлями, желтыми горошинками горечи, которые я оставляла таять на языке, как святое причастие.
Все выходные я плакала и бродила по дому, одурманенная разными образами: мое опухшее лицо с пластырем-бабочкой над бровью, где наложили швы; Роберта на пороге – губы двигаются, произнося слова, которых я не слышу; мамина одежда, так и висевшая за домом на веревке; астронавты, прыгающие по лунной пыли, как беззаботные роботы. По телевизору кто-то заявил, что прогулка по Луне – мистификация, фальшивка, заказанная правительством для повышения своей популярности. Казалось странным, что мать может быть этим накрытым с головой мертвым телом, которое грузили в машину «Скорой» и все выходные показывают по десятому каналу новостей. Разве мама может быть мертвой, если ей все еще приходят письма, а ее блузки еще парусят во дворе под легким ветром?
Мистер Пуччи вошел с фиолетовой африканской фиалкой, такой сочной и мясистой, что казалась съедобной. Он присел на диван и стиснул мне руку, пока говорил. Его пальцы были прохладными и гладкими, как камушки на пляже.
Если смерть означает, что мать просто куда-то ушла, если существует рай, то сейчас она, возможно, воссоединилась со своим мертвым младенчиком, Энтони-младшим. Получила, наконец, награду за свои страдания. Избавилась от меня… «Как я от тебя устала, – сказала она. – Я всю жизнь хотела уехать от своей матери на край света». Может, она нарочно бросилась под мчащийся грузовик, чтобы обрести покой, чтобы уйти от бабки и меня. Я хотела спросить мистера Пуччи, могла ли мама сделать это нарочно и верит ли он в какой-нибудь рай. Но не спросила. Мы смотрели телевизор и курили. Президент Никсон позвонил в космос.
Спичка в руке мистера Пуччи тряслась всякий раз, когда он прикуривал сигарету.
– Ты еще, наверное, не осознаешь это как реальность, – произнес он. – Разве что-нибудь из происходящего кажется настоящим?
Я не знала, что ответить. Я смотрела, как комната наполняется плавающим сизым дымом, который тревожат малейшие движения. Я снова будто оказалась в нашем старом доме на Картер-авеню, в том вечере, когда папа швырнул гантели, а мама лежала в ванне и курила, и ее коричневые соски торчали из пены.
Бабка выбрала гроб золотистого цвета. «Дымка шампанского», – пояснил гробовщик своим гипнотическим голосом. Он предложил закрытый гроб, улыбаясь странной улыбкой – неподвижной и туповатой, как у морской свиньи. Я подумала – если бы я только согласилась поехать в колледж, мама была бы жива, и все было бы нормально.
«Ты нормальная!» – сказала мать. Может, после смерти она наконец узнает, что я убиваю младенцев и матерей. Я заслужила эту боль. Мне поделом все несчастья.
Бабкина подруга миссис Мамфи попросила свою дочь отвезти нас попрощаться с покойной. Мы с бабушкой сидели на заднем сиденье большого громыхающего универсала, и я смотрела на проезжающих водителей, на пешеходов, у которых был обычный понедельник. И только когда мы свернули к похоронному бюро, до меня дошло, что ведь и отец приедет.
– Надеюсь, ты хоть ему не звонила? – спросила я бабку.
Она сунула мне очередную успокоительную желтую пилюлю, завернутую в желтую салфетку «Клинекс».
– Долорес, пожалуйста, не доставай меня, – только и ответила она.
В похоронном бюро был толстый ковер цвета изморози на лобовом стекле. В фойе на легком штативе лежала книга для автографов и тощая стопка сувенирных открыток: Иисус с пронзенным святым сердцем, как в учебнике биологии, а на обороте мамино имя, напечатанное причудливыми старомодными буквами: Бернис-Мария Прайс. Я как-то спросила маму, нельзя ли нам пойти в суд и поменять фамилию, но она лишь рассмеялась:
– Ты что, думаешь, мы кинозвезды какие?
В зале пахло гвоздиками и свечным воском. Бабушка опустилась на колени перед гробом. Ее губа дрожала, пока она молилась про себя. В мыльных операх мертвецов воскрешают. Люди исчезают в авиакатастрофах, пропадают на много лет, а затем излечиваются от амнезии и возвращаются. «Она не в этом ящике, – сказала я себе. – Значит, тут нет ничего печального. Поэтому я и не плачу».
На подставке над гробом был плоский букет белых и желтых роз с золотой картонной карточкой, которую флорист приколол степлером к атласной ленте. «Ненаглядной мамочке», – значилось там. Цветы были как бы от меня, только это было не так. Я никогда в жизни не произносила слово «ненаглядная». Это была фальшивка из словаря смерти. Все здесь было фальшивым, кроме цветов, но и они были по-своему ненастоящими. Я дарила маме горе, а не цветы, и теперь получила горе обратно. «Вон из моей жизни!» – кричала я ей в тот вечер, когда она обрезала шнур у телевизора.
Гробовщик усадил бабушку в зеленое бархатное кресло, а меня – на резную скамью с вышитыми шерстью подушками. Так иногда вышивала бабка – узоры получались выпуклыми, в индейском стиле.
Индейская пытка.
Последние месяцы я только и делала, что портила матери жизнь и грязно ругалась, разбрасываясь звонкими непристойностями, как булыжниками. На скамейке было жестко, несмотря на подушки. Я попыталась заключить с Богом сделку: пусть мама проживет еще один день, и он может потом лишить меня зрения, ноги или направить грузовик в мою сторону.
Кресло и скамья были поставлены под прямым углом к гробу. Мы неподвижно сидели, ожидая скорбящих. Бабка сказала, что кондиционер очень дует, и застегнула вязаную кофту на верхнюю пуговицу. Потом нашарила мою руку и сжала холодными шершавыми пальцами. Это она должна была лежать в этом гробу, а мама – сидеть рядом со мной.
Гробовщик распахнул двери бюро. Я думала, что прощаться придут только незнакомцы – кассирши из службы сбора дорожных пошлин и прихожане храма Св. Антония, но первой пришла миссис Бронштейн, моя учительница английского из Истерли. Она была одета в фиолетовое мини-платье, которое я помнила по школе. Когда она опустилась у гроба на колени, стало видно ее комбинацию. Об уроках миссис Бронштейн вспоминались странные вещи: окровавленные руки леди Макбет и тот случай, когда посреди устного ответа одного из учеников в класс влетела оса.
– Не скажу, что у нее легкий характер, но внутри этого спрятана очень способная девочка, – сказала она мистеру Пуччи в моем присутствии, имея в виду мой жир. За неделю до этого в «Кэрол Барнетт» Кэрол и Харви Корман надели толщинки и изображали толстую пару, сгрызая ветчину с кости, раздавливая своими телесами мебель и отскакивая от стен. После рекламы Кэрол сняла с себя жир и вышла в обтягивающем платье, подергав себя за ухо, чтобы сказать своей семье – все в порядке. «Я же сижу на похоронах родной матери, – в ужасе подумалось мне, – а вспоминаю Кэрол Барнетт!»
Роберта подошла ко мне и поцеловала в лоб, над зашитой бровью. «Я тебя, наверное, люблю», – подумала я, принимая ее искренние объятия. Я заплакала и припала к Роберте, раскачиваясь и не желая отпускать.
Комната медленно заполнялась стариками – подругами бабки и их мужьями. Мы с бабушкой были как царственные особы – королевы на день. Незнакомые люди протягивали мне свои вялые руки и открытки с религиозными сюжетами и присаживались шептаться и глазеть.
Рыжая женщина в защитного цвета форме, как у мамы, заехала в похоронное бюро, возвращаясь с работы.
– Мы все сильно подавлены, дорогая, – сказала она. Я с признательностью кивнула, думая: «Это ты должна тут лежать, а твои дети сидеть на моем месте».
Какой-то старик чмокнул меня в щеку и сунул что-то в ладонь: это оказалась двадцатка, сложенная в крошечный твердый квадратик.
Я пошла покурить в дальний угол зала, своим присутствием заставив замолчать разговаривавших там мужчин – так же, как заставляла умолкнуть других учеников в школе. Курильщики быстро очистили маленькую комнатку, обшитую деревянными панелями. Я провела пальцем по вешалкам на пустой стойке, отчего они закачались и задергались. Написав свои инициалы на песке в пепельнице, я похоронила в нем двадцатку. Пока меня не было, к маминому гробу подсели Джанет Норд и ее родители.
Джанет сделала мелирование и отрастила задницу не хуже мамашиной. Ее отец приехал в той же самой клетчатой спортивной куртке, которую я помнила еще с ночевки у Джанет с пятницы на субботу, мы тогда ездили в их методистскую церковь. Джек Спейт меня изнасиловал, мама погибла, а мистер Норд все носит свою куртку. Мне хотелось уткнуться лбом в отворот куртки, но миссис Норд, не закрывая рта, трещала о Джанет.
Джанет растянула лицо в улыбке и сделала несколько попыток поглядеть на меня.
– Мне очень жаль, – начала она. Тут ее рот искривился, и Джанет начала давиться смехом. – Мне правда очень жаль, – повторила она. – И ничего смешного. – Вид у нее стал испуганный, но смех не прекращался. – Я не знаю, что еще сказать. Что полагается говорить в таких случаях? – Отвернувшись, она побрела к металлическим складным стульям.
– Это она настояла, чтобы приехать, – сообщила миссис Норд. – Это была ее идея.
На вторые сутки прощания отец Дуптульски опустился на колени возле маминого гроба и начал молиться по четкам. Его присутствие заметно приободрило бабку.
– Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, – повторяла она за святым отцом, и ее голос звучал громче всех в комнате.
Приехал мой папа.
Он стоял в фойе, ожидая, когда закончится молитва. Он отпустил усы и широкие баки – «бараньи котлеты». Взгляд у него был пустой, кулаки сжимались и разжимались. Я вспомнила вечер, когда он вынес в горсти маминого попугая Пети и подбросил в воздух, хотя мама умоляла и плакала. «Ты нас обеих убил, сволочь», – подумала я, садясь.
Бабка перестала повторять слова молитвы, и я поняла – она тоже его заметила. Если бабкин Бог существует, почему тогда я лишилась матери, а не папаши?
Отец нерешительно подошел. Глаза у него полезли из орбит при виде того, во что я превратилась. «А чего ты ожидал?» – подумала я. Мой гнев был огромен, как я сама.
Папа присел передо мной на корточки.
– Привет, – прошептал он.
– Я не хочу с тобой разговаривать.
Бабка взяла меня за руку.
– Долорес, хоть сейчас не… – начала она.
– Бабушка, я не хочу, чтобы он здесь находился.
На самом деле я хотела. Хотела, чтобы папа обнимал меня, плавал со мной, хотела, чтобы он тогда не уезжал.
Скорбящие превратились в ряды призраков.
– Детка, все нормально, – успокаивал папа. – Я буду тебе помогать, пока…
– Не смей со мной говорить, – сказала я. – Иди на хрен. Или отымей старуху Мэсикоттшу, если она еще жива!
Это была не я. Это говорила непонятная мне самой толстуха. От папиного лица отлила кровь.
Бабка убрала свою руку.
– Ну прошу тебя, – умоляла она.
Отец Дуптульски оказался рядом и дернул меня за рукав.
– Пойдемте-ка, мисс, поговорим на свежем воздухе.
– С какой стати мне с вами разговаривать? Вы даже моего имени не знаете! Просто скажите так называемому бывшему папаше проваливать!
– Послушай, – начал папа. На его губах бродила странная улыбка. – Будь же справедлива. Это для всех трагедия, и…
– Вон пошел! – заорала я.
У бабки в лице не осталось ни кровинки. Пальцы отца Дуптульски впились в мой жир.
– Пойдем-ка, – дергал он меня. – Ну же, пойдем.
Папа не уходил, шепча мне в лицо, обдавая приторным ликерным дыханием:
– Я могу понять, через что ты прошла… Но сейчас не время и не место… Ты не знаешь всей…
– Заткнись! Заткнись! Заткнись!
Я оказалась перед похоронным бюро и только там убрала ладони, которыми зажимала уши, и замолчала. Отец Дуптульски похлопывал меня по плечу. Приехал новый скорбящий, опоздавший на скандал.
– Что скажете о «Метс», святой отец? Вы молитесь за этих парней или как?
Священник отогнал его жестом.
С парковки пулей сорвалась машина – за рулем сидел отец. Проехав мимо, она ударил по тормозам и вернулся задним ходом. Из его глаз текли слезы.
– Да, я не святой! – крикнул он отцу Дуптульски. – Но такого не заслужил… – Он поглядел на меня: – А ты чтобы обратилась к врачу! – заорал он. – Или я тебе сам лечение устрою!
– Держись от меня подальше! – заорала я в ответ. Машина рванула с места и смылась.
На следующий день за час до похорон я решила не ехать на кладбище. Бабка, которую до потери речи ужаснул мой разговор с отцом, не настаивала. «Все это лицемерие», – сказала я себе. Из окна коридора я смотрела, как бабка идет к ожидающему лимузину и нагибается, чтобы сесть. Я почту память матери как-нибудь более значимо.
Холодильник был забит чужими сковородками и кастрюлями бабкиных подружек: тефтели, печеная фасоль, индейка, слойки с кремом. Роберта прислала кастрюлю голубцов. Я взяла суповую ложку и чей-то лимонный пирог и пошла к себе в комнату.
На лестнице я остановилась перед моей любимой фотографией мамы. Ей семнадцать, снимали на крыльце бабкиного дома, а рядом ее подруга Женева. Обе девушки подстрижены под пажа и одеты в белые блузки с пышными рукавами, собирались на какое-то важное мероприятие в школе. Стоят, обняв друг друга за плечи, и смеются для фотографа. Я спрашивала маму, кто делал снимок, но она не смогла вспомнить. Может, фотографировала мамина смерть, подумала я. Может, она смеется в ответ, наперед зная, что случится в будущем, пока мать позирует в счастливом неведении. В ее молодом лице нет никаких намеков на то, что Энтони-младший задушит себя пуповиной в ее утробе, что от нее уйдет муж, а дочь превратится в меня.
Сколько я себя помню, мама получала письма от Женевы Свит, 1515 Бейвью-драйв, Ла Джолла, Калифорния. По рождественским открыткам было понятно, что Женева богата: огромная Мадонна из фольги, а внутри тисненые имена Женевы и ее мужа. Буквы выдавались над бумагой, их можно было читать как глазами, так и пальцами. Муж Женевы, Ирвинг, занимался импортом ковров и обращался с женой, как с принцессой Грейс. Мама однажды сказала: «Он ниже Женевы ростом, такой маленький домашний муженек. Не настолько красив, как наш папа».
Накануне утром бабка позвонила Женеве сообщить о маме. Женева попросила позвать к телефону меня.
– Мы с Бернис всю жизнь переписывались, – сообщила она. – У меня сейчас словно земля ушла из-под ног. Если я хоть чем-нибудь… чем-нибудь…
На фотографии мама была гораздо красивее и веселее Женевы. Рядом с мамой Женева казалась заурядной. Может, некрасивость превратила ее в Золушку и убила мою мать? Фотография преследовала меня этим вопросом.
Еще с ночи я выгладила платье для похорон и повесила на карниз для штор дожидаться утра. Сейчас, зайдя в комнату, я приняла платье за человека и на мгновение задохнулась от страха.
Электроутюг стоял на гладильной доске. Я включила его в розетку и нажала кнопку, чувствуя пальцами переход от прохладного к теплому и горячему. Боль казалась успокаивающей и заслуженной. Женщина в магазине для толстых, где мы спешно покупали платье, неодобрительно хмурилась, потому что на меня ничего не налезало. Я села на кровать, отправляя в рот полные ложки лимонного пирога и изумляясь своей обвальной усталости.
Я проснулась от хлопков дверцы машины. Отправив под кровать пустую тарелку из-под выпечки, я проверила замок. В коридоре говорили люди – сперва тихо, затем громче. Еще утром я помогла бабке вынести сломанные перила во двор, спустившись по ступенькам спиной вперед, уверенная, что упаду. Зазвякали тарелки. Высокие каблуки зацокали по лестнице к туалету. Я забыла выключить утюг. Воздух над ним дрожал от жара.
Дочь миссис Мамфи подошла к моей двери и спросила, не сойду ли я вниз. Я не возражала против пробуждения – сон сделал меня странно терпеливой.
– Может, тебе тогда сюда тарелку принести? – спросила женщина.
Я улыбнулась:
– Нет, спасибо.
Разговор, как нельзя лучше подходивший матереубийце. Я лизнула ладонь и приложила к раскаленному утюгу.
– Церемония была очень красивой! – сказала за дверью дочь миссис Мамфи.
Кожа зашипела. От проникающего до костей жара рука задрожала. Я продолжала прижимать ее к подошве утюга. Кольцо на пальце превратилось в круг особенно сильной боли.
– Просто прекрасной!
К выпуску новостей в шесть тридцать последние гостьи домыли посуду и разошлись. Бабка натянула домашний халат и заснула в коридоре в кресле. Астронавтов выловили из океана целыми и невредимыми – они махали руками в камеру, пока их везли в карантин. Я смотрела на отпавшую бабкину челюсть, на свесившуюся голову. Во сне бабушка издавала звуки – отрывочные слоги и какое-то бульканье.
– Переиграй, – прошептала я бабкиному Иисусу с грустными глазами и святым сердцем. – Забери ее, а не маму!
Я поднялась в мамину комнату в первый раз после ее смерти. Одежда, которую она надевала на прошлой неделе, была постирана и сложена стопкой поверх ее перламутровой корзины для белья. На улице дождь барабанил по мусорным бакам. Бабка сняла с кровати постельное белье.
Я присела за мамин стол, не вполне сознавая, что хочу написать. Предсмертную записку? Кому ее писать теперь, когда нет мамы? Пальцы покрылись волдырями после утюга, держать ручку было пыткой.
«Дорогая Киппи!
Я очень хочу поскорее с тобой познакомиться. В колледж меня отвезут родители либо бойфренд. Вышитые покрывала – это замечательно. Сколько я буду тебе должна? Похоже, у нас с тобой много общего!»
Моя мать хотела для меня жизни Триши Никсон. Я создам ей такую жизнь в качестве подарка. Может, я похудею, или Киппи окажется толстой. Я представила, как мы вместе идем на лекцию, две славные толстухи, шутим и смеемся – смерть моей матери успешно скрыта.
Я знала, что у меня случится истерика, если буду дожидаться утра, чтобы послать письмо. Я достала из шкафа мамин тренчкот и набросила на плечи, вдыхая ее запах, дрожа от любви.
Дойдя до почтового ящика на Террас-авеню, я здорово запыхалась – много месяцев не ходила так далеко. Мимо ехали люди, все глазели на меня. Притормозила машина с хохочущими юнцами.
– Эй, крошка, я спермацетовый, как кашалот, перепихнемся? – крикнул один.
Меня это не задело – голова была наполнена ясностью, резкой, как боль, обжигающей, как поверхность утюга.
– Мама, я тебя люблю. Это для тебя. Это для тебя, мама, я тебя люблю, – твердила я снова и снова, как «Аве, Мария».
Я опустила письмо в щель ящика и услышала, как оно с мягким стуком упало на дно.
В ту ночь я спала на голом матрасе мамы, накрывшись ее тренчкотом, а проснулась с улыбкой – мне приснился сон, который я не смогла вспомнить.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?