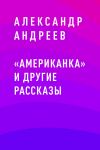Текст книги "Что к чему..."

Автор книги: Вадим Фролов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 10 страниц)
– Я Пантюхин Петр Иванович, ейный законный супруг. – Он ткнул пальцем в сторону Зинаиды Ивановны, и та заплакала еще громче. – А ихний, – он показал на Лельку и Юрку, – родной папа. А… вы, извиняюсь, кто будете? – спросил он Лешку.
Лешка ничего не ответил. Лицо у него стало какое-то серое. Он неловко сел на стул и смотрел мимо Пантюхина, туда, где около окна плакала Зинаида Ивановна.
– Жена найдет себе другого? Да? – сказал Пантюхин, кривляясь, и опять подмигнул Лешке.
– Да замолчи ты, ради бога! – крикнула Лелька. – Чего ты издеваешься?!
– Что ты, доченька, – удивился Пантюхин, – разве я издеваюсь? Имею я полное право знать, кто это к моей жене законной в гости ходит, когда меня дома нет? Имею?
Я стоял в дверях и не знал, что делать. Мне так жалко было их всех, и я так ненавидел этого типа… Пантюхина, что готов был броситься на него, сбить с ног и бить, бить ногами, как… Валечку. Но я стоял и смотрел и не знал, как и чем помочь им.
– С-с-с-лушай ты, п-папочка, – тихо сказал Юрка, – мамки тебе не видать, к-как своих ушей. Т-ты это запомни…
Он подошел к Лешке.
– Т-ты на ней жениться хотел, да? – спросил он. – Ну, в-вот и женись. И забирай ее отсюда с-сейчас и чтобы эт-тот, – кивнул он в сторону отца, – ее и п-пальцем не мог т-тронуть. П-понял?
Лешка молча кивнул, поднялся со стула и пошел к Зинаиде Ивановне.
Пантюхин засвистел, а потом засмеялся.
– Ну, сынок, ай, сынок, рассудил! – Он вдруг оборвал смех и сказал медленно: – А мне куда ж? Опять в тюрягу, да? Это так вы отца родного встречаете-привечаете? Да? Ну, погоди, сынок…
Лешка резко повернулся и шагнул к Пантюхину.
– Ну, ну! – взвизгнул Пантюхин, но все-таки отошел от Юрки.
– А т-ты с нами будешь. 3-здесь жить будешь, со мной и с Лелькой, – спокойно сказал Юрка.
И тогда закричала Лелька. Она отскочила от стены, схватила с буфета какую-то вазочку, грохнула ее об пол и начала кричать.
– Рассудил, – кричала она, – распорядился, надзиратель! Эту туда, этого сюда, самих тоже сюда… А ты спросил кого-нибудь, кто как хочет?
– Верно, дочка, верно, – обрадованно забормотал Пантюхин.
– А ты молчи, пьянчуга чертов, – кричала Лелька, – опять приехал нашу жизнь заедать?! Хватит! А меня ты спросил, братишка милый, хочу ли я с ним жить? Мамку ты определил, благо нашелся хоть один из вас человек, а меня ты на что определяешь? Его пьяную блевотину подтирать, подштанники загаженные стирать? Да? К черту! Я молодая… Я жить хочу, понимаешь ты, надзиратель проклятый, жить… Надоели вы мне все хуже смерти… Уйду!
– К-куда ты уйдешь, д-дура, – сказал Пантюха презрительно.
– Куда? Найдутся добрые люди, помогут… Не дадут пропасть.
Она рывком отворила дверцу шкафа и выкинула оттуда чемодан. Он раскрылся, и из него посыпались туфли, платья, еще что-то. Я нагнулся помочь ей, но она сильно оттолкнула меня, так, что я ударился об стенку.
– А этого… еще зачем привел? – закричала она. – Чтобы на посмешище нас выставить, да? А ну катись отсюда, чистюля сопливый! – И она замахнулась на меня какой-то тряпкой.
Я попятился к двери. Пантюхин захохотал.
– Зверь девка, – кричал он, – вся в меня!
– М-молчи, з-зараза! – орал Юрка. – А то как д-двину!
– К черту! – кричала Лелька. – Видеть вас не хочу…
И только Лешка с Зинаидой Ивановной тихо стояли у окна, и Лешка что-то говорил ей, а она слушала и утирала слезы, и изредка тревожно посматривала на Юрку, Лельку и Пантюхина. Я пошел к двери и уже в передней услышал, как она сказала:
– Не сердитесь на меня, дети, и ты, Петя, не сердись – не могу я иначе. А ты, Леля… – дальше я ничего уже не слышал. Я сбежал по лестнице, выскочил во двор и успокоился только на нашей скамейке в сквере. Я сидел долго, мысли мои скакали, я пытался разобраться и понять, что произошло и кто из них прав. Потом я увидел, как по улице пробежала растрепанная Лелька, а через некоторое время в ту же сторону прошли Зинаида Ивановна и Лешка. Он нес два чемодана, а у Зинаиды Ивановны в руке была только сумочка. А еще через некоторое время ко мне подошел Юрка. Он сел рядом, помолчал немного, а потом сказал как-то очень мягко:
– Т-ты не сердись, ее ведь тоже п-понять надо… И на меня н-не сердись. Я д-думал, они тебя п-постесняются.
Я не сердился, – что я – не понимаю, что ли? Он опять помолчал, потом уже совсем другим тоном спросил:
– Д-деньги у т-тебя есть с собой? Понимаешь, ему… б-батьке… опохмелиться надо. Я его запер, сказал, что принесу пол-литра.
Я достал тридцать рублей – те, что дал Лешка, и протянул ему.
– К-куда столько, – сказал Юрка.
– Это твои, – сказал я, – на дорогу.
– Откуда? – спросил он и сразу махнул рукой. – Н-не п-поеду я, Санька. Н-не м-могу.
И я в первый раз увидел, как Юрка Пантюхин плачет. Юрка Пантюхин! Он сморкался и плевался, и вытирал слезы ладошкой и всхлипывал, как маленький, и ругался совсем как взрослый – зло и гадко. И я не знал, что ему сказать, потому что понимал, что ничем утешить я его сейчас не могу. Я только бормотал что-то вроде – да брось ты, да ладно, да хватит тебе в самом деле, а больше ничего придумать не мог, и в голове у меня была каша, и мне все время казалось, что вот сейчас я соображу что-то очень важное для меня.
Когда Юрка успокоился, я все же спросил:
– А как же ты?..
– Н-не знаю, – тоскливо сказал Юрка. – К-как-нибудь п-проживем… Н-не могу я его сейчас б-бросить, понимаешь, н-не могу, и все тут… Один он совсем остался… Как же я м-могу…
Он взял из тридцати пять рублей, а остальные вернул мне.
– Т-тебе пригодятся, – сказал он. – П-поедешь?
Я не знал. Все опять как-то перевернулось, я уже привык к тому, что мы поедем с ним вместе, а тут вдруг… Я понимал Юрку, понимал, что иначе он не может, и мне было очень жалко его, и я… гордился им, что ли… Комок сидел у меня в горле, когда Юрка говорил, почему он решил остаться… Но, конечно же, мне было обидно, что все срывается, хотя я Юрке этого и не говорил, – подло было бы сказать ему это.
– Т-ты заходи, Сашка, – сказал Юрка, – мне с-с-сей-час некогда будет, а ты… – Он улыбнулся, и улыбка у него была такой жалкой, что мне опять чуть не плакать захотелось. Он ушел, а я долго смотрел ему вслед, как он шел, засунув руки в карманы и надвинув кепку на самые глаза.
И все-таки я уехал. Но поехал я не в деревню, а в Иркутск – к маме, за мамой… Как это получилось, я и сам не могу объяснить. Наверно, на меня так подействовала эта история у Пантюхиных. Всю ночь после этого я не спал и думал, и думал, а утром как-то сама собой пришла мысль поехать за мамой. Я был уверен, что стоит ей увидеть меня – и она вернется к нам, бросит Долинского и вернется. Я представлял себе, как я подойду к ней, возьму ее за руку и привезу домой. И как раз к этому времени приедет из командировки батя, и Нюрочка поправится, и мы снова все будем вместе и все будет опять хорошо. Нет, конечно, я понимал, что первое время нам всем, кроме Нюрочки, будет очень трудно жить, но мы ведь люди в конце концов, и мы любим нашу маму. А без нее нам никак нельзя. И отцу, и мне, и Нюрочке. Отец палец о палец не ударит, чтобы вернуть маму, – в этом я был уверен. Еще бы, он такой умный и добрый – он все понял и простил, еще бы, он такой благородный, что никому мешать не будет. Тогда я помешаю – я поеду и верну ее к нам. Если они сами не могут поступать правильно, тогда я попробую доказать им, что я тоже кое-что значу. Ведь смог же Юрка решить все правильно? Почему же я не могу? Ведь послушались его все – и Зинаида Ивановна, и Лешка, и даже его отец. Почему же меня не послушаются? Вот примерно как я думал, когда решался ехать в Иркутск. Конечно, я мог бы просто написать письмо маме и рассказать ей все. Но почему-то мне казалось, что письмо – это так – пустые слова, бумага, а тут надо обязательно увидеть маму и чтобы она увидела меня. И еще, правда, об этом я боялся думать, но мне казалось, что если я увижу маму, то все пойму и, может быть, я и не захочу, чтобы она возвращалась. Я гнал эту мысль от себя, но она все же нет-нет да лезла в голову, хотя я и старался изо всех сил представлять себе, как я приеду с мамой домой и нас радостно встретят батя и Нюрочка… Словом, я решил ехать.
И когда я твердо решил это, мне стало даже легче. Я понимал, что не так-то просто будет мне, четырнадцатилетнему парню, добраться до такой дали, как этот далекий Иркутск, но мне всегда все говорили, что не надо бояться трудностей, вот я и попробую, что это значит.
Ни Андреичу, ни Ливанским я не сказал, куда решил уехать. Они по-прежнему думали, что я еду в деревню вместе с Юркой. Андреич, может, и отпустил бы меня, а вот для Ливанских это была бы целая трагедия. Сказал я об этом только Юрке и Оле. Оля вначале чуть не расплакалась, а потом у нее загорелись глаза и она сказала, что я, в общем-то, молодец, а Юрка долго молчал, а потом сказал, что, может быть, мне лучше попроситься обратно в школу, а остальное все само собой сделается. Что-то случилось с Юркой – я его просто не узнавал. Он стал тихий, но не пришибленный, а какой-то спокойный и серьезный.
Почти перед самым отъездом случилась одна вещь, которая чуть не сорвала мне все. В подвал к Андреичу вдруг пришла Мария Ивановна – Капитанская дочка. Она была очень веселая, расспрашивала меня о моем житье-бытье, восхищалась Андреичевыми кораблями и наконец сказала, что мое дело все-таки пересматривается в районо и, наверное, через неделю я смогу опять вернуться в школу. И это очень хорошо, потому что нельзя же мне без конца болтаться без дела.
Она сообщила это так радостно, что мне даже стало не по себе: они там стараются, переживают за меня, а я и забыл почти о школе и думаю только о своих несчастьях. И что я могу сказать, если я даже не обрадовался этому известию, а только сделал вид, что обрадовался. Нет, неправда, конечно, я обрадовался, но не так, как обрадовался бы еще недели две назад, когда еще не решил ехать к маме…
Я что-то говорил и благодарил, а сам думал: ну что стоило ей прийти дня через два, когда я был бы уже далеко и ничего этого не узнал бы, и мне не пришлось бы притворяться. А сейчас, выходит, я должен буду обмануть и Капитанскую дочку и всех ребят, которые, я знаю, ждут меня в школе.
А она радовалась за меня, и Андреич тоже радовался, а я все время боялся, что он скажет ей о том, что я собрался в деревню, но он, молодец, ничего не сказал – видно, догадался по моему виду, что нельзя об этом говорить. И я чувствовал себя по-дурацки и не знал, что мне делать.
Она ушла, и я подумал, что теперь я, наверно, ее долго не увижу.
Когда она ушла, Андреич покосился на меня и спросил:
– Деревня-то побоку?
– Поеду, – сказал я.
– В батьку! – сказал он, и я не понял – осуждает ли он меня за это или наоборот. Скорее все-таки – наоборот…
С Ливанскими я попрощался, а к Нюрочке даже не зашел – она ведь думала, что я уже уехал, и мне лишний раз волновать ее и себя было ни к чему. Дядя Юра как-то по-особенному пожелал мне счастливого пути, а тетя Люка, всхлипывая (что-то она стала часто всхлипывать), сказала, чтобы я берег себя и, если что нужно, чтобы я обязательно написал…
Провожали меня Оля и Юрка. Когда до отхода поезда осталось две минуты и у Оли покраснели глаза, Юрка сказал:
– Т-ты д-давай пиши… и вообще…
Оля засмеялась. Такой я ее и запомнил: глаза красные, а сама смеется, закинув голову…
– И ты пиши, – сказал я.
– А куда же напишу я? – сказала Оля.
– Напиши куда-нибудь, – сказал я.

…Поезд стучал-постукивал и бежал мимо каких-то городов и сел, и поселков и лесов, и рек и перелесков, и стучал по мостикам и переездам, и покачивался с боку на бок и катился далеко-далеко.
…Я не буду рассказывать, как я приехал в Москву, и как я взял билет до Иркутска на Ярославском вокзале, и как я сел в поезд и залез на верхнюю полку и заснул. А потом проснулся, и около меня шевелились какие-то рыжие усы и что-то мне говорили.
– Подъем, подъем, – услышал я. – Так можно все на свете проспать! Смотрите, юноша, какая красота!
Я вначале ничего не понял – я только увидел рыжие усы, которые шевелились около меня. Я повернул голову – и передо мной побежали какие-то картины: озеро и в нем плавают утки, потом лесок и коровы около, потом цветные поля и опять коровы и ели, и сосны… и опять озеро…
Дядька с рыжими усами, похожий на верблюда, спросил, как меня зовут.
– Саша, – сказал я.
– Великолепно, – сказал дядька. – А ну-ка, Саша, слезайте, будем пить чай.
– Спасибо, – сказал я и слез со своей верхней полки.
– Идите умойтесь. – сказал дядька. – У вас есть полотенце?
– Есть, – сказал я.
Я достал свою сумку, расстегнул «молнию» и вынул оттуда полотенце, мыло в коричневой мыльнице, пасту и щетку в зеленом футляре. Очереди не было, и я быстро помылся. Когда я вернулся в купе, на столике уже стоял чай и были разложены всякие припасы, и Верблюдыч, прихлебывая из стакана, говорил что-то другому дядьке, которого я и не заметил раньше.
– Здравствуйте, – сказал я.
– А-а, Саша, – сказал Верблюдыч, – садись-ка.
– Эт-т-та что? – спросил дядька.
Рожа у него была красная, одет он был в полосатую пижаму. У него тоже были усы – не такие, как у Верблюдыча, а маленькие «сопливчики» под носом…
Я сел рядом с Верблюдычем, и он мне подвинул стакан с чаем.
– Тебя как зовут? – спросил полосатый в пижаме.
– Саша, – сказал я.
– А ты кто? – спросил дядька.
– Физик, – сказал я.
– Химик? – спросил дядька.
– Астробиолог, – сказал я.
– Ну, ладно, ладно, – сказал Верблюдыч, – пей чай, Саша…
– Спасибо, – сказал я.
– Вот они – молодежь, – сказал дядька в пижаме и ткнул в меня пальцем.
– Ну чего «они», – сказал Верблюдыч. – Тебе сколько лет, Саша?
– Шестнадцать, – сказал я.
– Знаем мы, – сказал дядька.
– Шестнадцать, – сказал я.
– Ну что вы, в самом деле, – сказал Верблюдыч.
– Я знаю, что я, в самом деле, – сказал дядька в пижаме. – А куда, если не секрет, едете? – спросил он.
– В Иркутск, – сказал я.
– Великолепный город, – сказал Верблюдыч, – я сам оттуда.
– Ага, – сказала «пижама». – А ты что же там – живешь?
– Ага, – сказал я.
– Ага, – сказала «пижама». – Ха-а-роший ты парень…
– Ага, – сказал я.
– Саша, – сказал Верблюдыч, – вы первый раз по этой дороге едете, – я вам хочу красивые места показать.
Мы вышли из купе и стали около окна.
– А к кому вы, если не секрет, едете? – спросил Верблюдыч.
– Секрет, секрет, понимаете, секрет! – чуть не заорал я. – К отцу.
– Великолепно. А он что, там работает?
– Да.
– А где, если…
– Секрет.
– Понимаю. А на какой улице он живет?
Чтоб ты пропал, чтоб вы все провалились, и ты, верблюд несчастный.
Если бы я знал хоть одну какую-нибудь улицу в Иркутске!..
– На улице… Карла Маркса, – сказал я, надеясь, что такая-то улица там наверняка есть.
– Великолепная улица. Главная. А дом?
– Двадцать пять, – сказал я.
У Верблюдыча брови поползли вверх.
– Вы уверены? – осторожно спросил он.
– Уверен, – сказал я в отчаянии.
…Поезд все шел и шел. Стучал-постукивал на стыках и покачивался, и катился далеко-далеко, а я стоял у окна и думал обо всем: о маме, о бате, о Нюрочке – как она там, и о себе, конечно, и мысли эти были не очень веселые, – грустные и непонятные были эти мысли…
– Не сообщить ли в милицию, – сказал однажды дядька в пижаме. Он думал, что я не слышу.
– Что в милицию? – спросил Верблюдыч.
– Насчет пацана, – сказал дядька, – чего-то он подозрительный.
– Странный вы человек, – сказал Верблюдыч.
– Странный не странный, а поколение нынче у ж а с н о е, – сказала «пижама».
– Слушайте, вы… – сказал Верблюдыч.
С тех пор я старался как можно меньше бывать в купе, и, когда Верблюдыч звал меня пить чай, я вначале смотрел, нет ли там этой «пижамы», а уж потом заходил. А Верблюдыч относился ко мне хорошо – стоял подолгу со мной у окна и рассказывал много интересного про Сибирь и ни о чем не расспрашивал.
Не помню, какая это была станция. Помню только, что довольно большая и поезд стоял там долго. Я подошел к окну и увидел, что «пижама» разговаривает с милиционером и показывает на наш вагон, а милиционер кивает и собирается войти в вагон… «Конечно, за мной», – сразу подумал я.
Я кинулся в купе – Верблюдыча не было, – схватил свою сумку и куртку и помчался в другой вагон. Поезд тронулся, и я увидел, как дядька в пижаме лез в наш вагон, а за ним и милиционер, придерживая сумку и пистолет. Я стоял на площадке соседнего вагона и видел, как они оба влезли. Я зажмурился и уже приготовился прыгать, но меня кто-то сильно ухватил за шиворот, и я почти повис в воздухе.
– Совсем чокнулся, – сердито сказал какой-то бас.
Он держал меня за плечо своей огромной лапищей, и я видел на ней синий якорь и надпись. Потом он повернул меня к себе, и я увидел здоровенного молодого парня в клетчатой ковбойке.
Я испугался – может, это проводник? – хотел потихоньку вывернуться, но он заметил и так сжал мне плечо, что я еле удержался, чтобы не заорать.
Но парень оказался пассажиром. В его купе никого не было – только на верхней полке спала, укрывшись простыней, женщина. Парень усадил меня, сам сел напротив, Я сидел опустив голову, и черт знает что творилось у меня на душе.
Парень вдруг присел передо мной на корточки, как перед маленьким, и заглянул мне в глаза.
– Однако ты, паря, чего-то не тое, – сказал он. – У тебя, я гляжу, настроение… того…
Женщина на верхней полке чуть приподняла простыню с лица, и я увидел большой карий глаз. Парень погрозил ей пальцем.
– Не шебаршись, не шебаршись, Зойка, – сказал он, – человека выручать надо. Ну, рассказывай, – сказал он мне и опять сел напротив.
Я молчал, – что, в самом деле, я ему рассказывать буду?
– Не хочешь, – удовлетворенно сказал парень, – вот и я такой же был – упорный. Ну, тогда я буду спрашивать, а ты отвечай. И не думай молчать! Я знаешь кто? Я самый законный жулик в Сибири, и меня не проведешь. Не веришь?
Зойка захихикала, и он опять погрозил ей пальцем.
– Не веришь, значит, – с сожалением сказал парень, – тогда смотри, – и он поднес к моему носу огромную лапищу. Якорь я заметил еще там, на площадке, а вот надпись разобрал только сейчас. «Не забуду мать родную» – было написано там. Я пожал плечами, тогда он быстро скинул с себя ковбойку и остался в майке, и я чуть не ахнул – так он весь был разрисован. На груди – голая женщина, на правом плече – какой-то черт с котомкой за плечами идет по луне и надпись: «Почему нет водки на луне»; левая рука вся переплетена огромной змеей и тут тоже надпись: «Нет счастья в жизни». Что-то там было еще нарисовано, но я не успел заметить – парень быстро натянул рубашку.
– Нашел чем хвастаться, охламон, – смеясь, сказала Зойка из-под простыни.
– Надо же мне к нему в доверие войти, – сказал парень, – сдается мне, он из нашей породы, из жуликов.
Я даже задохнулся от возмущения.
– Э-т-то п-п-почему еще? – сказал я, заикаясь.
– Скажи-ка, – удивленно сказал парень, – еще заикается! А если милиция за тобой бежит, а ты – от нее, так ты кто? Честный человек, да?
Видно, у меня было такое выражение, что парень вдруг замолчал. Он внимательно посмотрел на меня и спросил:
– Сам откуда?
Я сказал. Парень присвистнул и спросил, чего это меня так далеко занесло.
Ну и пришлось мне кое-что ему рассказать, не все, конечно, а так, кое-что. Еду, мол, к матери, а отец уехал надолго, и мне надо же с кем-нибудь жить. Кажется, он поверил. Он только спросил, знаю ли я, где живет мать, и когда я замялся, он сказал, что ничего – он в Иркутске все знает и уж как-нибудь ее разыщет.
– А чего от милиции бежал? – спросил он. – Без билета, что ли?
Я показал ему билет. Он пожал плечами.
– Чудак, – сказал он. – Ну, не мое дело. Мы вдвоем в купе едем. Если уж тебе с милицией не хочется встречаться – спрячу, за сына выдам. А сейчас мы подрубаем. Зойка, давай слезай, люди есть хочут.
– Отвернитесь, мальчики, – сказала Зойка, и мы вышли в коридор. Мы стояли у окна, и перед нами бежала степь. Ровная-ровная – ничего на ней нет, только изредка попадаются три – четыре березки – белые, стройные – да еще маленькие озера, как разбросанные там и сям зеркала. Когда долго смотришь в вагонное окно, особенно если едешь по ровному месту, все начинает вдруг поворачиваться, кружиться, и тебе кажется, что ты стоишь на месте, а это земля и все, что на ней, крутится вокруг тебя. Вот и степь эта тоже начала кружиться, и я смотрел и смотрел, и ни о чем не думал, и был рад этому.
Парень стоял, опершись локтем левой руки на раму, и над головой его вился сигаретный дым, а правая рука с синим якорем и надписью висела вдоль тела и чуть подрагивала в такт движению поезда.
– Миллионы гектаров, – сказал парень задумчиво.
– Ага… – сказал я.
– Что понимаешь, суслик.
Я хмыкнул.
– Видишь, сколько земли пропадает? Ее ведь пахать надо. И вот что я тебе скажу: вот эти степи мы тебе положим на тарелочку и преподнесем.
Зажатая в его пальцах сигарета догорела почти до конца, он обжегся и чертыхнулся. Потом он рассказал мне, какой он классный комбайнер, сколько гектаров он скашивает и как валится с ног, проработав на целинном фронте несколько суток без сна.
– А кем я был? – спросил он. – А был я, и верно, знаменитым жуликом и вором в законе по всей Западной и Восточной Сибири. Не веришь? Спроси у Зойки. Это она меня человеком сделала. Эх, Зойка, Зоя, – он даже задохнулся, – это такой… это такая… э-э, да что ты понимаешь – тут целый роман – и сочинять не надо.
– Заходите, мальчики, – сказала у нас за спиной Зоя.
Мы зашли, и я сразу посмотрел на нее, – очень уж интересно, какая же она такая, если из этого татуированного медведя-жулика сумела человека сделать. Она была очень красивая и чем-то очень похожая на Олю. Я раскрыл рот, а парень сказал:
– Ну, Зойка, ну, Зойка…
А она подмигнула мне, засмеялась и сказала:
– Тебя как зовут? Саша… Так ты, Саша, этого трепача не слушай – он тебе наговорит бочку арестантов. Ты меня слушай. Вот приедем мы в Иркутск, и если тебя мама не встретит, то поедешь к нам. У нас комната хоть и одна, но зато очень миленькая. И будешь жить у нас, пока не найдешь свою маму. А этот лоб, – ткнула она пальцем в сторону парня, – будет нас с тобой кормить, поить и одевать, и подавать нам кофий в кровать. Потому – я сейчас в отпуске и имею право отдохнуть, а ты еще маленький и себя прокормить не можешь, а он, – и она опять ткнула пальцем в парня, – он такой здоровый бугай, что смело может прокормить целый детский сад, не то что одну женщину с ребенком… Будешь кормить?
– Буду!
– И кофий подавать будешь?
– Буду! С цикорием! И знаешь, роди ты мне сразу четверых! Всех кормить буду и кофий подавать буду!
– Ну уж, четверых, – сказала Зоя и немного покраснела.
– А что? Очень даже просто – вон у какого-то дровосека в Канаде жена пятерых принесла, а сама тощая, как кошка. А ты у меня ничего! Что надо, и всё на месте. Да ты не красней, чего тут краснеть, что он – маленький, не понимает? В декрете она у меня, понимаешь, – сказал он и засмеялся, помотав головой, – в декрете, это ж надо же…
Я не знал, что такое «в декрете», но, по-моему, догадался правильно – у Зои, наверно, скоро будет ребенок, вот они и радуются. И я почему-то радовался вместе с ними, а потом вдруг приползла откуда-то в голову подлая мысль. Вот они радуются, а потом она возьмет и бросит этого парня, который так ее любит, и своего ребенка и уедет с каким-нибудь артистом. Мне даже тошно стало от этой мысли и стыдно, ну и свинья же я…
Я незаметно вышел из купе, – они так увлеклись разговором, что не заметили. Зоя догнала меня уже в конце коридора, обняла за плечи так, что я спиной почувствовал ее теплую и крепкую грудь, и зашептала:
– Ну что ты, Саша, обиделся, да? Ты не сердись, это просто мы такие дураки счастливые, что о чужом горе забываем, но мы тебя в обиду не дадим – Ленька и я. Пойдем, покушаем и все решим, и все хорошо будет.
И у меня комок подступил к горлу, и я шел послушно, и чувствовал Зоину грудь, и вспомнил, что так иногда обнимала меня мама, и мне было хорошо и стыдно, что я так плохо мог подумать об этой Зойке…
А поезд все шел и шел, и за окном неслась осенняя тайга – желтая, красная, зеленая, синяя, золотая, лиловая – ели, березы, сосны, осины, пихты, лиственницы, и опять березы и ели, и так долго-долго кружилась вокруг поезда тайга, и на нее не скучно было смотреть – такая она была разная и красивая…
И Леонид с Зоей прятали меня в своем купе и ни о чем не расспрашивали, а просто кормили меня и обращались, как со своим.
…На какой-то станции я увидел в окно Верблюдыча и «пижаму». Они стояли около пивного ларька, и Верблюдыч оглядывался по сторонам, как будто искал кого-то, потом пошел вдоль вагонов и заглядывал в окна.
«Наверно, меня ищет», – подумал я и спрятался.
…И вот мы подъезжаем к Иркутску. Я долго стоял у окна, а потом зашел в купе. Зоя лежала на своей верхней полке. Леонид стоял в проходе, облокотившись одной рукой о полку, а другая его рука, большая, с синим якорем, лежала у Зойки на животе. У Леонида был такой вид, будто он к чему-то прислушивался. Вдруг он отнял свою руку и как-то странно посмотрел на нее, а потом стал улыбаться и улыбался все шире и шире, и я, глядя на него, тоже стал улыбаться не знаю чему, и Зоя улыбалась на своей полке немножко смущенно, но радостно.
– Стучит, – сказал Леня тихо, – стучит, понимаешь?
Он облапил меня так, что у меня затрещали кости, и заорал мне в самое ухо:
– Стучит, понимаешь, стучит!
Я не понимал, и тогда он подвел меня к полке, на которой лежала Зоя, взял мою руку и потянул ее куда-то вверх.
– Ну что ты, Леня, – смущенно сказала Зойка.
– А что? Пусть понимает, что к чему. Не маленький, – сказал Леня радостно и опять взял меня за руку.
Тогда Зоя, улыбаясь, сказала:
– Дай-ка руку, Саня.
Я, ничего еще не понимая, протянул ей руку, и она положила ее осторожно себе на живот. Я боялся пошевелиться и вдруг почувствовал, как будто что-то тихонько толкнуло меня в руку, потом еще раз уже посильнее, и опять еще сильнее кто-то стучался там внутри Зонного круглого, крепкого живота.
– Стучит? – шепотом спросил Леонид.
– Стучит, – так же шепотом ответил я.
– Сын, – сказал Леонид, и Зойка засмеялась.
Я выскочил из купе, стал в коридоре около окна и еще долго чувствовал на лице немного обалделую улыбку, и в мою руку кто-то еще долго тихонечко толкался…
…Иркутск. Мы вышли все вместе – Леонид, Зоя и я, и пока они мешкали с вещами на платформе, я тихонечко зашел за газетный киоск. Я видел, как из того вагона, где я ехал раньше, вышел дядька в пижаме – видно, он ехал дальше, – а за ним сошел Верблюдыч и даже не попрощался с этой «пижамой». А потом я увидел, как Зоя и Леонид начали оглядываться по сторонам, а потом, оставив свои вещи, стали бегать по платформе вдоль поезда.
– Шляпа! – кричала Зоя. – Развесил уши. Где мальчишка?
– Ну, Зойка, ну, Зойка, – бормотал Леонид, – ну, не пропадет же он в самом деле, у него же мать здесь…
– Не верю я, – кричала Зоя, – ты видел, какой он странный. Беда у парня, наверно, а ты бросил… Ко-офий подавать буду… Шляпа ты с ушами!
Я слышал все это и думал – вот сейчас выйду из-за киоска, засмеюсь и скажу: «Ну, чудаки, эх, чудаки – вот он я».
Но я не вышел и ничего не сказал, – зачем я буду еще этих хороших ребят в свои дела впутывать – у них и своих забот хватает.
Они поругались еще немного, потом взяли вещи и ушли. Я видел, как они все время оглядывались. Я подождал еще некоторое время, потом вылез из своего укрытия, сел в автобус и поехал на ту сторону Ангары – в город.
Было начало седьмого, и я сразу же пошел в театр. На афише в вестибюле я прочел, что сегодня идет спектакль, в котором играет мама и… Долинский. Я купил билет, оставил в гардеробной свою сумку и забрался на второй ярус. Не помню, какая это была пьеса. Я ничего не видел и не понимал. Я видел только маму – такую родную, такую знакомую, красивую и грустную. И комок стоял у меня в горле, и я глотал его и никак не мог проглотить. И мне все время хотелось крикнуть: мама, мама! Я здесь, вот он я, я за тобой приехал, ну хоть погляди на меня! Но она не глядела. А потом на сцене появился красивый, грустный и бледный Долинский, и я чуть не задохнулся…
Спектакль кончился, и я, как в каком-то тумане, вышел из театра. Я стоял у служебного входа, спрятавшись за толстым деревом, и ждал, когда выйдет мама. И вот она вышла, и, конечно, не одна, а с Долинским. Он поддерживал ее под руку и что-то говорил весело и словно радуясь чему-то. А мама устало улыбалась и молча кивала головой. Я не подошел к ним. Если бы еще она была одна – тогда я, наверно, не выдержал бы и бросился к ней, но она была с Долинским, и я не подошел, а тихонько пошел за ними.
Они пришли на берег Ангары и сели на скамейку, и Долинский продолжал говорить, чему-то радуясь. Я не слышал, что они говорили, но видел их хорошо, – рядом со скамейкой светил фонарь – и я хорошо видел их глаза и лица. Потом я нечаянно высунулся из-за дерева, и мама посмотрела в мою сторону. У меня так забилось сердце, что я даже испугался, что упаду. Мама только глянула в мою сторону и сразу отвернулась. Потом будто ее что-то задело, она опять посмотрела в мою сторону. Я стоял в тени, и, наверно, ей плохо было меня видно, и она еще несколько раз посматривала, как будто украдкой, а я словно прирос к месту и не мог сдвинуться. Мама еще раз посмотрела на меня и вдруг встала, но сразу же села опять, как будто у нее подогнулись ноги. Она провела рукой по лицу, тряхнула головой и что-то быстро сказала Долинскому. Он посмотрел в мою сторону, но меня не увидел: я быстро спрятался. Он покачал головой, обнял маму за плечи и стал ей что-то тихо говорить, а она прижалась к нему и положила голову на его плечо. Потом отстранилась, взяла его голову в свои руки и посмотрела ему прямо в глаза. Я это хорошо видел. Я видел, к а к она на него смотрела. Она н и к о г д а не смотрела т а к на отца… А потом… потом она поцеловала его так, как она никогда не целовала отца. И я ушел. Я шел, и слезы капали и капали, и мне было так плохо, как еще никогда не было…
Потом я долго стоял на мосту через Ангару и смотрел в глубокую и прозрачную воду, в которой отражались огни станции. Говорят, что Ангара одна из самых красивых рек в мире. Может быть, может быть…
И вот я стоял и думал. Надо ехать домой к отцу, к Нюрочке, надо возвращаться в класс, надо возвращаться в спортивную школу, надо узнать, как там в Ленинграде живут Юрка и Оля, и Капитанская дочка, – в общем, надо жить…
И кажется, я уже немного начал понимать, что к чему. Хотя, наверно, до конца я так и не пойму всего. Наверно, до конца никто не понимает…
1966 г.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.