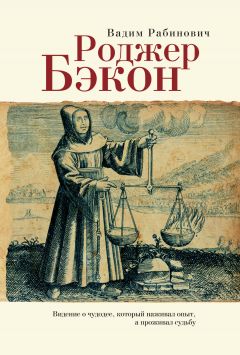
Автор книги: Вадим Рабинович
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Хроники Матфея Парижского
А теперь время Роджера Бэкона, как оно запечатлелось в хрониках событий, которую в монастыре святого Альбана вел монах Матфей Парижский, прозванный так потому, что учился в Париже. Из года в год он вел свои хроники.
Он записал:
«В год от рождества Христова тысяча двести двадцать седьмой и в год царствования своего двенадцатый король Генрих с великой торжественностью отпраздновал рождество в городе Ридинге. По возвращении же своем в Лондон потребовал от жителей этого города и других городов уплаты в его королевскую казну денег, с каждого – пятнадцатую часть от всего движимого имущества и пятнадцатую же часть от всякого прочего достояния…»33
Здесь и далее Хроники цитируются по книге В. Хинкиса «Жизнь и смерть Роджера Бэкона» (М., 1971).
[Закрыть].
«И вскоре же, в месяце феврале, созвал он в Оксфорде Великий совет королевства и объявил перед советом, что отныне не потерпит над собою никакой опеки и важнейшими государственными делами самолично ведать намерен».
Недовольство и ропот. Наступали худые времена. Понуро шли кузнецы. Роджер знал, почему.
Вольный город Оксфорд. Привилегии его записаны в хартии. Все жители – свободные люди. Им пожалованы права…
Но король легко мог нарушить хартию. И – нарушал…
Роджер принимал все это близко к сердцу.
Матвей Парижский записал:
«В год от рождества Христова тысяча двести двадцать девятый и в год царствования своего четырнадцатый Генрих III король Англии отпраздновал рождество в Оксфорде вместе со многими знатными людьми королевства.
В скором после этого времени, как того потребовал папский нунций Стефан, посланный папой римским в Англию, король созвал в Вестминстер епископов, аббатов, графов и баронов. Когда же все собрались, прочитал Стефан папскую буллу, в каковой требовал десятины со всех жителей Англии, Ирландии и Уэльса, дабы мог он и впредь вести войну с императором Фридрихом. Король же, у которого все искали защиты и избавления, ничего на это не сказал, изъявив тем молчаливое свое согласие…
И в том же году, на праздник святого Михаила, король Генрих III собрал в Портсмуте великое войско, имея намерение отвоевать за морем утраченные земли, и приказал садиться на корабли, которые, однако, не могли поднять и половины столь многого войска. Видя это, король в сильном гневе винил во всем верховного судью Губерта, и называл его предателем, и упрекал в том, что ныне он, как и прежде, чинит помехи своему королю».
Десятина была уплачена. В этом году обошлось без войны.
Рыцари готовили доспехи.
Матвей Парижский заносил в хронику:
«В год от рождества Христова тысяча двести тридцатый и в год царствования своего пятнадцатый Генрих III король Англии отпраздновал рождество в Йорке…
В том же году король Генрих у всех подданных своих, а в особенности у церквей и монастырей, много потребовал денег для пополнения своей казны, дабы мог он отвоевать заморские земли. Горожане Лондона и прочих городов, невзирая на вольности свои, великие тяготы нести принуждены были.
И на праздник после пасхи собрал король в Ридинге немалое войско, призвав туда рыцарей со всех концов королевства, и за день до майских календ двинулся с ними в Портсмут, где повелел садиться на корабли.
Прибыв в Анжу с войском, король большие там понес потери и оттуда ушел в Пуату, где захватил замок Мирбо…
Однако, теснимый врагами, отступил к городу Нанту, истощив казну и лишившись войска. Английские же рыцари, издержав деньги в походе, а многие потеряв коней и оружие, от претерпеваемых тяжких невзгод лишались сил и отдавали Богу душу.
И в месяце октябре повелел король садиться на корабли, не добыв славы, и после плавания, полного грозных опасностей, вернулся в Портсмут, напрасно истратив все деньги, а бесчисленное множество рыцарей либо приняло смерть, либо было истощено болезнями и голодом, либо же приведено в полнейшую нищету».
Роджеру издалека война представлялась большой дракой, где спор решался не умом, а силой.
Год начинался плохо. Война разорила Англию, а король роскошествовал и требовал денег…
«В год от рождества Христова тысяча двести тридцать второй и в год царствования своего семнадцатый король Англии отпраздновал рождество в Винчестере, где Пьер де Рош, епископ Винчестерский, устроил празднество пышное и великолепное…
В эту же пору собрались там призванные на Совет королевства магнаты Англии, епископы и многие священники, и король им объявил, что бесчисленными обременен долгами по причине недавних военных походов в заморские земли; и, вынужденный необходимостью, от всех подданных своих требует денежного воспоможения. И тогда граф Честерский Ранульф от лица всех магнатов королевства отвечал, что графы, бароны и рыцари столько денег напрасно издержали, что доведены до нищеты и отчаяния, а по закону платить королю не обязаны…»
Хартия гласила:
«Мы, Иоанн, божией милостью король Англии, властитель Ирландии, герцог Нормандии и Аквитании, пожаловали всем свободным людям королевства нашего за нас и за наследников наших на вечные времена все ниже писанные вольности».
В хартии были слова:
«Никому не будем мы продавать права и справедливости, никому не станем отказывать в них или чинить препятствия».
Хартия не позволяла бросить в тюрьму невинного:
«Ни один свободный человек не будет арестован или заключен в тюрьму, или объявлен вне закона, или изгнан, или иным каким-либо способом обездолен иначе, как по законному приговору равных ему и по закону страны».
Король Генрих не раз подтверждал хартию. Он же не раз нарушал ее. Щедрый на клятвенные обещания. И вместе с тем – двоемысленный и вероломный.
Бесстрастный летописец Матфей Парижский записал:
«В конце месяца июля по наущению епископа Винчестерского Пьера де Роша король повелел Губерту де Бургу не состоять более в должности верховного судьи. И малое время спустя, прогневанный, обвинил Губерта в своекорыстном присвоении денег из его королевской казны, а равно и в убытках, кои потерпел король по небрежению Губертову. И равно во многих поступках ко вреду королевства как в военных, так и в иных делах».
Подумав, летописец добавил к этому:
«Упомянутые обвинения высказаны под влиянием гнева, и враги Губерта были над ним судьями и судили неправедно. Губерт же не однажды столь похвально и с таковой отвагою в ратных делах постоял за короля и королевство, что заслуги его все обвинения достойно отвергают».
И… продолжил:
«Губерт, однако, принужден был тайно и с поспешностью бежать в Мертон, где его укрыли служители церкви. Король же послал туда триста вооруженных рыцарей, повелев схватить его и заточить в Тауэр. Каковые рыцари ворвались в церковь, где Губерт стоял у алтаря, держа крест в простертой руке. Они грубо вырвали у него крест, и повлекли в тесную темницу, и позвали кузнеца, дабы заковал его в цепи. Кузнец же спросил: «Кого это велите мне заковать?» Они отвечали: «Губерта де Бурга». И сказал кузнец: «Помилуй бог! Ни за что не буду заковывать в железа человека, который столько раз спасал Англию от супостатов!»
Матфей Парижский записал:
«Хотя повелел король всем графам и баронам своего королевства быть в Оксфорде к празднику святого Иоанна, они не пожелали ему покорствовать, ибо возмущены были бесчинствами чужеземцев, каковых король дарил милостью, к сраму и унижению для магнатов Англии. Король в великом гневе призывал их дважды и трижды, они же ответствовали через гонцов, что не явятся, доколе не будут чужеземцы удалены от двора».
Записал:
«В том же году брат Роберт Бэкон из ордена проповедников в городе Оксфорде перед королем и епископом Винчестерским проповедовал слово божие и прямо сказал королю, что никогда не будет на земле английской мира, доколе не удалит он от себя помянутого епископа. Король же отнюдь не прогневался, но, напротив того, милостиво склонялся сердцем своим внять гласу разума. И тогда, видя, что он смягчился, случившийся при дворе ученый человек, прозываемый Роджер Бэкон, спросил в остроумных и шутливых словах, однако же смело, с негодованием: «Государь, что всего опаснее и страшнее для плывущего через бурное море к берегу?» Король отвечал: «Про то ведают странствующие и путешествующие по большим водам». И тогда молвил королю этот человек: «Государь, я скажу: всего опаснее скалы и утесы».
Матфей Парижский продолжил:
«В год от рождества Христова тысяча двести сорок третий и в год царствования своего двадцать восьмой король Англии о рождестве бездеятельно пребывал в Бордо. И дабы не было напрасной потерей времени, повелел король войску идти к монастырю, Веррине именуемому, и помянутый монастырь штурмом взять».
«И в том же году король Франции Людовик повелел собраться знатным людям своего королевства, и когда все собрались, епископ Парижский, при котором король, когда был у врат смерти, клятвенно обещал, если исцелится, принять крест и идти походом в святые земли, сказал так: «Государь, откажись от крестового похода, ибо без тебя по всей Франции произойдут смуты. Ведь был ты тогда недужен и собой не владел»». И о том же просили короля его мать и братья. И сказал король: «Быть по вашему желанию» – и отдал крест помянутому епископу. И все возликовали, а король, мало помедлив, сказал гневно: «Теперь же владею рассудком своим и памятью, и потому отдайте мне крест господа моего Иисуса Христа». И принял крест наперекор всем стенаниям…»
Шел год тысяча двести пятьдесят третий.
Матфей Парижский записал:
«Пребывая на одре смерти, Роберт, епископ Линкольнский, призвал к себе брата Иоанна из ордена проповедников, искусного в медицине и сведущего в богословии, и помянутого брата, а равно и прочих монахов сурово упрекал за то, что многие проповедники и минориты не соблюдают добровольно бедности, и пороки их порицал со строгостью… Немало горьких истин сказал епископ, тяжко больной и умирающий, о собратьях своих, недостойных церковнослужителях.
Был он правдивый изобличитель пред папой и королем, смелый обвинитель возгордившихся священников, гроза порочных монахов, наставник и друг своих учеников, проповедник пред народом, бичеватель алчных и жадных. Был он в жизни щедр, красноречив, добр, благосклонен и приветлив. А в делах духовных ревностен был, и скорбен, и сокрушен сердцем».
«При наступлении августовских календ была ночь ясна и воздух прозрачен, и то тут, то там срывались с неба звезды, низвергались вниз с дивной стремительностью и в таком множестве, что если бы все они воистину были звездами, ни единой звезды не осталось бы на всем небесном своде».
«В год от рождества Христова тысяча двести пятьдесят восьмой и в год царствования своего сорок третий Генрих король Англии отпраздновал рождество в Лондоне с великой пышностью и торжественностью…
А весной созван был в Лондоне парламент, и потребовал король на свои расходы незамедлительно столько денег, что никак нельзя было их выплатить без конечного разорения баронов и всего королевства.
Долговременны были споры между королем и магнатами, и всякий день множились против короля упреки, что не исполняет свои клятвы и нарушает Великую хартию вольностей. В особенности же Симон, граф Лестер, говорил с негодованием, порицал короля, а равно всех приближенных к нему чужеземцев и требовал справедливости. Главное же, изобличал он короля и винил в том, что король всех чужеземцев обласкал и милостями осыпал, английских же своих вассалов ограбил и обездолил, к разорению всего королевства, так что даже столь ничтожного и презренного врага, как валлийцы, англичанам одолеть не можно. И закончил речь на том, что нельзя королю столь много злоупотреблять своею властью. Король же на то отвечал, что признает правоту помянутых прежде упреков, и со смирением обещал клятвенно у алтаря, что прежние несправедливости свои наивозможным образом искупит и впредь милостив будет к английским своим подданным. Но поскольку прежде попирал он их права многократно, магнаты в правдивость слов королевских не поверили и не ведали, как поступить впредь, ибо дело было важное и многотрудное, а потому порешили его отложить и собраться парламенту в Оксфорде перед праздником святого Варнавы. Тем временем, самые знатные магнаты Англии, графы Глостер, Лестер и Герефорд, и прочие, дабы себя надежно оберечь, объединились, ибо весьма опасались козней и подвохов от чужеземцев, от короля же ожидали всяческого коварства, и собрали большое конное войско».
Вместе с чумой начался голод. Матфей Парижский записал старческой рукой:
«В том же году свирепая и страшная чума посетила Англию, а в особенности простых людей, и этих несчастных поражала смертной погибелью. В городе Лондоне умерло уже пятнадцать тысяч бедняков. И еще был в Англии голод, и многие тысячи человек через то смерть приняли. А по причине беспрестанных дождей таковой был недород, что во многих местах королевства вовсе никакой не сняли жатвы».
Матфей Парижский был дряхл, ехал вслед за королевской свитой, вез с собой пергамент, и у пояса у него была чернильница, а за ухом перо. И он записал:
«На праздник святого Варнавы магнаты и прочие знатные люди королевства поспешили в Оксфорд, где надлежало собраться парламенту, при оружии и в готовности оборонить себя от врагов, ибо опасались нападения валлийского войска, а также немало тревожились, как бы из-за раздоров не произошла междоусобная война и король со своими родичами из Пуату не призвал на подмогу чужеземцев против своих английских подданных. Имея таковую опаску, озаботились магнаты послать подкрепления во все морские порты. Когда же собрался парламент, стояли магнаты твердо на своем и требовали, дабы король Великую хартию соблюдал неукоснительно и безотменно, коль скоро Генрих хартию многократно подтверждал и соблюдать клялся. А сверх того требовали, дабы было им предоставлено самим выбрать верховного судью, каковой оказывал бы справедливость обиженным, равно богатым и бедным. Кроме того, хотели они ведать и другими важными делами к общей пользе, миру и чести королевства. Помянутые решения и определения они с настойчивостью убеждали короля принять, объявив, что скорее лишатся всех земель своих, и достояний, и даже живота своего не пощадят, а на том будут стоять непоколебимо. Король же дал согласие и поклялся твердо все предложенное принять, и таковую же клятву принес сын его Эдуард. Однако воспротивились этому родичи королевские из Пуату и прочие иноплеменники…
Магнаты же, подождав несколько времени, собрались вновь в обители братьев-проповедников, где торжественно подтвердили свою решимость не щадить живота, дабы королевство, в коем они рождены, от иноплеменников и зловредных людей очистить и для общего блага законы учинить. А кто станет противиться, тех принудят силой. Ибо принц Эдуард, хоть и поклялся, готов был от клятвы своей отречься, и Генрих, сын германского короля, и граф Вильгельм из Валанса, и прочие чужеземцы заверяли клятвенно, что никогда не отдадут землю и замки, каковые король милостью своей в Англии им пожаловал. На это сказал граф Лестерский Вильгельму из Валанса, разумея также других спесивцев: «Сам знаешь прекрасно, что либо отдашь замки, либо не сносишь головы!» И прочие графы и бароны произносили таковые речи. Чужеземцы же, устрашась, бежали прочь с великой поспешностью, а в пути часто приказывали слугам подниматься на высокие башни и смотреть, не гонятся ли за ними бароны. Так, претерпевая страх, добрались они до Винчестера, где уповали обрести защиту. Бароны же тем временем избрали верховного судью, англичанина по рождению, человека благородного и доблестного, а также изрядно сведущего в законах королевства, Гугона Бигода, брата графа Маршалла, дабы должность свою с неколебимостью исполнял и не допускал совершаться несправедливостям. Когда же стало баронам ведомо о бегстве чужеземцев, поняли они, что медлить не до́лжно, ибо Винчестер к морю близок, и коль скоро к чужеземцам подоспеет подмога, как бы не учинилось от них нападения с тыла. А потому, вскочив на коней, бароны ускакали, и на том порешился парламент в Оксфорде, и предпринятое содеялось с немалыми тяготами».
Накануне Рождества Матфей Парижский оглянулся на прожитый год, прежде чем внести в хронику итоги. Он написал:
«Вот истек этот год, на все предыдущие не похожий, принесший чуму, голод и смерть, дожди, недород и смуты. Люди бедствовали и умирали с голоду, и такое множество народу приняло смерть, что покойников сваливали кучей в одну яму. Не было жатвы на полях, и простые люди имущество свое продавали и покидали пустую землю целыми семьями, не имея надежды, каковой могли бы утешиться в отчаянности. И если не будут куплены за морем хлебные припасы, нельзя усомниться, что погибнет Англия, оставленная на произвол судьбы».
А в следующем году хроника обрывается – из-за смерти летописца монаха.
Типажи
«Видение Уильяма о Петре Пахаре» Уильяма Ленгленда – один из выдающихся памятников европейского средневековья, ярчайшее явление литературной и политической жизни Англии XIV столетия. Глубоко народный, воинствующе антиклерикальный характер «Видения» делает это произведение актуальным и в наши дни. Здесь публикуется (с некоторыми сокращениями) мой стихотворный перевод «Пролога» поэмы.
Почему спустя столетие после Роджера Бэкона целесообразнее представить время нашего героя типажами XIV века, а не исконного XIII?
В условиях консерватизма английской истории вообще (и средневековой в частности) социальные типажи за столетия не только потускнели, а, напротив, – сделались действительно хрестоматийными. Так творится история – вечно актуальная вопреки так называемому прогрессу, не отменяющему уроки истории, поучительные назидания прошлого.
Это именно типажи XIII столетия, хотя и пришедшие в XIV век с его недавней памятью по веку минувшему.
Потому что это живая литература, выразительно запечатлевшая чувство и мысль народных еретических движений своей страны и своего времени. «Чёрная смерть», или чума, обнищание крестьян, бесчинства придворной клики, разложившееся францисканское братство… Совсем близко – восстание Уота Тайлера. Книга восставших. Запретное, но дорогое чтение.
Социально-нравственный темперамент поэмы направлен не на ниспровержение основ средневековой жизни, а на восстановление начальной чистоты этих основ, что особенно противно имущим власть. Не такой ли Роджер Бэкон?
«Видения» – ходовой жанр тогдашней литературы. Он позволяет в сиюминутном полнокровии настоящего и недавнего прошлого лицезреть чаемое будущее, быть которому вечно светлым и никаким иным. Настоящее же – мерзкое и отвратительное – встраивается в сюжет сна и потому как бы становится литературно дозволенным; но зато обретает очертания всеобще значимых форм зла в единоборстве с добром.
Это поэма надежды, ставшая живым народным переживанием в своем времени и в своей стране.
Порою летнею, когда
Полдневный жар пылал,
Посконь худую я тогда
Веревкой подвязал.
Пустился по́ свету гулять
С сумою на плечах,
Не прочь о том, о сем узнать
И прочих чудесах.
И вот воздвигнулся пред мной
Холмов Мальвернских ряд.
Реке с красивою волной
Я был безмерно рад.
Воды попив, я сей же час
Взглянул на небеса.
Взглянув, оторопел: сейчас
Начнутся чудеса…
Вот уж и веки смежены.
Сокрыта явь. Взамен
Пришли видения, темны,
Из глубины времен…
Народу всяческого тьма.
Разноголосый люд.
Бедняк, богач, торгаш, монах,
Гордец и лизоблюд.
С кого начать нелегкий путь
Рассказа? – Бог поможет
Начать с кого: с кого-нибудь
Иль с кой-кого, быть может.
Итак, начнем. А ну, держись! –
Болтун, бездельник, лжец.
На трутня этого всю жизнь
Работал бедный жнец.
И пахарь за него пахал,
Возделывал поля,
Чтоб распевал бы сей нахал
Беспечно «тру-ля-ля»…
Но – слышишь? – озорная трель,
Как тополиный пух
Легка. Как славно менестрель
Ласкает песней слух!
О, мимолетная печаль!
О, ранняя весна!
Такому денежку не жаль, –
Лови монетку, на!
А вот иудин сын – жонглер;
И шут, с жонглером присный:
Напудрен, бледно-синь, шустёр…
Ах, чтоб им было кисло!
Созданье божье – человек,
А шут его навыворот.
Так и живет он весь свой век
С коленцами да с вывертом.
Скажу ему, пристойн и хмур:
«Живи согласно правил».
«Qui turpiloquim loquitur44
Справедливый; милосердный (лат.).
[Закрыть], –
Учил апостол Павел, –
Тот предан дьяволу вполне
И с Вельзевулом дружен,
Поскольку нужен Сатане,
А Господу не нужен»
Шныряли попрошайки тут,
Тряся набитым брюхом,
Но притворялись, что живут
Не пищею, а духом.
Лишь ниспадала тьма, в кабак –
И в дребадан, как зюзя.
Кто потрезвей, сучил кулак,
Дубася и валтузя
Друг дружку… Но чуть свет, зарей,
Робе́ртовы ребята
Брели с протянутой рукой
Туда – потом обратно.
Ни пенса им! Но щедр народ.
Смурны и толстозады,
Из года в год, из рода в род
Живут задаром – гады.
Но перейдем к иным вещам.
Скажу о пилигриме,
Сподобленном святым мощам,
Захороненным в Риме.
Всем встречным важно говорил,
Крестясь ежемгновенно:
«К святому Якову ходил,
К его мощам нетленным…»
А был иль нет? – Далек Грааль.
Поди проверь попробуй!
Короче: перед нами враль,
На коем негде пробы
Поставить… Слушай да кивай,
Но про себя держи:
Как плохо с правдой ладит враль,
Топя ее во лжи.
Хромал в Уолсингем с клюкой
Монах. Но под аскезой
Скрывался бабник молодой,
Шалавый и скабрезный.
Тащилась девка по пятам,
Лохматая лахудра, –
Одна из тех всеобщих дам,
Которую нетрудно.
Жила там нищая братва.
И, по миру кочуя,
Крутила так и сяк слова,
Евангелье толкуя.
Вертела слово так и сяк,
Пускаясь в шуры-муры:
De facto – сяк, de jure – так
(С учетом конъюнктуры)…
Надменный лорд, богатством горд,
Спешит к монаху нищему.
И открывает душу лорд,
Как самому всевышнему.
Взамен расплатится вельми
С монашескою братией…
Ах, эта святость – черт возьми! –
Гнилой аристократии!
Не худо бы, чтоб минорит
Был с церковью – одно.
(Так бочка трепетно хранит
Во тьме своей вино.)
А нет – не оберешься ссор
И свар: монах и клир
Устроили вселенский ор,
Мутя крещеный мир.
Продажа индульгенций шла
Вон там, за бугорком:
«Эй, ты, заблудшая душа, –
За серебром бегом.
Ну, а за грех, что покрупней, –
Гони златую брошь!» –
«Ах, индульгенщик, ах, злодей,
Не много ли берешь?!» –
«Не много… Сам епископ мя
Послал вас тут прощати.
Вот, видишь, булла у меня,
Скрепленная печатью…
Господь прощал, прощу и я,
Возлюбленные чада…»
Кружилась голова моя
От мерзости и чада.
Но запах гнили и трухи
Сходил за запах мирра.
И все прощенные грехи
Легки, невинны, милы
Уже казались. И душа
На небе на седьмом…
Продажа индульгенций шла
Во-он там, за бугорком.
Меж тем торговец – чтоб он сдох! –
И приходской священник
Жирели, ставя в уголок
Мешки народных денег.
Ну, а мирянин все нищал,
Зато душой и телом,
Как первобытный, ликовал
И был доволен в целом.
Редеет паства. Смерть – в дома,
Как по ветвям топор.
Идет по Англии чума,
То бишь великий мор.
Алтарь поблек. Мирянин сир.
Истаяла свеча.
На бедность жалуется клир,
Епископу строча.
Он в Лондон просится служить,
Где, чем безумней власть,
Тем беззаботней можно жить,
Бездельничая всласть,
И где витийствует магистр,
С тонзурой на башке,
На кафедре – в движеньях быстр –
С Евангельем в руке…
Вы мне противны, господа,
Что молитесь бездушно.
Молиться ж надобно всегда
Светло и простодушно.
Дни страшного суда страшны
Угрозой инфернальной
Тем, кто молился без души
И веровал формально.
Здесь вспомнить самый раз Петра,
У входа в рай стоящего
На страже вечного добра
Для устрашенья вящего.
Там держат на запоре дверь
Четыре добродетели
(Беру – а хочешь, так поверь, –
Евангелье в свидетели).
А добродетели Петра
Зовутся кардинальными.
А учредители добра
Зовутся кардиналами.
А кардиналами они
Посредством шуромурии
Себя же сами нарекли
При папской синекурии.
Избранье папы, знаю я,
Есть кардиналов дело.
Но… умолкаю я, друзья,
Превысивши пределы
Того, что дозволяют нам
Мирские полномочья…
Все, что уже сказал я вам,
Будь сказано не к ночи…
Пусть праведная жизнь течет
В Честь и во Славу бога.
Кто много трудится, – почет.
Позор – тем, кто немного…
Сверчок-сверчок! Знай свой шесток,
Как в церкви прихожане!
За уголок. В кусток. Молчок.
Беды во избежанье
Откуда ни возьмись, дурак
Пред государем – ниц.
Нескладен, тощ. Безумный зрак —
Углем из-под ресниц:
«Храни Господь тебя! Будь мил
И щедр на подаянья,
Чтобы народ тебя любил
За добрые деянья!
Ты с богом дружбы не теряй
И не якшайся с чертом,
За что, как говорится, в рай
С почетом да с эскортом».
Но вдруг возник сам Шестикрыл.
Он, с ликом утонченным,
Латинской речью говорил,
Доступной лишь ученым.
В латыни слабоват, и все ж
Я на язык естественный
Переложу тот элоквёж,
Зарайский и торжественный…
«Будь с подчиненными хорош,
Как бог наш: justus, pius.
Что проку в том, что толстокож,
Хотя и справедливус?!
Про Милосердье не забудь, –
Иначе в рай не пустюс.
Сначала esto pius – будь!
И только после – justus».
В ответ презренный Голиард,
Словесная каналья,
Призвал свой маломощный дар
И проорал, скандаля:
«Покуда властвует король,
Всяк жест ему дозволен.
От всех советов наш король
Да будет впредь уволен!»
Тут вся община, осерча,
За короля вступилась.
Она ярилась, топоча,
И, гогоча, глумилась…
Но что это? – Скорей всмотрись! –
Достиг моих ушей
Почти что конский топот крыс,
Писк полевых мышей.
Сомкнул глаза и слух замкнул.
Но тщетно! Понял я:
Кричать нет смысла «Караул!»
И улизнуть нельзя.
Вот здесь я вынужден прервать
Повествованье днесь,
Поскольку крыс не сосчитать
Да и мышей не счесть.
Свободу дав своим ушам,
Я очень ясно слышал,
Что крысы говорят мышам,
Что отвечают мыши…
«Мы жаловались. Хватит с нас
Стенаний понапрасных.
От жалоб этих вражий глаз
Горит еще опасней.
Безжалостен, коварен, горд
Наш супостат мохнатый.
О, кот! Жестокосердный лорд!
О, крысоед проклятый».
Но тут усатый старый крыс,
От хитрости бледнея,
Упитан, хмур и белобрыс,
Сказал-таки идею:
«В столице, помнится, гулял
По липовой аллее.
Гуляя, лорда повстречал
С цепочкою на шее.
И если на цепочку ту
Повесить колокольчик,
То слышен будет за версту
Тот самый колокольчик.
Когда б ту цепку на кота
Напялить ухитриться,
Такая вышла б лепота,
Что было б чем гордиться!
Кто шел бы, а звонок бренчал,
А колокольчик тенькал.
И малой мышки б не поймал
Ни за какие деньги
Злодей. Клянусь Христом, смогли
Мы б загодя услышать
Его бесшумные шаги,
Хотя бы и на крыше…
Услышав звон, хитры, умны, –
С разбойной прочь дороги.
По норам разбежимся мы
Так, что подай бог ноги».
Так кончил крыс. И в миг исторг
Аплодисментов бряк,
Приведши в бешеный восторг
Крысиный молодняк.
Идея по душе пришлась.
Теперь за малым дело:
Ошейник сделать; изловчась,
К врагу подкрасться смело;
Подкравшись, взять да и надеть
Ошейник на кота…
Но ведь от страха умереть
По манию хвоста
Вполне возможно. О зубах
Уже не говоря,
Но нет героев среди крыс,
Короче говоря…
«А может быть, убъём его,
Проклятого врага?
Или живьём возьмём его,
Раз шкура дорога?»
Но, выбежав из-за куста,
Сказала мышка тут:
«Что толку убивать кота?
Другого ведь пришлют!»
Замечу в скобках: старый кот
Надежней, чем котёнок,
Страну который поведёт
В потёмки из потёмок.
И наша темнота темна.
К посконной, домотканой
Привыкли мы. И не нужна
Взамен от века данной
Парижская чужая ночь.
Чем хуже наша ночка?
Ах, мысли дьявольские, прочь!
Изыдите! И точка…
«Пускай уж будет всё, как есть,
Как встарь заведено,
Кот будет нас прилежно есть,
Мы ж будем грызть зерно!»
Когда бы не было кота
(Разумный, согласись!),
Отбою не было б тогда
От неразумных крыс.
Прогрызли б все они до дыр,
До тела б добрались,
Такой бы закатили пир,
Что только берегись!
Крысиный пир кровав и дик!
Крысиная тоска!
Как хорошо, что и на них
Управа есть пока!
Ах, снова разошёлся я!
(Далече в поле слышно.)
Смолкаю, милые друзья
(Как бы чего не вышло)…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































