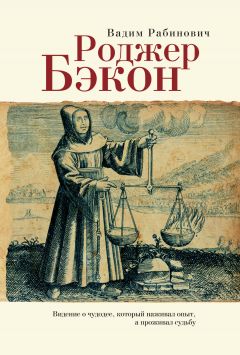
Автор книги: Вадим Рабинович
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Здесь я отсылаю читателя к работам В. С. Библера, выдвинувшего и развивающего приобщающий алгоритм средневекового мышления. Принцип, долженствующий схватить диалектику этого мышления, его глубинную противоречивость. При этом антитезами в предельной разведенности выступают оппозиции мощь – немощь, бытие – небытие, многообразно переформулируемые при соприкосновении с различными содержательными пластами многослойной европейской средневековой культуры. Движение в этой оппозиции возможно лишь в том случае, если субъект, впадая в ничтожество и нищету, обретает всемогущество, живя и действуя во имя. Но бог мыслится как идея субъекта. Поэтому, полагая беспредельное, он сам не является беспредельным. На этом пути совершается коллективное соборное дело индивидуального приобщения – причащения – к всеобщему субъекту, самораскрытие в человеке личностных его потенций. Даже сам бог в этой системе рассуждений живет таким вот антитетическим образом. Средневековый схоласт правомочен спросить: «Может ли бог сотворить такой камень, который сам не может поднять?» Сама возможность, как остроумно отмечает Библер, божеской немощи только и делает его человеком (то бишь богом) – всесильным и всемогущим – христианского средневековья. Быть противопоставлено не быть, бытие – небытию, но не по принципу антонимической пары – иначе. Вытеснение вещественной телесности, то есть как будто вытеснение бытия вещи и погружение ее в небытие, оборачивается не небытием, аннигилирующим вещь, а как раз максимальным бытием именно в силу причастности к богу. Он-то и мыслится как всецело существующий, как наиконкретнейшая личность. Все остальные – ученики, готовящиеся стать учеными людьми, обученными божественному слову о вещи, о всех вещах мира. Возможно и обратное движение антитетической, приобщающей мысли: от не быть к быть. Разумеется, это лишь схема, обедненная столь кратким ее пересказом. Но важно обратить внимание на самое суть дела. Ученое всезнание о словах – ученое незнание о вещах и их смыслах, в это знание не вместимых вопреки ученым чаяниям учителей и учеников, книгочеев и толкователей, наставников и комментаторов.
Особенности мышления средневекового человека обеспечивают манипулирование со словами как с вещами, а не с самими вещами, но во имя и ради постижения сокровенного смысла, призванного явиться в книжном слове, но слове, замешанном на личном опыте Мастера-учителя. Этим смыслом может быть и запредельный смысл природного, естественного, как мы бы сказали сейчас, объекта. Но данный раз и навсегда. Божий мир… При этом исходным предстает космология Ветхого завета, являющегося первой записью творческого слова бога, сотворившего мир. Именно это слово становится предметом многоразличных толкований. Умение же толковать это слово – определяющий признак средневековой книжной учености, оказавшейся, как и должно, один на один с текстом. Все это известно и почти очевидно. Но показать это нужно.
Мир, данный в тексте Писания, представлен как запись творческого Первослова. Буквальное толкование текста – это предметный указатель священной книги. Последующие способы толкования – способы формирования все более высоких уровней, если можно так выразиться, ноосферсловосфер средневековья: духовное, аллегорическое (в контекстах Ветхого и Нового заветов в отдельности), нравственное, анагогическое толкования. Примечательно то, что инструментом толкования выступает слово еще более значимого (для христианской средневековой культуры, конечно) текста – слово Нового завета. В результате явления мира предстают как цепь подобий, восходящих к высшему – исходному – прототипу; но также светятся и собственным светом, свидетельствующим о Свете божественном. Слово толкующее, пройдя искус комментирующих преобразований, в конце собственного пути, ученой своей жизни оказывается избытым, сознательно и преднамеренно волею книжника – схоласта и школяра – слитым с божественным Первословом. Откуда изошло, туда и вернулось. Слова толкований по ходу дела уплотняются, становясь реалистическими сущностями социального мировыявления и нравственно-этического, и потому, конечно, тоже глубоко социального, самовыявления. Природные объекты шестидневной рабочей недели бога возвысились до хорошо откомментированных объектов словесных – тоже, конечно, предметных, но по-другому.
Средневековая культура – культура текста. Погружение в потемки текста оказывается погружением только до середины, ибо дальнейшее погружение – путь к его поверхности. Суть дела оборачивается сутью слова, самим словом – первой и последней инстанцией средневековой культуры. Культура текста. Ученость текста. Комментаторская культура – комментаторская ученость. Книжная культура – книжная ученость… Ученый комментатор, произносящий слово о слове, обращенное к слову. А мир – за этим словом, хотя и должен в ученом слове и предстать. Должен. Но сможет ли?..
Слово о слове, о смысле мира отделило средневекового ученого человека от самого смысла этого мира, а призвано было для прямо противоположного: сказать в слове смысл этого мира; научить сказать.
Но мир есть. Вот он тут. Рядом. Совсем близко. Вокруг. Внутри и везде. Подходы к нему пока перекрыты. В принципе, но не в будничной действительности конкретных к нему прикосновений.
Лазейки к миру физических объектов были, есть и будут. Непроницаемая субстанция слова оказывается все же осмотически покладистой, прозрачной для нормального средневекового глаза. Возможности выйти к вещному миру и рассмотреть его запечатлены в средневековых текстах, всегда замешанных тем не менее на чуде. Почему?
«Необычайное и чудодейственное» и есть момент, разжигающий неистребимое любопытство к природе, пусть даже и заведомо санкционированной в своей раз и навсегда данности в качестве иллюстрации божиего закона, постигаемого во всяком случае не исследовательским образом. Но воспринять чудо может лишь тот, кто личной своей жизнью, сам волевым образом приготовил себя для восприятия чуда. Просто так, как снег на голову, чудо не снизойдет – на первую попавшуюся голову не свалится. Труды и дни Роджера Бэкона – тому пример.
Признание за природой ее «собственной консистенции» (Гильом из Конша, Аделард Батский) – скорее тупиковые развилки, чем прямой путь. Но иметь это в виду следует. Душа природного мира – до поры выражает волю божью, а не полнится собственной естественной силой.
Вот он – мир вещей, яркий, многоцветный, звучащий. Радуйтесь ему и живите!
Гуго Сент-Викторский говорит: «Рассмотрение вещей не наносит вреда благочестию. Эти вещи подобны жилам, по которым незримая красота притекает к нам, обнаруживая себя».
Но сами эти вещи – каждая! – есть красота зримая. Рассматривайте и любуйтесь!
Мир вещей легко и свободно перетекает в мир сакральных значимостей. И наоборот. И все-таки этот мир – перед глазами. А значимости этого мира – на слуху. Не отсюда ли пантеизм в духе св. Франциска у Р. Бэкона как законопослушного францисканца?!
Что видят глаза, рассматривающие, скажем, обряд посвящения в рыцари?
На посвящаемом белая рубаха, полотняная или шелковая: это знак чистоты. Алое сюрко – кровь во имя церкви. Коричневый шосс и белый пояс – «незапятнанность чресел». Навершие меча выполнено в форме креста. Клинок о двух лезвиях – стойкость и верность, столь необходимые для слабого и бедного…
Вещно-колористическое наставление, предметный урок верности и чести. Вещный ряд и ряд значимостей сведены для глаза; разведены для ума (слово на слуху). Непроницаемый, но прозрачный экран. Слово о вещи и сама вещь в ее священной осмысленности. Но вещь сработана как вещь, а осмыслена в слове, знаке, «понятии-категории», образующих, формирующих мир внеприродных сакральных значимостей.
Итак, учительство и ученость… Эти понятия влекутся друг к другу, но и отторгаются: ученость ориентирована на знание, учительство – скорее на показ. Но знание хочется преподать, а вид оставить как есть. Действие и слово. Книжник и человек жеста. Невозможность совместить? А мысль мучается, томится по средостению: ученый Учитель (?)…
Как же все-таки поступить со всеми этими пластами материала, представленными на предшествующих страницах и как будто уже подготовленными для монтажа?
Следуя средневековой методе, то есть опираясь на авторитетное слово, воспроизведу несколько высказываний Осипа Мандельштама, которые должны отграничить межевыми флажками предметное пространство предстоящего вдумывания – навести, так сказать, на смысл.
«Наше понятие учебы так же относится к науке, как копыто к ноге, но это нас не смущает». Это наше понятие учебы. В средние же века – скажу вновь – учеба как раз и была наукой, может быть, единственной наукой, потому что именно в сфере научения созидались лично выверенные и лично примеренные, внове изобретенные учительско-ученические приемы ради последних смыслов – последнего Смысла, лежащего за пределами всех слов и всех текстов, но замысленных ради этого священного смысла. Слово о слове. Текст о тексте. А за текстом – вновь текст. И так в самые глубины. А на самом дне – этот самый единственный смысл-тайна, который до поры нем и безвиден. Но в чаемом пределе он, этот смысл, плотен как мир и ярок как свет (божественное Первослово). На излете всех и всяческих приемов во имя… Такой вот оглашённый словом смысл – и в самом деле ничто, но такое Ничто, которое чревато Всем. И потому всё ради него одного. В связи именно с этим:
«Для меня в бублике ценна дырка. А как же быть с бубличным тестом? Бублик можно слопать, а дырка останется. Настоящий труд – это брюссельское кружево, в нем главное то, на чем держится узор: воздух, проколы, прогалы».
Слово – бублик или дырка от бублика? А смысл – дырка или бублик? Сфера средневековой учености – слово и потому для средневекового книгочея оно – бублик (а смысл – дырка). Так ли? Нет, конечно же! Слово – дырка. Проколы, прогалы. Смысл навылет. Святая вода сквозь пальцы. Для ученого эпохи НТР – вещь, в коей смысл – и дырка, и бублик. Знание о вещи призвано вытеснить все дырки незнания, оставив лишь сплошной бублик: блин – в конечном счете – абсолютного, исследовательски добытого знания. Но ка́к плетение све́тов и воздухов кружев средневековых диспутаций стало сукнодельческим ткачеством для тепла и одежды в нынешний научно-практический век? Как все это случилось? Но прежде спросим: зачем, собственно, нужна такая ученость, которая только и делает, что занимается дыркой от бублика и воздухом от кружев, да и то скорее разговорами о них, чем ими самими? Спросим и ответим: тоже для тепла и одежды, но только для одежды и тепла, согревающих и прикрывающих скорее душу, чем тело.
«Европа без филологии… это цивилизованная Сахара, проклятая богом, мерзость запустения. По-прежнему будут стоять европейские Кремли и Акрополи, готические города, соборы, похожие на леса, и куполообразные сферические храмы, но люди будут смотреть на них, не понимая их, и даже скорее всего станут пугаться их, не понимая, какая сила их возвела и какая кровь течет в жилах окружающей их мощной архитектуры».
Вот что такое остаться без филологической культуры, культуры текста – словесной учености средневековья. Но что такое быть только со словами, когда живая память этой учености омертвевает – спустя века – в блёклом мышлении эпигонов. Тогда живое слово средневекового словолюба становится муляжом слова из правдивой истории барона Мюнхаузена о замороженных словах. Все дело в том, чтобы не опустошить слово – не вынуть из него душу.
«По существу, нет никакой разницы между словом и образом. Символ есть уже образ запечатленный, его нельзя трогать. Он не пригоден для обихода, как никто не станет прикуривать от лампадки. Такие запечатанные образы тоже очень нужны. Человек любит запрет, и даже дикарь кладет магическое запрещение, «табу!», на известные предметы. Но, с другой стороны, запечатанный, изъятый из употребления образ (то есть символ. – В. Р.) враждебен человеку, он в своем роде чучело, пугало… Все преходящее есть только подобие. Возьмем к примеру розу и солнце, голубку и девушку. Для символиста ни один из этих образов сам по себе не интересен, а роза – подобие Солнца, Солнце – подобие розы, голубка – подобие девушки, а девушка – подобие голубки. Образы выпотрошены, как чучела, и набиты чужим содержанием. Вместо символического леса чучельная мастерская.
Вот куда приводит профессиональный символизм. Восприятие деморализовано. Ничего настоящего, подлинного. Страшный контрданс «соответствий», кивающих друг на друга. Вечное подмигивание. Ни одного ясного слова, только намеки, недоговаривания. Роза кивает на девушку, девушка на розу. Никто не хочет быть самим собой».
Но точно так можно сказать – и говорят – про средневековье, если только не знать, что солнце, роза, голубка и девушка значили для средневекового глаза многое, если не все: они есть – были – сами по себе: видимые, зрительно и на ощупь воспринимаемые роза, голубка и девушка (да и Солнце – в его светлости и теплости). Правда, ученый человек, в той мере, в какой он ученый, учил слова об этих вещах и учил других этим словам ради, как он думал, постижения смыслов этих слов-вещей. Но в той мере, в какой он человек, – он знал и любил предметы вещного мира. Поэтому-то и для него слово отнюдь не было чучелом. Оно было живое, потому что… и так далее. Слово-чучело – для поздних времен (если в контексте Мандельштама, то для литературно-манифестированных символистов). От слова-образа к слову-чучелу – ярлыку. В контексте же новой науки – перспектива иная: исследование сущностей (вместо слов-приемов во имя…). И тогда только Солнце – пятна на нем, только эта роза, только вот эта девушка. И только. Но в чем секрет этого великого перехода (преобразования, трансмутации-преобразования), перехода от… к…? Ответ не ясного, мреющего.
Для средневекового христианина «и слово-плоть и простой хлеб – веселье и тайна». Средневековый книжный человек выбрал, конечно, свое, но оставшимся (вместе с выбранным) продолжал жить. Всецело. Вот почему жизнь текста осуществлялась текстом этой поразительной жизни – жизни этого самого книжного человека. Для удобопреподаваемости-передаваемости тому, кому это нужно. Вот этот разъясняющий пассаж:
«К чему обязательно осязать перстами? А главное, зачем отождествлять слово с вещью, с травой, с предметом, который оно обозначает?
Разве вещь хозяин слова? Слово – Психея. Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещность, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела».
«Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело»
(Тютчев)
Все это сказано о слове, которому внимал просто человек средних веков. А книжный человек внимал тоже, но и слагал из слов ученые свои приемы ради выражения и выявления воочию и на слух священного смысла. На разные лады толковал, любовно различал, морфологически расчленял, контекстуально комментировал в конечном счете и тем самым сводил его к Первослову – священному Писанию. Сводил, а думал, что действительно сведет. Не давал свести живой предмет – всецело значимый, хотя и мгновенный. А может быть, как раз потому, что мгновенный?.. Разноречие неизбежно вело к разномыслию, но уже по поводу предельного (запредельного) смысла, ради которого было слово о смысле и сам смысл. Человек буквы мог стать человеком мысли и чувства, когда слово-символ – Психея, а слово-прием – обездушенное тело. Но его вот-вот найдет слово-смысл-душа и, может быть, вернется… Неожиданно?
«Логика есть царство неожиданностей», хотя лично и волевым образом подготовленных; каждым по-своему. Неповторимо. Как ни у кого. Явление чуда, но лишь тому, кому надо – кто заслужил.
«Средневековье, определяя по-своему удельный вес человека, чувствовало и признавало его за каждым, совершенно независимо от его заслуг. Титул мэтра применялся охотно и без колебаний. Самый скромный ремесленник, самый последний клерк владел тайной солидной важности, благочестивого достоинства, столь характерного для этой эпохи. Да, Европа прошла сквозь лабиринт ажурно-тонкой культуры, когда абстрактное бытие, ничем не прикрашенное личное существование ценилось как подвиг. Отсюда аристократическая интимность, связующая всех людей… Нет равных, нет соперников, есть сообщество сущих в заговоре против пустоты и небытия.
Любое существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя…»
Личное, уникально-свое и всехнее, коллективно соборное. Единичное – всеобщее. Лично-ученое (возможно ли такое?) дело во имя и ради… уникально-неповторимый Иисусов смысл, должный быть опознанным этой всеобщешкольною книгочейской ученостью…
Я пытался ограничить поле действия средневековых книжно-ученых сил, а ограничив, наметить в квадрате этого поля канву мысли, по которой можно будет расшивать дальше. Но прежде несколько тезисов, связь которых должна подчинить себе последующее движение мысли в материале. А если подчинит, то тогда и жизнь материала, возможно, про-яснит эти тезисы, призванные помочь сложить образ средневекового книгочея, учившего букве, а укреплявшего дух. Образ эрудита-«экспериментатора», каким был Р. Бэкон?
Если ученый в нынешнем понимании – это деятель, исследующий объективно противостоящий ему самому мир, вещи этого мира в их причинно-следственной обусловленности и представляющий результаты собственного исследования как принципиально новое знание, опираясь на которое, нужно двигаться к более новому знанию о мире и вещах этого мира, то европейским средним векам такой тип ученого не ведом. Ибо мир дан уму и чувству средневекового человека раз и навсегда как творческое дело бога, соизволившего в ничто обронить Слово, которое есть свет, которое есть мир. Ни о каком новом знании о мире не может быть и речи, потому что знание это раз и навсегда дано. Можно лишь выявить это знание и преподать его – научиться ему, ему же и научить. А может быть, просто восприять? И вовсе даже не знание, а сам этот мир как богоданный и самодостаточный? В личном само-действии восприять?
А пока: с помощью специально изготовленных учено-учительских приемов навести воспринимающего на сверхбытийный смысл. Самое же это дело – не есть новое знание (пусть даже в области ученого научения). Это – скорее новое деяние, новое действие по спасению собственной души и в то же время глубоко личное действие-деяние, ибо спасение – у каждого свое.
Если источник всякого бытия есть бог, то все вещи до́лжно соотнести с божественным совершенством и обрести в этом соотнесении свое место по божиему закону. Знание о мире при таком обороте дела – в контексте теоцентрической модели мира – тоже должно быть истолковано как богоданное, с богом соотнесенное: ведь только бог абсолютно бытийствен и абсолютно истинен. Он, а не природа, есть первичное бытие. Но бытие природы – не просто вторичное бытие; но такое бытие, которое сотворено богом из ничего и к ничтожеству же и стремящееся. Посередине (между началом и его концом) – изменяющийся мир. И эти изменения можно знать, но лишь в контексте креационистской идеи. Правда, божественный провиденциализм предусматривает неусыпную божию опеку созданного мира. Но отсюда идея гармонической осмысленности всего, что происходит в мире. И это тоже можно познавать. Но познавать кому? – Конечно же, человеку – обладателю разума и свободной воли, сотворенному по образу и подобию творца и имеющему совесть. Тоже природный «объект», но «объект» особого рода: «персона». Этот персональный мир закрыт для всех других, но внятен только богу. При этом общество (государство) – это совокупность «атомарных» персон, объединенных общими целями.
Вправленный в такой вот контекст, средневековый человек, конечно, может познавать мир, но познавать особым образом – отнюдь не в научно-исследовательском нововременном смысле, а как «вещей обличение невидимых», принявших обличье вещей видимых. Но чтобы обличить вещь невидимую (то есть божие слово), нужно прибегнуть к помощи слова же. Воплотить Слово. Но сколь парадоксальна задача, – мы уже более чем догадываемся.
Слово Божие стоит за всеми вещами мира, за миром вещей в целом. А запечатлено в священном тексте. Поэтому самый верный (и достоверный) способ познания истины – в постижении смысла священного Писания, ибо в нем богооткровенное слово, божественное откровение (revelatio). Обнаружение смысла текста и есть раскрытие тайны бытия, а стало быть, и божественной воли. Исследуется не мир, а слово о мире, призванное высветить в самом себе запредельный предмет исследовательского делания. Но как выпестовать это слово – этому надо учиться: учить себя и учить других. Ревеляционистский метод познания – толкование текстов о мире, всецело открывающихся в откровении, – разрабатывается тщательно. Именно сфера книжной учености и есть, может быть, единственная сфера приложения средневекового ума, взыскующего нового; но скорее нового ученого действия, нежели нового ученого знания. Классифицируются (но сначала создаются) различные уровни анализа текста (семантико-этимологический, концептуально-смысловой, спекулятивно-системотворческий). В идеале – образ истины; но такой образ, который соотносится с первообразом. Разрабатываются жанры в соответствии с уровнями анализа текста: этимологии, комментарии, компиляции, бревиарии, толковники, словники, энциклопедии, суммы. И, конечно же, формы учено-учительского дела – организационные, а внутри них учительско-процессуальные – монастырские и соборные школы, университеты, ремесленные цехи, купеческие гильдии – с их уставами, статутами, лекциями, защитами ученых степеней и испытаниями, диспутациями, установлениями и прочим. И все это – во имя экзегезы Писания, во имя экзегетики в самом широком смысле этого понятия. Опытное знание при этом, «научное» новаторство, ориентированное на природу, оказывалось на периферии. Зато ученость в ее этимологически дистиллированном первородстве – первым делом. И здесь-то уже за изобретением новенького (новых учено-учительских действий-деяний) дело никогда не стояло. Всё – от начала до конца – в этой учительско-ученической области было изобретено именно там и тогда – в эти европейские средневековые времена.
Именно схоластикой – и никогда эвристикой – была эта ученость. Это была наука школы – школьная наука: слово – ее предмет, слово – ее метод, слово – все ее содержание. А опыт этой науки – это опыт со словом, над словом, при помощи слова: сложение действия-приема ради и во имя смысла. И обращен этот опыт – слово-жест учителя – к встречному жесту-слову ученика. Это было знание о разумении (умении действовать учено). Ученый человек средних веков – это и учитель, и ученик, но только разновременно. Ученость средневековья – это учительское слово-прием, обращенное к слову-смыслу. Ради этого смысла, но смысл где-то там – за пределами. Точнее: между словом экзегезы и Первословом, первым и окончательным словом бога. Еще точнее: он и есть Первослово, а представим как отблеск-тень его. Только так и только в таком – учительско-ученическом – смысле можно говорить о средневековом ученом книжнике, если мы действительно хотим говорить о средневековом ученом книжнике. Книжнике-экспериментаторе – Р. Бэконе. Но… учитель. Корень один, а сути, как мы уже видели, соотносятся, противостоя. И в этом соотнесении парадоксально не совпадают, хотя и обладают – частично – общей территорией приложения собственных сил.
В этом значении слова «ученый» все население средних веков было ученым населением: учитель церкви, проповедник, теолог, созерцающий мистик, комментатор-схоласт, петрограф, металловед, ремесленник, врач, приходской священник, святой, астролог, кузнец, алхимик, пророк, поэт… простой мирянин. Все были участниками всеевропейского и всесредневекового семинара под открытым небом – многовекового диспута о чем угодно (например, о преимуществах человека, которого насекомые кусают, перед тем, кем они пренебрегают), где все слова случайны, а все словосочетания упорядочены. Упорядочены для дела – смысла: мира, собственной жизни, цели собственной жизни во имя личного спасения. Для жизни по богу, в боге, для бога.
Все население средних веков – ученое население. Верно. Но это – вполне пусто, если не ограничить-определить особость этой книжной – учительской – учености. Но мало-помалу сие осуществляется.
Самый простой способ овеществить, оплотнить слово – это его написать. Книга – единственная вещь, которую делают из слов.
«Телом и словом письмо облекает безгласные мысли,
Говорящий листок их относит векам».
(Шекспир)
(Это совсем уже поздний – XVI – век. Но вполне точно запечатлевает средневековую ма́ксиму: со стороны, с высоты.)
Но книга – всего одна. Это Библия. И тогда письмо действительно осознается как плоть Писания. Но плоть слова не есть еще плоть смысла. Реальность смысла и реальность знака – разной природы, хотя смысл и знак влекутся друг к другу. Система особым образом выработанных глаголов предусматривает это взаимное отталкивающее притяжение. Хилдегарда из Бингена (XII век), например, соотносит слово-образ и образ как вид смысла следующим набором глаголов: betekenen – обозначать, designare – изображать, praetendere – представлять, declarare – показывать, significare – выражать, praefigurare – воображать. Все это живые глаголы, выражающие целый спектр отношений слова-знака и смысла. Синонимия оттенков, данная в этом наборе глаголов, предполагает множественность экзегетических просматриваний слова, поливалентный характер толкования. Что, кончено же, не может не сказаться на столь же поливалентно постигаемом смысле. Разноречие – разночтение – разномыслие… Еретическое разногласие. Может, иконоборческая ересь как разногласие на этом и основана. Если допусти́м перевод Писания, то допустимо изображать Иисуса Христа на иконах то англичанином, то евреем, а то и французом или… негром. Такой жуткой перспективой стращают иконоборцы константинопольского патриарха Фотия (IX век). Разноречие через разногласие неминуемо оборачивается разномыслием. А сведе́ние мыслей к равнодействующей – уже не экзегетика, а эвристика. Выход к смыслу как предмету исследования, а не толкования. Такова возможность. Ей еще только предстоит осуществиться, но прежде пройти многовековый искус словом, комментированием, толкованием – разноречием, разночтением, – прежде чем стать разномыслием. Но прежде все-таки разноречие как суть ученой диалектики, как искусство возражения и защиты (aes opponendi et responendi), как техника дискуссии (disputatio), основанной на мнениях, то есть тоже на словах, оторванных от смыслов, хотя во имя этих смыслов – большого смысла во имя. Только «из общих соображений» (ex omne vero). Только посредством искусства рассуждать (ars disserendi). Всем этим – и только этим – достигалась иллюзия истиноподобия. Смысловая связь слов (как бы связь смыслов) достигалась длиннющими перечнями мест. Во всяком случае, думали, что достигалась, ибо космос спора ограничен, замкнут на себя. Диалектическая риторика, при которой, по точному слову Л. М. Баткина, «реальность, из которой вынут идеал, и идеал, из которого вынута реальность, странно смыкались». Правда, эта формула – формула кризиса средневековой учености, а не ее исторически полнокровной жизни. Таков пародийный (с нашей точки зрения) школьный диспут, очень еще далекий от дружеской (тоже ученой) ренессансной беседы. Подобие гейневского «Диспута».
Слово раскрывало (стремилось раскрыть) фигуральное значение смысла; не только огласить, но и изобразить, показать невообразимое. Фундаментальнейший парадокс педагогики, ставящий всю ее под сомнение перед нею самой! Поэтому и разрабатывается экзегетика Писания – разрабатывается как прием, как умение. Она предстает знанием об этом умении, субъектом этого знания во всей ученой филологической изощренности. Предмет как бы забыт. Он ждет своего часа. Меж словом и смыслом – едва ли не китайская стена. Но есть такой участок этой стены, который не только прозрачен, но и проницаем, ибо материал кладки – материал, из которого сработан смысл и выделано слово об этом смысле. Что это за материал такой?
«Слово стало плотью, в нее не обратившись». Это Августин. Но слово есть Свет. Значит, и плоть есть свет. Мир как система вещей – тоже свет (и как воплощения света – цвета вещей мира). Он же и божественный свет, годный для явления человеку, для просветления его же, для высветления смыслов – Смысла. Отсюда научение Свету. Научение свету? Не странно ли? А может быть, (само)воспитание для восприятия светозарных мгновений явленности вещей? От вещи – к воспитанному глазу – оку души? Разработка и развитие этой медитативной педагогики на уровне разноречий-разночтений сначала объективирует слово слушаемое (текст читаемый), а потом и смысл, по поводу которого и о котором сложен текст. Слушаемое (выучиваемое) становится видимым (постигаемым).
Конечно же, светолюбие – обесчеловеченный феномен, но в христианской культуре средних веков Свет – дело особое. Это свет тихий, невечерний. Он противостоит адскому огню, который не светит, но жжет (сравните с Данте). Свет устрояет, а мрак – начало разрушительное, хоть и определяется апофатически – как отсутствие света. Он про-светляет (осветляет, высветляет). Светом поощряют, а мраком наказывают: «Муки видимы», но сами они «не узрят света вовек».
Роберт Гроссетест (XIII век – в некотором роде учитель Бэкона):
«Поскольку истина каждой вещи состоит в ее согласии с божественным словом, ясно, что каждая выявленная истина очевидна в свете высшей истины… цвет окрашивает тело только при свете, разлитом над ним».
Истина каждой вещи соотнесена со словом бога и может быть явлена в свете (обратите внимание: в свете!) высшей истины. Свет божественной истины формирует, лепит слово о вещи, о ее смысле, делает это слово удобопреподаваемым. Но только слово о вещи-смысле, но не самое вещь-смысл. Сам же смысл в его естественной данности – цветовой его выявленности – тоже формируется, обозначается, является уже не слуху, а взору, – тоже при санкции (участии) света. Но света физического. «Цвет окрашивает тело только при свете, разлитом над ним». Как видим, формирование слова о вещи, обращенного к слуху, и формирование вещи, обращенной к зрению, уподоблены, потому что и то, и другое формирование происходит при свете метафизическом и физическом. Вещь дана взору, но может быть познана только в слове о ней, доносящем ее смысл, причастный к смыслу смыслов – Первослову. Вновь разлад: вещь, данная взору в ее всецелой полноте (чистое созерцание); но и… слово о ней, глядящее в беспредельные выси, в которых Слово-свет. А вещь – вновь обессловлена. Но и само слово до́лжно познать, а для этого нужно знание об умении знать слова. Знание об умении в сфере слов и есть его (Р. Бэкона, например) опыт, его жизнедействие. Долг стража буквы. При этом свет божественный, свет истины формирует слово о вещи, но и человека, взыскующего этой истины, воспитует его, создает – просветляет. Физический же свет формирует вещь, но с нею и человека, познающего слово о вещи, ибо познание построения, лепки вещи тождественно познанию ее самой, и потому тоже сводится к воспроизводству божиего – истинного – человека. В этой ситуации человек и вещь слиты, ибо правила создания вещи есть сама вещь. Полная слитность (тождественность) в идеале, но разрыв, зазор в действительности. Таков, например, средневековый мастер-ремесленник. Демиург. Пророк – иное. Он – возвеститель всеобщего, не своего – божиего – слова. Ученый книжный человек – меж. Между Пророком и ремесленником. Но каким образом он между? Он – постоянный возделыватель поля разноречий – разночтений – …разномыслий.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































