Текст книги "Лачуга должника"
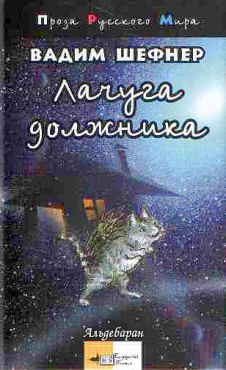
Автор книги: Вадим Шефнер
Жанр: Юмористическая фантастика, Фантастика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
После того как я узнал правду о Пете и о себе, мать в первое же воскресенье поехала со мной на Охту. Отец-то лежал на Серафимовском, а Петю мать на Большеохтинском похоронила, чтобы я, навещая могилу отца, не набрёл случайно на могилу брата. Всё-то она учла – не учла только Экватора Олеговича.
Все эти годы мать, втайне от меня, ухитрялась бывать на Большеохтинском. Могилка Пети была в полном ажуре – с аккуратной, под мрамор дощечкой, с бетонной раковиной.
О смерть, бессмертная паскуда,
Непобедимая беда!
Из рая, из земного чуда,
Людей ты гонишь в никуда!..
А в следующий раз могилу брата посетил я один. Это произошло, как сейчас помню, 29 июня 1964 года. Я тогда только что в десятый класс перешёл.
Посещению этому предшествовало одно очень важное событие: в коллективном юношеском сборнике «Утро над Невой» появились четыре стихотворения Павла Глобального – таков был избранный мною псевдоним. Мать прямо-таки ошеломлена была, когда я показал ей этот сборник и заявил в упор, что Глобальный – это я, её сын. Окончательно в реальность этого дивного факта она поверила в тот день, когда почтальонша принесла мне на дом, на мою настоящую фамилию, мой первый гонорар – сорок три рубля восемьдесят две копейки.
Мать сразу же выдвинула такое предложение:
– С первой своей творческой получки ты должен купить хороших цветов рублей на десять и отвезти их на могилу брата. Ведь будь он жив, он радовался бы твоим успехам.
На следующий день я так и сделал – отвёз цветы Пете.
Шагая с кладбища по Среднеохтинскому проспекту к трамваю, я мельком глянул на витрину спортмагазина и увидал, что там выставлен лук. Лук был что надо, под красное дерево; рядом лежал синий кожаный колчан со стрелами. Цены указано не было. Я зашёл в магазин и спросил у продавщицы, сколько это стоит. Оказалось – очень даже дорого, мне не по карману. Когда я направился к выходу, послышался женский голос:
– Павлуша, это ты?!
Я обернулся. В той половине магазина, где продавалась спортивная обувь, возле прилавка стояла тётя Лира. Рядом с ней топтался пожилой мужчина, в котором я опознал её мужа, дядю Филю.
Пил он пиво со стараньем,
Пил он водку и вино —
На лице его бараньем
Было всё отражено.
Впрочем, на этот раз дядя Филя был трезв. Оказывается, они уже три дня в Питере. Завтра возвращаются в Филаретово. На Охту, в этот магазин, они приехали по чьему-то совету: здесь большой выбор обуви. Они хотят купить кеды племяннику, сюрприз ему сделать.
Я помог им выбрать кеды, и мы направились к остановке двенадцатого номера.
Жена муженька до петли довела, —
Петля эта, к счастью, трамвайной была.
Мы поехали вместе на Петроградскую. В трамвае тётя Лира спросила вдруг, какие у меня успехи по русскому языку. Я ответил, что русский язык осваиваю с полным успехом, и полушутя добавил, что, может быть, недалёк и тот год, когда меня в школах будут проходить. Тогда тётя Лира сказала:
– Я тебе уже предлагала каникулы у нас провести, да ты, видно, забыл или стесняешься. Теперь снова зову тебя к нам на лето. Ты не кобенься, ты у нас не тунеядцем проживёшь – ты Вальку, племянника, по грамоте подтянешь.
Я в ответ что-то промычал. Не тянуло меня в это Филаретово.
– Ты, Павлюга, не думай, что скука у нас, – вмешался дядя Филя. – У нас кругом культура так и кипит! В пяти верстах от нас, в Ново-Ольховке, клуб действует, там фильмы почём зря крутят.
– Именно! – подтвердила тётя Лира. – Там даже индийские фильмы пускают.
– Я поеду к вам, – заявил я.
– Клюнул Павлюга на культуру! Клюнул! – обрадованно пробасил дядя Филя на весь вагон.
Но не в кино тут дело было. В том было дело, что третьего дня Эла сказала, что этим летом она будет жить в Ново-Ольховке: там её родители дачу сняли.
XIIIИ вот, значит, поехал я в это самое Филаретово на летние каникулы. Чтоб я там не задарма ошивался, мать мне какую-то сумму подбросила; какую – сейчас не помню, ведь с той поры двести лет прошло.
Тётя Лира и дядя Филя встретили меня хорошо, они ко мне почти как к родному отнеслись. И то лето я провёл у них безо всяких происшествий.
Бревенчатый дом Бываевых стоял на краю посёлка, вернее был предпоследним, если идти в сторону Ново-Ольховки. В нём имелось две комнаты и кухня. К дому примыкал неплохой приусадебный участок; там и деревья росли, и для огорода места хватило. Недалеко от дома стоял сарайчик – в нём держали поросёнка. В левом дальнем углу участка находился дощатый, крытый рубероидом домик-времянка. Для летнего обитания он вполне годился, туда меня и вселили Бываевы.
Сами они, ясное дело, жили в основном своём доме. И каждое лето у них обретался племянник Валентин. Родители его работали на железной дороге проводниками, летом у них начиналась самая горячая пора, – вот они и подкидывали сына тёте Лире и дяде Филе до осени.
Валик, как его именовали Бываевы, был старше меня на год, но, как и я, перешёл в том году в десятый класс (в своё время он два года просидел в пятом). Он всю жизнь хромал в грамматике, и в мою задачу входило подтянуть его. Я всё лето с ним занимался. Правда, не очень регулярно: от занятий он часто отлынивал, будто маленький. Но читал он много и память имел завидную. И со вкусом был – ему стихи мои нравились.
Он смелым был. В речку Болотицу с пятиметрового обрыва запросто сигал. Тётя Лира рассказывала, как его из восьмого класса чуть не исключили. Он какого-то нахального пижона-десятиклассника, который к одной девочке клеился, здорово отлупил. Прямо на перемене. Валька только потому из школы не попёрли, что весь класс на его защиту встал.
Да, Валик помнится мне парнем смелым и прямым. Но какая-то непутёвость гнездилась в нём. Он брался только за такие дела, которые можно было выполнить быстро, или за те, которые казались ему легковыполнимыми. Жизнь ему потом жестоко за это отплатила.
Сами же Бываевы были людьми положительными, спокойными. Правда, дядя Филя выпить любил, но никогда не буянил. Выпьет – и развеселится, а потом сон на него накатит, и он засыпает где попало. Дома – так дома, в гостях – так в гостях, на работе – так на работе. Через это он, случалось, влипал в разные истории. Он много трудовых постов сменил: был директором тира, истопником в музее, приёмщиком посуды в магазине и ещё много кем. Даже новогодним Дедом Морозом работал по кратковременному найму.
Детишек радуя до слёз,
Являлся в гости Дед Мороз.
Его орудием труда
Была седая борода.
К тому времени, когда я с Бываевыми познакомился, дядя Филя уже почти остепенился, выпивал пореже. Тётя Лира вполне доверяла ему, и её смерётные деньги хранились в общем ящике комода, в незаклеенном конверте. Эти сто пятьдесят рублей она предназначила на срочные расходы, которые возникнут в связи с её похоронами; в том же комоде у неё лежало три метра холста на саван и матерчатые тапочки с картонными подошвами. Но из этого не следует делать вывод, будто тётя Лира планировала свою кончину на ближайшее время. Вовсе нет! Она надеялась прожить долго, но запас, как говорится, пить-есть не просит.
Бываевы по рождению были питерцами. В Филаретово они переехали потому, что домик им по наследству достался. Долгие годы они жили беспокойно и бедновато, к тому же в коммуналке. Перебравшись в Филаретово, они обрели некоторый, хоть и очень скромный, достаток и жизнь более спокойную. Тётя Лира была уже на пенсии и подрабатывала в ново-ольховской аптеке – ездила туда на автобусе, а то и пешком ходила, благо недалеко. Там в аптеке она мыла всякие банки-склянки и поддерживала чистоту в помещении. А дядя Филя работал учётчиком на ново-ольховском песчаном карьере – в ожидании пенсии. Работёнка у супругов была, что называется, не пыльная. Времени на домашнее хозяйство, на огород вполне хватало.
Жили Бываевы дружно и мирно. Но, ясное дело, имелись и у них свои неприятности. Тревожили думы о будущем племянника – Валика. Огорчало поведение соседки – Людки Мармаевой. Эта нестарая и на вид даже симпатичная женщина совсем не следила за своими курами, и они часто проникали на участок Бываевых, нахально копались в грядках.
И ещё одна забота томила тётю Лиру и дядю Филю. То была забота об укреплении и наращивании здоровья.
С той поры как они перебрались в Филаретово, им захотелось продлить своё земное бытие. Забота о здоровье проистекала отчасти и из-за того, что тётя Лира с юных лет работала то сиделкой в больнице, то мойщицей в аптеках и через это прониклась огромным уважением к медицине. Этим уважением она заразила и своего мужа. Дядя Филя возлюбил принимать всякие лекарства, даже вне зависимости от их прямого назначения. Когда в аптеке, за истечением срока хранения, списывали различные медикаменты, тётя Лира приносила их домой, и дядя Филя за милую душу глотал разные там антибиотики, аспирины, реапирины и не брезговал даже пилюлями против беременности. «Организму всё пригодится, организм сам знает, куда какие вещества в теле рассортировать», – говаривал он. Должен я добавить, что дядя Филя, может быть благодаря лекарствам, а всего вернее – наперекор им, был в общем-то здоров. Правда, он страдал плоскостопием, из-за этого его даже в армию не призвали, но в остальном чувствовал себя неплохо, так же, как и его супруга.
Любимым и, пожалуй, единственным чтением Бываевых был популярный журнал «Медицина для всех». День, когда тётя Наташа, местная почтальонша, вручала им очередной номер, казался им праздником. Тётя Лира тотчас же жадно склонялась над оглавлением, напевая старинную медицинскую частушку:
Болят печёнки, болят и кишки, —
Ах, что наделали мальчишки!
Дядя Филя подпевал бодрым голосом:
Болят все кишки, болят печёнки, —
Ах, что наделали девчонки!
Наибольшим вниманием супругов пользовались те статьи и заметки, где речь шла о продлении срока человеческой жизни.
Хоть Бываевы люди были невредные, но всё же мне повезло, что поселили они меня не в капитальном своём строении. Дело тут не в них, а в их домашней живности. Ну, поросёнок – тот отдельно жил. Про кошку Фроську тоже плохого не скажу: она была пушистая, симпатичная и иногда целыми сутками где-то пропадала.
Зато Хлюпик – приземистый, раскормленный пёсик загадочной породы – всегда или в доме околачивался, или дежурил у калитки – в рассуждении, кого бы облаять или цапнуть. Он только на вид казался неуклюжим, а на самом деле был очень даже мобилен. И характер имел переменчивый. Подбежит к тебе приласкаться, хвостом виляет, а потом вдруг передумает и в ногу вцепится. Он и хозяев своих иногда кусал. «Замысловатое животное!» – говорил о нём дядя Филя, причём даже с оттенком уважения. «Тварь повышенной вредности», – характеризовал его Валик.
А тётя Лира души в Хлюпике не чаяла. Она где-то подобрала его щенком и выкормила. Она почему-то считала его очень честным. «Кусочка без спроса не возьмёт!» – восторгалась она. Но воровать ему и незачем было – и так был сыт по горло. Однако он был хитёр и понимал, что честность – это его основной капитал. Иногда он устраивал демонстрацию своего бескорыстия. Когда тётя Лира, прервав стряпню, уходила из кухни покормить поросёнка, Хлюпик прыгал на табурет, оттуда на кухонный стол и там засыпал (или делал вид, что спит) рядом с фаршем или ещё каким-нибудь вкусным полуфабрикатом. «Ах ты, ангельчик мой культурный! Лежит и ничего не трогает!» – умилялась тётя Лира, вернувшись в кухню, и, взяв пёсика на руки, относила его в комнату, на диван.
Вот так, значит, жили в посёлке Филаретово Лариса Степановна и Филимон Фёдорович Бываевы и их подопечные. Жили и не знали, что пройдёт год – и в судьбы их ворвётся нечто небывалое, необычайное.
XIVНа следующий день по приезде к Бываевым я отправился в тот лес, где погиб отец. Его могилу на Серафимовском кладбище мы с матерью посещали регулярно, но на месте его гибели не бывали ни разу. Не тянуло нас туда. А главное, мы толком и не знали, где в точности случилось несчастье: из рассказов грибников – спутников отца в тот печальный день – известно было только, что произошло это где-то в бору за Господской горкой. Теперь, расспросив у Бываевых, где находится этот бор, я направился туда.
До речки меня сопровождал Валик. Он подробно растолковал мне, как идти к Господской горке, а сам расположился на берегу.
Минут сорок шагал я по береговой тропке, затем, когда показался вдали пологий холм, форсировал речку вброд и свернул налево. Начались густые кусты, среди них виднелись остатки каменного строения. В сторонке маячили кирпичные ворота с осыпавшейся штукатуркой: никакой ограды не было, ворота никуда не вели. Я понял, что это и есть Господская горка; здесь в незапамятные времена, как сказала тётя Лира, стояла барская усадьба.
На фоне ворот я увидел нечто голубоватое, движущееся. Подошёл ближе – и узрел Элу. В сарафане, с корзиночкой в руках. Я, конечно, очень удивился и обрадовался. Но, поскольку у нас с ней был как бы негласный договор не здороваться при встречах и вообще избегать формальной вежливости, я обратился к ней так:
– Эла, когда я стряхнусь с ума, я тоже пойду искать грибы среди лета.
– Я не по грибы, я калган выкапываю, – ответила она и протянула мне корзинку: там на дне лежали какие-то корешки и детский совочек. – Это калган, папа на нём спирт настаивает.
– Не знал я, что твой предок выпить любит.
– Нет, он непьющий, ты же знаешь. Это для желудка… А сюда я зашла поздороваться с каменщиком. – С этими словами она приложила руку к воротам, к тому месту кладки, откуда, видно, кусок штукатурки отвалился совсем недавно; этот кирпич был густо-вишнёвого цвета, не выцветший, он выделялся среди других.
– Вот и поздоровались! – объявила Эла. – Лет сто двадцать тому назад он своей рукой положил этот кирпич, и с той поры ничья ладонь к нему не прикасалась. И вот моя коснулась. Это как рукопожатие.
– Не дойдёт до каменщика твоё рукопожатие, – съязвил я. – Есть эти ворота, есть этот кирпич, есть ты. А каменщик-то где? Выпадает основное звено.
– Каменщик жив! По-моему, все люди бессмертны. Конечно, не в божественном смысле каком-то, а в рабочем. Всё, что сделаешь в жизни хорошего, – всё идёт в общий бессмертный фонд. Даже если дело незаметное, всё равно.
– Очень удобная теория! Честь имею поздравить вас с бессмертием!
– Не перевирай мои слова! – вскинулась Эла. – Личной вечной жизни я бы вовсе не хотела. Ты представь себе: я построю дом, и он состарится при моей жизни, и его снесут у меня на глазах!.. Нет, пусть наши дела переживают нас!.. Впрочем, личное бессмертие нам не угрожает.
– Очень даже не угрожает, – согласился я и сообщил Эле, что направляюсь в тот именно лес, где погиб отец.
– Боже мой, а я ещё с такими разговорчиками, – огорчилась Эла. – Прости, я ведь думала, ты просто так тут бродишь… И вообще, как ты в Филаретово попал?
– Хотел сделать тебе приятный сюрприз. Представь себе, тайком от тебя поселился у Бываевых на всё лето. Я к тебе завтра собирался – и вдруг такая счастливая случайность, встречаю тебя здесь.
– Дорога в ад вымощена счастливыми случайностями, – пошутила Эла. – Это я где-то вычитала, наверно. А может, это мне просто приснилось… Тебе снятся мысли?
– Ты же знаешь: мне снится только архитектура. Этой ночью видел высоченную башню; вошёл в дверь, а там каменная лестница, и ведёт она не вверх, а вниз. Спускался, спускался по ней, а ступенькам конца нет. Тогда взял и проснулся… Приснится же такая мура!
…Продираясь сквозь кустарник, мы вышли на просёлочную дорогу, пересекли её, миновали кочковатое поле, вступили в бор. Пахло смолой, под ногами пружинил мох. Сосны стояли редко, не мешая жить друг другу, лес хорошо просматривался. Никаких следов бед людских он не хранил. Погибни здесь тысяча человек – он и то ничего бы не запомнил и ничего бы нам не рассказал. Вскоре мы повернули обратно. Уже выходя на просёлок, мы обратили внимание на одну большую сосну. На ней кто-то вырезал треугольник, опущенный вершиной вниз; он заплыл смолой, древесина потемнела. Ниже на коре виднелись какие-то вмятины и шрамы, поросшие мхом.
– Может быть, именно здесь это и случилось, – сказала Эла.
Мы стояли молча, не шевелясь, будто, не сговариваясь, объявили сами себе минуту молчания.
– А теперь пойдём к реке, – обратился я к Эле.
– Нет, погоди, – ответила она. – Давай спасём вон ту рябинку. Ей здесь не вырасти, её какая-нибудь машина обязательно заденет колёсами.
Между сосной и дорогой росло несколько низеньких рябин; одно деревцо, совсем маленькое, стояло у самой обочины. Вынув из корзины совочек, Эла стала выкапывать рябинку.
– Летом вроде бы деревья не пересаживают, – усомнился я.
– Рябина и летом приживается, – уверенно возразила Эла. – Ты возьмёшь её и посадишь на участке твоих высоких покровителей. Только, чур, место выбери получше. И поливай её! Я на эту рябинку кое-что загадала.
Мы расстались с Элой на Господской горке. Оттуда до Ново-Ольховки было такое же расстояние, как до Филаретова. В дальнейшем мы почти каждый день встречались именно здесь, а потом шли куда глаза глядят.
XV
Любовь росла и крепла,
Взмывала в облака, —
Но от огня до пепла
Дорожка коротка.
Деревцо я в тот же день посадил на участке Бываевых – с их согласия. Мне казалось, что место я выбрал очень удачное – на маленькой лужайке, где справа стояли две берёзы, а слева росла бузина.
– Значит, матушку-сорокаградусную на рябине настаивать будем, только до ягодок бы дожить! – пошутил дядя Филя.
– Далась тебе эта водка окаянная! – встрепенулась тётя Лира и сообщила мужу, что завтра в аптеке будут списывать лечматериалы и она под это дело принесёт ему для здоровья пятнадцать бутылок рыбьего жира.
Рыбий жир вина полезней,
Пей без мин трагических,
Он спасёт от всех болезней,
Кроме венерических.
Что касается саженца, то он не принялся. Может быть, потому, что поливал его я нерегулярно, забывал иногда из-за стихов, творческих раздумий. В конце июля листья рябины пожелтели, пожухли.
– А как поживает наша подшефная? – спросила меня однажды Эла.
– Никак не живёт, съёжилась совсем, – ответил я. – Но тётя Лира говорит, что весной она может ещё ожить.
– Нет, не оживёт она, – строго сказала Эла и взглянула на меня так, будто я один виноват в этом.
Есть улыбки – как награды,
Хоть от радости пляши;
Есть убийственные взгляды —
Артиллерия души.
На будущий год деревцо действительно так и не воскресло. И это вызвало очень, очень важные последствия.
XVIМиновал год.
Я благополучно перешёл в одиннадцатый класс (они ещё существовали; позже было введено десятилетнее обучение) и летом опять подался в Филаретово. А поехал я туда известно почему: Элины родители снова дачу в Ново-Ольховке сняли.
Бываевы опять встретили меня очень гостеприимно. А вот у Хлюпика характер ещё хуже стал. Он меня сразу же за ногу цапнул. «Это он по доброте, это он, ангельчик, от радости нервничает», – растолковала мне тётя Лира.
Что касается Валика, то он быстренько отвёл меня в сторону и попросил в это лето не очень наседать на него с грамматикой, ибо у него голова другим занята. Я уже знал, что он окунулся в киноискусство, решил стать деятелем кино – не то режиссёром, не то артистом, не то сценаристом. Он ходил теперь на все фильмы, а книги читать бросил: в него, мол, культура через кино входит.
Если говорить о себе, то я прибыл в Филаретово опечаленный. Зимой минувшей дела мои шли неплохо: в одной газетной подборке прошли три моих стихотворения, в другой – два. Я уже подумывал о сборнике своих стихов. Даже название для него придумал – «Гиря». Это в знак того, что стихи мои имеют творческую весомость. Но перед самым моим отъездом в газетном обзоре некий критик заявил, что «стихи Глобального незрелы, эклектичны, автор ещё не нашёл самого себя».
У критиков – дубовый вкус,
А ты стоишь, как Иисус,
И слышишь – пень толкует с пнём:
«Распнём, распнём его, распнём!»
В первый же день я отправился в Ново-Ольховку, захватив с собой злополучную газету. Уже на подходе к Элиной даче я учуял запах палёного и догадался, что Надя сегодня гладит бельё. И не ошибся: она только что прожгла утюгом две простыни.
Я пригласил Элу на прогулку, но она отказалась по уважительной причине: она в тот день дежурила по семейной кухне (и уже успела разбить одну тарелку).
– Давай встретимся завтра в одиннадцать утра на Господской горке, у наших ворот, – предложила она.
– Замётано, – ответил я. Потом отозвал её на минутку в палисадник и там повёл речь о том, что путь истинных талантов всегда усеян терниями и надолбами, и вручил ей роковую газету. Я сделал это в надежде на то, что Эла возмутится, осмеёт критика и тем самым обнадёжит и утешит меня. Я стал ждать её реакции.
Вы гадаете, вы ждёте,
Будет эдак или так…
Шар земной застыл в полёте,
Как подброшенный пятак.
Эла прочла ядовитую статейку и коварно хихикнула. Я моментально усёк, что хихиканье это не в мою пользу.
– Ты призадумайся. Ведь он тебе плохого не желает, – совершенно серьёзно произнесла она. – И потом, знаешь, очень уж ты могучий псевдоним себе придумал: Гло-баль-ный…
– От Электрокардиограммы слышу! – отпарировал я.
– Не я же себе такое имя выбрала, – тихо и грустно молвила Эла. – И дразнить меня так – это просто подлость.
– А с критиками, которые травят поэта, дружить – это не подлость?!
– Ни с какими критиками я не дружу… Вот что, захлопнем этот разговор. Оставайся у нас обедать. Щи сегодня – глобального качества. Из щавеля!
– Не надо мне твоих щей! – Хлопнув калиткой, я вышел из палисадника и побрёл куда глаза глядят.
Устав сидеть на шатком троне,
Разбив торжественный бокал,
Король в пластмассовой короне,
Кряхтя, садится в самосвал.
На душе у меня было муторно. Я долго бродил по лесу. Когда вернулся в дом Бываевых, там уже отужинали. Но добрая тебя Лира разогрела макароны, усадила меня за стол.
– Оголодал ты, Павлик, осунулся, – сказала она. – С первого дня пропадать где-то начал. Вроде нашей кошки Фроськи погуливаешь где-то… Смотри, до алиментов не добегайся, а то нам перед твоей маманей отвечать придётся.
– Не бойтесь, тётя Лира, до алиментов дело не дошло, – невесело ответил я. – И пропадать из дому больше не буду.
* * *
Говорят, что грядущие события бросают перед собой тень; говорят, что накануне важных, поворотных в их судьбе дней люди часто видят сны, по которым можно расшифровать будущее. Но я в ту ночь спал без сновидений и проснулся без предчувствий.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































