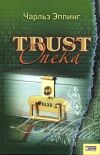Текст книги "Холод пепла"

Автор книги: Валентен Мюссо
Жанр: Зарубежные детективы, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Глава 3
Сестра ждала меня на перроне.
Я и сейчас вижу ее, в светлом платье и темном пиджаке с короткими рукавами, сидящую на облезшей скамье и рассеянно вертящую в руках сумочку. Устремив на меня чуть уклончивый взгляд, всегда придававший ей трогательный вид, Анна встала и бросилась в мои объятия – в порыве, ставшем таким редким для нас, что я с трудом сдержал желание попятиться. Она разжала руки и с осуждением посмотрела на мою спортивную сумку.
– Больше у тебя ничего нет?
– Я уеду в воскресенье. Я и так пропустил сегодняшние занятия. Как он?
– Я отвезла Алису в больницу около половины восьмого. Она хотела как можно раньше приехать туда, хотя медсестры косо на нее поглядывают. Ничего нового нет. Врачи ждут. Они собираются сделать ему церебральное сканирование или что-то в этом роде, не знаю…
Анна быстро шла по перрону, устремив пристальный взгляд в какую-то невидимую точку в конце вокзала.
– Я думаю, он не выкарабкается, – добавила она нейтральным тоном, откидывая назад непослушную прядь золотисто-каштановых волос. – Врачи настроены более пессимистично, чем я дала тебе понять по телефону.
– Я так и думал, – солгал я, чтобы она не чувствовала себя виноватой.
На стоянке перед большим старомодным фасадом вокзала Шалон-ан-Шампань мы сели в колымагу Анны, «рено-19», купленную на распродаже. Насколько я помнил, эта машина всегда была помятой со всех сторон. Я прозвал ее катафалком не только из-за цвета, но и потому что человек, садившийся в нее, подвергал свою жизнь смертельной опасности.
Ремень безопасности на пассажирском сиденье отказывался растягиваться. Моя сестра перегнулась через меня и энергично, с видом знатока, несколько раз дернула за него.
– Мне очень жаль, но у этого ремня свой характер…
Я улыбнулся. Она повернула ключ зажигания, мотор зачихал. Пришлось еще раз повернуть ключ.
– Ты уверена, что мотор не заглохнет?
– Не бери в голову, у меня свои методы…
В конце концов машина поехала. Мотор продолжал чихать, что внушало некоторое беспокойство.
– Может, сразу поедем в больницу, встретимся с Алисой? Что ты об этом думаешь?
– Прекрасная идея, – ответил я, рассеянно глядя сквозь потускневшее стекло, когда мы проезжали через Марну.
Десять минут спустя мы были в Медицинском центре Шалона. Я шел за Анной по больничным коридорам, едва успевая за ней.
Мой дед находился в палате интенсивной терапии. Мне было тяжело видеть его лежащим на больничной койке под капельницей, с трубками, вставленными в нос и рот. Несмотря на его преклонный возраст и осознание того, что он может вскоре покинуть нас, мы не представляли нашей жизни без него.
Алиса, которую мы встретили в комнате перед палатой, сказала, обращаясь ко мне:
– Не знаю почему, но вчера утром у меня возникло странное предчувствие.
– Абуэло плохо себя чувствовал? – спросил я.
– Нет, вовсе нет. Но когда он пошел кормить птиц, я из окна кухни следила за тем, как он удаляется, словно знала, что вижу его в последний раз.
В моей душе вспыхнула тревога: все предвещало мучительный разговор, для которого я был неспособен найти подходящие слова.
– Не волнуйся, дед здесь, рядом… Не волнуйся…
Алиса не была нашей бабушкой, но мы всегда считали ее таковой. В середине семидесятых годов мой дед, решивший подстричь зеленую изгородь в саду дома в Арвильере (хотя он платил садовнику, который два раза в неделю должен был выполнять тяжелую работу), упал и сломал шейку бедра. После неудачной операции по замене сустава у деда началось воспаление, на несколько месяцев приковавшее его к постели. Алиса была его сиделкой. Это была мягкая, спокойная женщина, альтруистка, которая, казалось, никогда не заботилась о собственном благополучии. О ее прошлом мы знали только то, что она очень рано овдовела и что у нее не было детей. Без всякого преувеличения можно было сказать, что она спасла моего деда, сильно сдавшего после недавней смерти жены, и помешала ему впасть в депрессию и апатию после несчастного случая. С тех пор они не расставались.
Мне было бы трудно охарактеризовать суть их отношений. В том возрасте, в каком мы тогда находились, мы не могли представить себе, что они оба испытывали настоящую любовную страсть. Мы довольствовались тем, что считали их союз смешением нежности, солидарности и желания убежать от одиночества. Впрочем, никогда больше я не встречал двух существ, так искренне привязанных друг к другу.
Алиса согласилась вернуться вместе с нами в Арвильер, но «только на несколько часов», чтобы пообедать в нашем обществе и помочь мне разместиться.
Едва старенькая машина Анны миновала ворота, как мое сердце сжалось. В отсутствие деда поместье, казалось, приобрело иной облик.
По молчаливому согласию мы всегда называли его «домом в Арвильере», однако местные жители именовали поместье «мануарием[1]1
Мануарием в средние века называли участок, доход с которого позволял вооружить рыцаря. (Здесь и далее примеч. ред., если не указано иное.)
[Закрыть] Коше». Огромное трехэтажное строение начала века состояло из пятнадцати комнат. У него был серый каменный фасад, небольшая выступающая башня с фахверковыми стенами и устремившимися ввысь печными трубами на широких основаниях. Сад, занимавший площадь более гектара, был засажен столетними каштанами. Встречал гостей огромный бронзовый фонтан, словно последнее и немного смешное свидетельство былой славы семьи Коше, а также символ их прежних достижений.
В начале ХIХ века, в годы, последовавшие за вступлением на престол Карла Десятого, Виктор Коше превратил маленькую семейную литейную мастерскую, специализировавшуюся на футеровке[2]2
Защитная внутренняя облицовка печей, труб, емкостей и т. д.
[Закрыть], в предприятие, изготавливавшее роскошные орнаменты и декоративные изделия. Еще в ранней юности он увлекся искусством и мечтал о карьере парижского художника. Однако намного более прозаические расчеты его родителей положили конец амбициям Виктора. Тогда он всей душой возненавидел мещанский дух своей семьи, но не осмелился пойти против ее решения и порвать с ней. Когда Виктор встал во главе предприятия, ему в голову пришла счастливая мысль, позволившая взять реванш, правда запоздалый, над своими родителями. Он сделал рисунки статуй, фонтанов, канделябров и отдал их литейщикам своей плавильной мастерской в Шампани. Первое время литейщикам, обеспокоенным будущим торгового дома, было трудно, несмотря на огромный опыт, приспособиться к технике художественного литья, которую они считали прихотью своего нового патрона. Виктор без колебаний влезал в долги, ставя на карту судьбу своего предприятия. Он нанял лучших парижских рабочих, которые учили литейщиков семейной плавильной мастерской новым приемам. И он одержал победу: через несколько лет Торговый дом Коше смог конкурировать с литейными заводами Калла и Мюэля. Виктор разбогател. Благодаря его юношескому увлечению скромное семейное предприятие процветало.
Виктор умер в 1887 году, в возрасте восьмидесяти пяти лет, богатым, уважаемым человеком, оставившим после себя детей, которым, к счастью, не пришлось видеть полное разорение фамильного наследства. Жан-Шарль Коше, старший из двух сыновей – мой прадед, – не обладал ни художественными талантами своего отца, ни его жесткостью. В его оправдание надо сказать, что в тот момент, когда он унаследовал отцовское предприятие, художественное литье переживало во Франции упадок. Какое-то время Жан-Шарль посещал парижские салоны крупных буржуа, вел легкомысленный образ жизни, кутил, влюбился в танцовщицу Парижской оперы и начал, впрочем безуспешно, заниматься политикой. Он был плохим отцом, вечно отсутствовавшим, равнодушным.
Семейное предприятие было продано за бесценок. Это позволило лишь частично погасить накопившиеся долги. Из всего фамильного состояния прадеду удалось сохранить только поместье в Арвильере и немного акций, которые он сумел утаить от кредиторов.
Мой дед с ранней юности затаил на отца обиду и дал себе слово никогда не становиться похожим на него. Впрочем, насколько я помню, когда мы были детьми и подростками, он ни разу не сказал ни одного дурного слова об этом человеке и даже старался найти ему оправдание, хотя бы немного обелить его.
Абуэло изучал медицину, выбрав своей специальностью гинекологию и акушерство. Получив диплом, он, преисполненный гуманистических идеалов, столь резко контрастировавших с черствым эгоизмом его отца, присоединился к мужчинам и женщинам, пришедшим на помощь семьям, которые, бежав из Испании после победы Франко в 1939 году, оказались в лагерях беженцев в Восточных Пиренеях. Если можно так выразиться, Абуэло стал одним из членов первых эшелонов современной «гуманитарной помощи». Моя бабушка Констанца, которую мы с Анной практически не знали, принадлежала к семье испанских республиканцев, покинувших Барселону сразу после захвата города фалангистами. С дедом они познакомились в лагере Аржелес-сюр-Мер, где десятки тысяч человек жили в условиях ужасной антисанитарии. Люди умирали от недоедания и дизентерии.
Я до сих пор удивляюсь, как их любовь могла зародиться при столь жутких обстоятельствах. Однако подобное удивление, несомненно, свойственно поколению, не знавшему ни войн, ни лишений.
У Анри и Констанцы был только один сын, Теодор, мой отец, родившийся в самый разгар войны. Роды были трудными, моя бабушка едва не потеряла ребенка. И хотя они оба мечтали о большой семье, остальные беременности бабушки заканчивались неудачно.
Что еще сказать о моем деде? Он был человеком, которым мы с сестрой искренне восхищались, который привил нам вкус к усердию, справедливости и труду. Он был необычайно сдержанным и скрытным, поэтому история его семьи, нашей семьи, мне известна лишь отрывками. О ней я узнавал благодаря некоторым фразам, невольно вырывавшимся во время разговоров, занятным подробностям, фотографиям из семейного альбома. Но там было много пустот, недомолвок, мертвых зон…
Я расположился на втором этаже, в комнате, которую всегда считал своей, когда останавливался в Арвильере. Это было просторное помещение, которое прозвали «спальней пирата» из-за причудливых обоев на стенах и украшавших их навигационных приборов. Там висели октант[3]3
Угломерный астрономический инструмент.
[Закрыть] с диоптрами[4]4
Приспособление для визирования в простейших геодезических инструментах.
[Закрыть], теодолит[5]5
Геодезический инструмент для измерения на местности горизонтальных и вертикальных углов.
[Закрыть] и компас, которыми я играл в детстве. Да я и сейчас мог бы любоваться ими часами.
Я нашел Алису в кухне – она чистила и резала картофель. Я знал: ей бесполезно говорить, что она могла бы не беспокоиться об обеде. Какими бы ни были обстоятельства, Алиса всегда будет готовить, как делала это четверть века для моего деда.
– Хорошо, что ты смог так быстро приехать, – сказала она, не отрываясь от работы. – У тебя не будет из-за этого неприятностей в лицее?
– Один день мои ученики прекрасно смогут обойтись и без меня.
– Напомни, что именно ты преподаешь. Да, конечно, ты говоришь мне это всякий раз…
– Я преподаю литературу, а также историю кино и особенности аудиовизуальных средств ученикам подготовительных курсов.
– Ах да, кино… Твой дед так гордился тобой.
Действительно, страсть к кинообразам передалась мне от Абуэло. Почти половину своей жизни он коллекционировал профессиональные фильмы, снятые на тридцатипятимиллиметровой пленке, которые приобретал на черном рынке. В комнате, переоборудованной под кинозал, дед показывал нам классику американского кино 1950-х и 1960-х годов. Он с гордостью рассказывал нам о том, что однажды к нему обратился Анри Ланглуа из Парижской фильмотеки, поскольку Абуэло был единственным обладателем пригодной к показу версии с субтитрами «Дороги» Феллини. Наш дед собрал также немало любительских фильмов, которые показывал летом, когда мы все приезжали на каникулы в Арвильер.
В начале 1980-х годов я, сдав экзамен на бакалавра, решил поступить в IDHEC[6]6
Институт высших исследований в области кинематографа, преобразованный в 1986 году в Fémis, Высшую национальную школу звукоизобразительных профессий. (Примеч. авт.)
[Закрыть], а уж потом посвятить себя преподавательской деятельности, получив звание агреже[7]7
Агреже – ученая степень во Франции, дающая право преподавать в лицеях и на естественнонаучных и гуманитарных факультетах университетов. (Примеч. пер.)
[Закрыть] в области литературы. Но моя любовь к кино не остыла. На факультете я читал курс лекций, посвященных литературе и кино, как вдруг в лицее, в котором я преподавал, было создано направление «Аудиовизуальное кино» для учеников, собиравшихся поступать в Высшую Нормальную школу[8]8
Высшая Нормальная школа – государственное учреждение в сфере высшего образования во Франции. Подчиняется непосредственно Министерству высшего образования и научных исследований. Основана 30 ноября 1794 года Национальным конвентом, который выразил желание, чтобы «в Париже была нормальная школа, где можно было бы обучаться искусству преподавания». (Примеч. пер.)
[Закрыть]. Конкурс на место преподавателя был огромным, но была одобрена именно моя кандидатура, поскольку я обладал немалым опытом в этой области.
– Куда делась Анна?
Руки у Алисы были заняты, и она локтем показала на большой сад, куда выходили окна кухни.
– Она в саду, курит тайком, как в юности.
Анна всегда обладала способностью становиться незаметной, как камень подо мхом. Помню, в детстве она могла исчезнуть в мгновение ока и забиться в уголок дома, чтобы шпионить за взрослыми.
– Как здоровье твоей сестры, Орельен? – добавила Алиса, на этот раз взглянув на меня.
Но что я о ней действительно знал? Любой ответ о состоянии здоровья Анны мог быть только предварительным, но категоричным. Она не вылезала из простуд и даже как-то раз сломала ногу. Могла ли она излечиться от болезней, которыми страдала?
– Думаю, ей лучше…
– Ты говоришь это, чтобы меня не волновать, или же и в самом деле так думаешь?
– Все очень сложно, Алиса.
Все, что было связано с Анной, действительно было сложно. Как-то раз, когда ей едва исполнилось семнадцать лет, то есть менее чем через два года после смерти нашего отца, я отыскал Анну в больнице, куда она попала после передозировки лекарств. Учитывая количество проглоченных таблеток, врачи пришли к убеждению, что речь идет не о неосторожности или желании помочь своему организму, а о настоящей попытке самоубийства. Тогда моя сестра лишь чудом избежала смерти.
Анна согласилась на несколько бесед с психологом, но только для того, чтобы дать нам понять: «Вот видите, я иду на поправку, теперь мне станет лучше». Она использовала психологическое сопровождение как щит, уловку, позволявшую ей на какое-то время избавиться от нашей опеки. Разумеется, мне хотелось ей помочь, но я очень быстро понял, что был способен видеть свою сестру только в болезненном состоянии, представлять ее маленькой девочкой, страдающей депрессией, мучения которой приводили меня в отчаяние и вызывали чувство вины.
У Анны были взлеты и падения. Это можно сказать о ее физическом и душевном состоянии, а также о наших с ней отношениях. Я помню, что даже после смерти нашего отца мы проводили незабываемые летние каникулы в Арвильере. В то время для нас было немыслимо провести хотя бы одни выходные за пределами Марны. Это было своего рода ритуалом, который никто из нас не нарушал. Потом мы стали видеться не так часто. Я теперь уже и не помню, почему так случилось. Я стал реже приезжать в Арвильер. Моя жизнь с Лоранс, наши ссоры, рождение Виктора, жертвы, на которые мне пришлось пойти, чтобы получить должность преподавателя… Анна, жившая, как и я, в Париже, по-прежнему много времени проводила в Арвильере. Полагаю, Арвильер был единственным местом, где она чувствовала себя как дома. Ubi bene, ibi patria[9]9
Ubi bene, ibi patria (лат.) – где хорошо, там и родина. (Примеч. пер.)
[Закрыть]…
– Похоже, ты тайком дымишь?
Моя сестра скорчила гримасу, одну из тех, которые были способны перенести меня на много лет назад и заставить поверить, будто она нисколько не изменилась.
– Не одолжишь сигаретку? – добавил я.
– Я бросила, ты же знаешь.
– Так я тебе и поверил!
– Помнишь это дерево?
Это был каштан, на который мы когда-то повесили самодельные качели. Я приподнял прядь, закрывавшую на лбу небольшой шрам – память о падении, из-за которого меня забрала в больницу карета «скорой помощи», когда мне было тринадцать лет.
– На ветке все еще видны следы от веревки, – заметил я. – Странно, но у нее тоже остался шрам. Так что мы квиты.
Анна выпустила изо рта струйку белого дыма.
– Знаешь, в этом году Абуэло плохо себя чувствовал. Алиса очень беспокоилась о нем. В последние месяцы я часто у них бывала.
– Почему ты ничего мне не сказала?
– Возможно, надо было бы. Ничего серьезного, но он… сдал. Полагаю, это самое подходящее слово.
Анна закурила новую сигарету.
– Как поживает Виктор? Когда я увижу своего любимого племянника?
– Во время следующих каникул он поживет одну недельку у меня. Можно что-нибудь придумать… Ты не против?
– Да, это было бы хорошо.
Вот уже два года как Лоранс жила в Риме. Она поехала туда за своим мужем, резчиком, создававшим ужасные деревянные скульптуры, которые покупали по бешеным ценам простаки, лишенные какого-либо художественного вкуса, зато лопавшиеся от счастья из-за того, что теперь они могут подкрепить свою страстную любовь к искусству комичной идеологией школьной переориентации. Я не возражал против ее отъезда. Лоранс металась между Римом и Парижем, где осталась вся ее семья, так что я, несмотря на разделявшее нас расстояние в полторы тысячи километров, часто виделся с Виктором, когда он жил в Париже в трех станциях метро от меня.
– Как твоя учеба?
– Нормально, хотя мне кажется, что время тянется медленно.
Анна училась на третьем цикле в Школе Лувра. Теоретически через несколько месяцев она должна была закончить учебу.
– Далеко продвинулась в своей дипломной работе?
– Я отстаю, очень даже отстаю, но обязательно наверстаю упущенное. Я уже прошла стажировку в Сен-Жермен-ан-Лэ.
– В замке?
Анна кивнула. На самом деле, хотя я не имел никаких конкретных доказательств, на которые мог бы опереться, у меня было подозрение, что Анна бросила учебу. После семи столь трудных, столь разных лет это было самым глупым ее решением. Но в любом случае я буду последним, кто узнает об этом.
Легкий ветерок колыхал листья каштана, шумевшие над нашими головами. Некоторые деревья уже были усыпаны гроздьями белых и розовых цветов. Я набрался мужества.
– Послушай, относительно того, о чем мы вчера говорили по телефону…
– Забудь, Орельен. Вчера я была такой подавленной. Я ни в чем тебя не упрекаю.
– Нет, я хочу, чтобы ты знала… Мне хотелось бы, чтобы в будущем мы чаще виделись. Как хорошо вновь встретиться здесь, в Арвильере… Например, на каникулах… Через три недели, весной, я приеду с Виктором. Можно снова сделать качели…
Это все, что я смог ей предложить.
– Последние годы я мало занимался тобой, – закончил я срывающимся от волнения голосом.
Анна бросила окурок на влажную землю и раздавила его ногой. Ее губы озарила улыбка.
– Никто не просит, чтобы ты занимался мной, Орельен. Теперь я уже большая девочка. Папа умер более двенадцати лет назад…
Мне с трудом удалось скрыть изумление. Анна мало говорила о нашем отце, а я привык уважать ее молчание. Но, насколько мне было известно, сейчас она впервые провела непосредственную параллель между его кончиной и своей хронической депрессией.
– Ты с кем-нибудь встречаешься?
Подобный вопрос, заданный в разговоре между братом и сестрой, должен подразумевать любовную связь. Но в нашей беседе он подразумевал визиты к врачу.
– Я встречаюсь с психологом, хорошим психологом. В отличие от своих коллег он, похоже, не валяется на диване доктора Фрейда.
Говорила ли Анна мне правду или просто хотела успокоить меня и положить конец разговору на эту тему? Не знаю.
Я давно разучился понимать свою сестру, а она была способна на любую ложь.
В течение двух дней, которые я провел в Марне, состояние моего деда оставалось стабильно-тяжелым, что позволяло предполагать худшее.
В воскресенье вечером, сидя в поезде, увозившем меня обратно в Париж, я почти физически почувствовал, как отрываюсь от своего прошлого, как оставляю его позади, словно старую кожу. Однако последующие недели вновь бросили меня в минувшие годы, причем так грубо, так жестоко, что моя жизнь разлетелась вдребезги.
Глава 4
Мой дед умер через четыре дня после приступа, в понедельник вечером. Когда он отходил в мир иной, Алиса была рядом с ним. Она отказалась покидать больницу, пусть даже на несколько часов, словно боялась, что в роковой момент Абуэло окажется в одиночестве. Он так и не пришел в себя. Полагаю, так даже лучше, поскольку ему наверняка было бы невыносимо чувствовать себя – как морально, так и физически – «сдавшимся», если говорить словами Анны.
Последние две недели перед пасхальными каникулами я жил словно в густом тумане. Я все делал в каком-то замедленном темпе, мое тело казалось мне ватным. В лицее я больше не придерживался той программы, которую сам для себя разработал. Со своими учениками я изучал два любимых фильма моего деда: «Красные башмачки» Майкла Пауэлла и «Босоногая графиня» Манкевича[10]10
Майкл Пауэлл (1905–1990) – английский кинорежиссер, сценарист и продюсер. «Красные башмачки» (1954 г.) – фильм о мире балета. Джозеф Лео Манкевич (1909–1993) – американский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Обладатель двух премий «Оскар». В фильме «Босоногая графиня» рассказывается о танцовщице из испанского кабаре, добившейся головокружительного успеха в Голливуде. (Примеч. пер.)
[Закрыть]. Благодаря этим шедеврам у меня создавалось впечатление, будто мой дед все еще рядом со мной.
Каждый вечер я звонил Анне. Мне хотелось вновь сблизиться с ней. Я был уверен, что смерть Абуэло поможет нам обрести друг друга. Мы долго разговаривали, как в прежние времена. Необязательно на самые трудные и важные темы. Просто звук ее голоса, такого звонкого и ласкового, как мелодия виолончели, вызывал во мне необыкновенный прилив сил.
В тот период я несколько раз звонил матери по телефону. Мои родители развелись в 1986 году, за год до того, как Теодор, мой отец, узнал, что у него рак. Через четыре года после смерти отца, когда я уже заканчивал учебу, мать уехала в Экс-ан-Прованс, где завершила свою карьеру физиотерапевта. Я никогда не был с ней особенно близок, и мой ежемесячный телефонный звонок можно было по праву рассматривать как дополнительное задание к уроку, в виде наказания. Несколько раз летом я вместе с Виктором ездил к ней на юг Франции, чтобы она не потеряла связи с внуком.
Похороны Абуэло произвели на меня тягостное впечатление. Пришло слишком много народу, поскольку мой дед был одним из тех, кого в провинции до сих пор называют «именитыми гражданами». Траурная церемония показалась мне совершенно безликой. После кладбища Алиса хотела организовать нечто вроде угощения, чтобы отблагодарить пришедших на похороны людей. Я нашел эту идею нелепой и бессмысленной, но ничего ей не возразил. Во время поминального приема я бродил в глубине сада, куря сигарету за сигаретой.
Моя мать тоже приехала на похороны, но в основном потому, что это давало ей возможность увидеться с нами, с Анной и со мной. Сказать, что моя мама никогда не ценила своего свекра, было бы неправильно. Еще одна таинственная зона в истории нашей семьи, но эту тайну я не стремился ни разгадать, ни понять, словно их интимные отношения меня не касались. Мать много говорила о себе, утверждала, что у Анны все хорошо, поскольку «она прекрасно выглядит», и не смогла удержаться, чтобы в сотый раз не упрекнуть меня за то, что я позволил Виктору уехать вместе с его матерью в Италию. У меня не было сил произносить высокопарные речи, чтобы хоть как-то защититься, и я с видом блаженного отвечал на все ее упреки, стараясь сдерживать иронию, чтобы она не подумала, будто я над ней издеваюсь.
Когда я долго не виделся с мамой, меня охватывало чувство вины. Я говорил себе, что объективно она была скорее хорошей матерью и что ни в чем серьезном я не мог ее упрекнуть. Когда я был маленьким, она была центром моей крохотной эгоистической вселенной, которую я создал вокруг себя. Я находил маму нежной и внимательной, но когда углублялся в самоанализ, начинал понимать, что она любила нас, когда мы были маленькими, поскольку могла формировать наши характеры по своему желанию. Но чем старше мы становились, тем откровеннее она считала нас нежелательными элементами, существами, которые нарушали ее жизненное пространство и лишали ее кислорода. Впрочем, я полагаю, что именно по этим причинам она в конце концов рассталась с моим отцом, а вовсе не потому, что между ними возникло непонимание.
Однако чувство вины никогда не мучило меня слишком долго. Мне достаточно было в очередной раз проанализировать эгоцентризм матери и ее вечные упреки, чтобы убедить себя: без нее мне лучше и в наших встречах нет особой необходимости.
Моего отца не было в живых, и мы с Анной становились прямыми наследниками Абуэло. К нашему великому облегчению, Абуэло выделил Алисе долю имущества, которой она могла свободно распоряжаться, что, впрочем, не явилось для нас неожиданностью. Нам даже в голову не приходило продать фамильный дом, но Алиса сказала нам, что не желает больше в нем жить.
– В любом случае этот дом слишком велик для меня.
Алиса хотела снять квартиру в городе, возможно, обосноваться в Шалоне, что было более удобно для женщины ее возраста.
Мы решили, что сдадим дом, после того как вывезем личные вещи деда и Алисы. Отложив в сторону несколько предметов, которыми мы с Анной особо дорожили, мы наняли одного книготорговца и двух антикваров, чтобы те сделали опись, а потом продали тонны книг и ценных предметов, хранившихся в доме. Однако разобрать фильмотеку Абуэло Алиса доверила только мне.
– Никто не сумеет справиться с этой задачей лучше тебя. Анри хотел бы, чтобы этим занимался ты.
Учитывая сложившиеся обстоятельства и работу, которую мне предстояло выполнить, мы с Лоранс решили изменить наши планы и договорились, что Виктор не приедет во время каникул на неделю ко мне, но проведет больше времени во Франции следующим летом.
Как ни странно, мне казалось, что Анна выглядит умиротворенной, словно смерть Абуэло вырвала ее из болезненной депрессии, в которой она так давно пребывала. Но не было ли это поверхностным ощущением, психологическим воздействием, призванным успокоить меня?
В первую неделю каникул, когда все старались навести в доме порядок, я решил рассортировать фильмы, о чем просила меня Алиса. Эту работу я рассматривал не как тяжелую повинность, а скорее как прощальный привет деду, с которым меня объединяла одна и та же страсть.
Полагаю, я не сразу оценил масштабы предстоящей работы. Абуэло отвел для своих фильмов целых две комнаты. Первая была просторным кабинетом с обшитыми деревянными панелями стенами, вдоль которых стояли высокие, до самого потолка, стеллажи. На этих стеллажах лежали бобины. Прилегающую к кабинету комнату, бывшую некогда маленькой гостиной, дед переоборудовал в кинозал с удобными кожаными креслами, прочно закрепленным на стене экраном и двумя кинопроекторами, оставившими в конце концов глубокие следы на столе, на котором они стояли.
Сначала я отделил семейную хронику от классических голливудских фильмов, снятых на тридцатипятимиллиметровой пленке. Я даже подумал, что голливудские фильмы можно будет передать в дар моему лицею и показывать учащимся подготовительных курсов, избравшим своей специальностью кино. Однако после каждого показа эти фильмы требовали реставрации. Кроме того, они считались утраченными и поэтому не могли стать частью фильмотеки учебного заведения. В конце концов я решил отдать их в специализированный магазин, торгующий фильмами, снятыми на серебросодержащих пленках. Я знал, что до сих пор есть любители-коллекционеры, охотящиеся за подобными фильмами.
Оставшаяся часть коллекции состояла в основном из фильмов, снятых на восьмимиллиметровых пленках или пленках Super 8. Очень скоро я с огромным сожалением увидел, что бо́льшая часть этих фильмов находится в плачевном состоянии. Пленки с серебросодержащими носителями имели тенденцию становиться жесткими и покрываться тонким слоем уксусной кислоты. Тогда я отложил в сторону наиболее поврежденные бобины.
Но все равно их осталось слишком много. Мне понадобилось бы несколько недель, чтобы просмотреть все фильмы. На протяжении многих лет мой дед придерживался строгой классификации, отмечая на коробках даты и события. Однако некоторые пометки были слишком лаконичными или непонятными. В отдельных коробках лежали обрывки пленки, не представлявшие никакой ценности. Разумеется, у меня не было причин их хранить.
Даже если на каждой из этих бобин была запечатлена часть нашей семейной истории, я должен был забыть о сентиментальности и оставить лишь технически пригодный фонд. В то время было просто немыслимо перевести столько фильмов на носители DVD. Итак, мне пришлось снова заняться сортировкой.
Я буквально не вылезал из этой комнаты, просматривая, классифицируя, расставляя, надписывая, а порой и реставрируя фильмы своего деда. Иногда в полутемную маленькую гостиную приходила Анна. Мы молча сидели, зачарованные мелькавшими перед глазами картинами нашего детства, успокаивающим шумом пленки, крутящейся на подающих бобинах.
Одним из двух антикваров, описывавших по нашей просьбе имущество, был некий Долабелла, владевший в Шалоне магазином с прекрасной репутацией. Как сообщила мне Алиса, он был старинным приятелем моего деда. Я никогда прежде не видел этого человека и должен сказать, что его внешность с первого взгляда произвела на меня сильное впечатление. Долабелле было около семидесяти лет. Несмотря на легкую сутулость, у него были широкие плечи и импозантная осанка. Седая бородка и густые брови делали его похожим на Мишеля Лонсдаля[11]11
Мишель Лонсдаль (Майкл Лонсдейл) (р. 1932) – французский актер театра и кино. (Примеч. пер.)
[Закрыть]. Долабелла говорил размеренно, как метроном, но отнюдь не монотонно, длинными фразами, не запинаясь ни на мгновение, четко, уверенно. Создавалось впечатление, что он говорил так, как другие пишут.
На третий или четвертый день наших «раскопок» произошел случай, который я, вероятно, оставил бы без внимания, если бы не сделал на следующий день некое «открытие». После обеда я вышел из дома, чтобы купить сигареты, но вскоре заметил, что забыл бумажник, и повернул назад. Я был уверен, что оставил дверь кабинета, где находились фильмы, широко открытой. Сначала я подумал, что в кабинет зашла Алиса, но, войдя туда, увидел, что Долабелла внимательно рассматривает бобины, лежащие в столе. Он явно искал нечто конкретное. Старик тут же обернулся. Вид у него был смущенный, словно его поймали на месте преступления, и в свое оправдание он пролепетал несколько неразборчивых слов, что резко контрастировало с его обычной уверенностью.
– Вы что-нибудь ищете? – спросил я без всяких задних мыслей, тоном, в котором не было ни тени осуждения.
За эти несколько секунд Долабелла обрел прежнюю уверенность в себе.
– Я не смог удержаться и решил в последний раз взглянуть на эту удивительную коллекцию. Простите, мне надо приниматься за работу… Этот дом похож на настоящий музей…
Итак, на следующий день, ближе к вечеру я нашел этот фильм. Не стану утверждать, что он был спрятан, однако учитывая то место, где он лежал – задвинутый, если можно так выразиться, под самый потолок, на верхней полке, среди старых бобин, – его невозможно было обнаружить случайно.
На серой, мятой, разорванной в некоторых местах картонной коробке не было никаких надписей, кроме названия фирмы-изготовителя пленки. Однако к ней был приклеен, причем явно недавно, стикер. Я сразу же узнал тонкий, изящный почерк деда.
Элоиза Турнье
01 93 74 22 68
Ни этого имени, ни телефона я не знал. Конечно, меня заинтриговал этот стикер, служивший единственным опознавательным знаком, но еще сильнее я удивился, когда внутри картонной коробки увидел небольшую алюминиевую цилиндрическую коробку с маркой киностудии «Пате», в которой лежала девяти с половиной миллиметровая пленка. Это был достаточно редко встречающийся любительский формат. Однако некоторые радетели за «чистоту» кинематографа высоко ценили его, поскольку он позволял в совершенстве использовать всю поверхность пленки. Действительно, перфорационные отверстия были расположены между кадрами, а не по бокам, что не вело к потере пространства.