Текст книги "Черноводье"
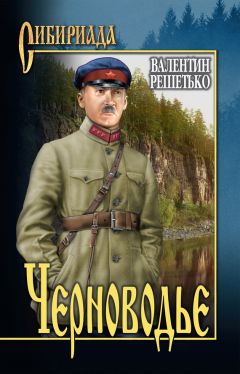
Автор книги: Валентин Решетько
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Глава 8
Прошли еще одни сутки… Стоит тихая северная ночь. Полупрозрачная белая муть накрыла все вокруг. Ближе к утру сильно посвежело. Тусклым серебром светилась неоглядная обская гладь. И где-то на ее просторах затерялся «Дедушка» с двумя баржами на буксире.
Стоявший с вечера в карауле Иван изрядно продрог. Тонкой корочкой льда покрылась влажная палуба. Поскользнувшийся на льду Кужелев вполголоса выругался и привалился спиной к перегородке. Илья Степанович, напарник Ивана по караулу, сидя пристроился на своем излюбленном месте, втиснув крупное тело в широкую щель ограждения. Они давно уже не вели между собой разговоров: все пересказано за эти дни. На барже было тихо, только из трюма иногда доносились приглушенные сонные вскрики.
Распустив черный шлейф дыма, астматически хрипел «Дедушка». За его низкой кормой натужно горбились маслянистые валы, поднятые пароходными плицами. Вдруг откуда-то издалека, с едва видневшегося берега, подул слабый ветерок. Он с каждым мгновением набирал силу. Речная гладь вначале потемнела, затем побежали невысокие волны, и вот уже она, как взбесившийся медведь, встала на дыбы. Со все нарастающей силой волны били и били в борта ветхой баржи. Она с надсадой скрипела и угрожающе потрескивала. Нос ее стал тяжело зарываться в воду. Неистовый ветер играючи баловался со сцепленным караваном, буксирный трос, напряженно вытянувшись, гудел на низкой басовой струне.
Из каюты выбежал шкипер. Оглядевшись, он испуганно перекрестился:
– Мать честна! Сроду такой бури не видел!
Ложась всем телом на ветер, широко расставив ноги, старик медленно двинулся к трапу, который вел на рулевую площадку. Ухватившись за бревно, он всем телом навалился на него. Толстое правило, как живое, вырывалось из рук старого шкипера. Перекрывая шум ветра, он закричал:
– Иван, помоги!
Кужелев посмотрел на винтовку и бросил ее Илье Степановичу:
– Подержи!
В следующее мгновение он был уже наверху. Вдвоем с Ерофеем Кузьмичом с трудом усмирили руль, нос баржи перестал рыскать.
Шкипер прочно закрепил правило веревкой, облегченно вздохнул и огляделся. И тут же, перекрывая шум ветра, испуганно прокричал Кужелеву в ухо:
– Беда, паря! Пароход сносит на берег. Разобьем баржишки о топляки.
В эту же секунду высокая черная труба парохода окуталась белой шапкой пара. Над рекой поплыл низкий рев гудка. На носу парохода суетливо метались человеческие фигуры. Перекрывая шум бури, с грохотом, лязгом пошла в воду якорная цепь и, вытянувшись, застыла напряженной прямой линией. Старик со страхом и надеждой смотрел на нее.
– Кажись, заякорились! – наконец облегченно проговорил Ерофей Кузьмич.
– Е-е-е-тя, е-е-те-чка, ы-о-чек! – из трюма донесся жуткий женский голос. От этого нечеловеческого крика, похожего на звериный вой, мороз пробежал по коже. Шкипер сдернул шапку с головы и испуганно перекрестился:
– Кто-то помер, царствие ему небесное! – проговорил старик дрожащим голосом.
У Кужелева оборвалось сердце, он узнал голос Анны Жамовой… Анна стояла на коленях и держала перед собой завернутого в ватное одеяльце ребенка. Его головка, запрокинувшись, безвольно повисла. Открытый глаз отблескивал в предрассветных сумерках. Казалось, он напряженно и укоризненно рассматривал обступивших Анну людей. Старая Марфа подошла к стоящей на коленях матери и решительно забрала сверток в руки.
– Дай-кось сюда, Анна. Нехорошо так-то. Глазки надоть закрыть, – старуха, тяжело опираясь рукой о тюк, опустилась на колени рядом с Анной. Она осторожно положила сверток на пол, потом так же медленно полезла рукой в глубокий карман на юбке. Долго шарила там и достала тряпицу, завязанную в маленький узелок. Развязав, она взяла из него два медных пятака. Затем так же обстоятельно и неторопливо завязала узелок и положила его в бездонный карман. Склонилась и осторожно, мягким движением прикрыла веки мертвому ребенку, положив на них медные пятаки. Марфа стояла на коленях и буднично приговаривала:
– Успокоилась душенька… Может, оно и к лучшему. – Затем подняла глаза к потолку и истово осенила себя размашистым крестом: – Прими, Отец наш, в Царствие Твое небесное безгрешную душеньку раба Твоего, младенца Петра.
Погребальным звоном младенцу Петру были тяжелые удары волн о деревянные борта баржи да заунывный свист ветра и шум разбушевавшейся стихии. Вокруг двух коленопреклоненных женщин молча стояли обитатели трюма.
Рядом с умершим братишкой лежал Васятка, он тяжело, с хрипом дышал, разметавшись от нестерпимого жара, который полыхал в его худеньком тельце.
Буря трепала караван больше двух суток. Наконец на третьи погода стала улучшаться. Ветер, свирепствовавший все это время, стал порывистым; он то стихал на короткое время, то кидался на баржу с новой силой. Только на третьи сутки измученная Анна забылась чутким сном. В один из таких кратких перерывов затишья к Васятке вернулось сознание. Его бил жестокий озноб. Почувствовав перемену в сыне, Анна сразу же проснулась. Она привстала и заботливо поправила на сыне одеяло. Вася тихо позвал:
– Мама!
– Что, сыночек? Тебе лучше?
– Лучше… Только холодно сильно! – У мальчика стучали зубы. – Мама! – хрипел Васятка, зовя мать.
– Что, Василек? Что, родненький? – У женщины дрожали губы и лихорадочно блестели глаза.
– Мама, если я помру, как Петька, не закапывайте меня в ямку раздетого, – мальчик говорил отрешенно, равнодушно, точно речь шла не о нем, а о ком-то постороннем. – Как холодно, мама!
Анна чуть не задохнулась от приступа острого, невыносимого горя. Прерывающимся голосом она сказала:
– Что ты, Васенька, Петька спит. Вон видишь! – И она показала рукой на завернутый трупик ребенка, лежащий в головах.
– Помер Петька, я знаю! – прохрипел Васятка. Он тяжело дышал и едва слышно прошептал: – Ой, как болит у меня в грудке, – и потерял сознание.
…Днем ветер окончательно стих. Обь успокоилась, на голубом небе полыхало яркое солнце. От бури не осталось и следа. А поздним вечером, на закате солнца, умер и Васятка. Анна не плакала. Она лежала рядом с мертвым сыном на полу трюма и крепко прижимала его к своему телу. Лежала молча, без движения, словно и сама умерла. Малолетняя Танька сидела рядом с матерью и трясла ее за плечи.
– Мамка, мамка! – плакала взахлеб девчонка. – Мамка, не умирай!
Давясь слезами, Настя оторвала Таньку от матери. Крепившаяся все это время, она не могла больше выдержать и горько плакала. Из глаз у нее бежали слезы. Плакала не навзрыд и не в голос, как плачут деревенские бабы, а молча – сквозь сжатые зубы едва слышно прорывался мучительный стон.
– Не плачь, Танька, не плачь! – раскачиваясь, Настя всем телом прижимала к себе сестренку. – Не умрет мамка. Тяжело ей щас, пусть побудет одна!
Измученная Анна действительно была сейчас далеко, далеко… Ее сознание отказывалось воспринимать случившееся. Не будь воспоминаний – этой спасительной ниточки, – в которые погрузилась Анна, ее сердце могло бы не выдержать.
…И был тогда теплый весенний день. Ослепительно светило солнце. В деревне праздник – разгульная, веселая Пасха. Молодежь в ярких одеждах толпами гуляет по улице. Слышна веселая перекличка звонкоголосых гармоней. На просторной поляне, уже заросшей молодой зеленой травкой, установлена высокая качель. И она, Анна, качается в паре с Лаврентием. Молодой крепкий парнина белозубо улыбается ей. Рот обрамляет мягкая бородка, с хмельными от радости глазами, он все раскачивает и раскачивает свою напарницу. Праздничный сарафан бешеной птицей вьется вокруг девичьих ног.
Ей кажется: еще мгновение, и вся одежда слетит с нее… Анна испуганно сжимает колени, пытаясь прижать, поймать подол, а сарафан вырывается, как живой, и стелется за девушкой ярким весенним цветком.
А Лаврентий все наддает и наддает, качель взлетает все выше и выше. У Анны сладко и в то же время больно замирает сердце. Оно то бьется жарким комочком где-то около горла, то, скатившись вниз, неприятно холодит грудь…
Как больно бьется сердце. Как нестерпимо больно оно стучит в груди. Только воспоминания и были для Анны спасительной ниточкой.
Как всегда водится по русскому обычаю, в доме, где лежит покойник, было тихо. Не слышно шума молодежи, прекратились бесконечные долгие старушечьи разговоры. Только тяжелые вздохи да укоризненно-ворчливый голос старухи Марфы:
– Ос-по-ди, где же Твоя справедливость? Почему не прибираш нас, старух? Почему забираш к Себе малых да несмышленых?
Им бы жить да жить! Ос-по-ди!
Акулина Щетинина сквозь слезы смотрела на закаменевшую в горе подругу и с ужасом переводила взгляд на больную дочь: Клава уже не поднималась. Здесь же, на мешке с одеждой, сидел мужик со свалявшейся русой бородкой и потухшими, глубоко ввалившимися глазами. Мощные руки, способные одним ударом свалить быка, бессильно подрагивали на коленях. В глазах у него мучительный вопрос: как сейчас этими сильными руками можно кого-нибудь поддержать, куда их подставить, если родные дети растаяли у тебя на глазах? Скупые мужские слезинки одна за другой катились из глаз. Лаврентии смахнул их пальцем и глухо сказал:
– Ладно, Анна, убиваться. Все одно ничем не поможешь. Хоронить надо. Петька – третий день пошел, как лежит. О живых думать надо. Слышь, мать!
Он тронул неподвижно лежащую жену за плечо:
– Пойду к коменданту насчет похорон!
Лаврентий встал с мешка, какое-то время еще потоптался на месте, не решаясь двинуться к выходу, наконец – тронулся.
– Ну ладно, пошел я.
Он осторожно протиснулся через толпившихся рядом людей и пошел к лестнице, которая вела из трюма на палубу баржи. Жалобно скрипнули деревянные ступени под свинцово-тяжелыми шагами. Почерневший за эти дни Лаврентий с глубоко ввалившимися глазами вышел на палубу и зажмурился от яркого солнца. Он прикрыл глаза широкой ладонью и, немного привыкнув к свету, огляделся. На дежурстве стоял односельчанин – Иван Кужелев.
Лаврентий окликнул Кужелева.
– Иван, позови коменданта!
– Че, дядя Лаврентий?
– Похоронить ребят надо.
– Каких ребят? Кто еще помер?
– Васятка.
– Ва-сят-ка?! – растерянно проговорил Иван.
– Васятка, – с горечью подтвердил Лаврентий.
Жалость перехватила парню горло. Он растерянно кашлянул, руки бессильно опустились, приклад винтовки глухо стукнул о деревянную палубу. Иван повернулся и медленно пошел в каюту.
Из двери вышел комендант и подошел к ограждению.
Хиленький заборчик, слепленный на скорую руку из некромленных досок. И крепости в нем нет никакой, а держит людей крепче любого капкана. По одну сторону его – свобода, по другую – неволя. И никуда не сбежишь, никуда не спрячешься! Кругом – вода, кругом – тайга.
– В чем дело? – спросил комендант, его серые глаза холодно смотрели на Лаврентия.
– А то не знаешь, начальник! – усмехнулся невесело Лаврентий. – Похоронить покойников надо!
Стуков не обратил внимания на реплику Лаврентия, посмотрел на воду, на пароход, стоящий невдалеке, по которому уже суетливо бегали матросы.
– Можно и похоронить, погода успокоилась. Только торопитесь, скоро отплываем.
Старуха Марфа обряжала покойника. Когда она стала заворачивать мальчика в холстину, Анна остановила ее.
– Погоди маленько, Марфа! – попросила она старуху бесцветным голосом и обратилась к дочери: – Настя, достань Васино пальтишко, валеночки, шапку.
– Зачем, мама?
– Найди, дочка, найди! Это последняя воля его! – у Анны блеснули на глазах слезинки.
Настя развязала узел и достала теплые детские вещи. Анна подала их старухе:
– Обряди, Марфа, Васю в теплую одежду.
Старуха молча развернула мальчика и стала его одевать.
– Пусти теперь, я прощусь с ним! – Анна склонилась над сыном, заботливо завязала под подбородком завязки на шапке и припала к нему, целуя его в лоб, в щеки. Простившись, она подняла голову.
– Простись, Настя, с Васей!
Девушка склонилась и поцеловала мальчика в лобик.
Мать поискала глазами младшую дочь.
– Таня, простись с братиком!
Девочка отшатнулась в сторону:
– Нет! Нет! Не-е-т! – громким голосом закричала она и забилась в истерике.
– Не трогай, Анна, ее, – проговорила тихо Марфа. – Родимчик может хватить. Тяжело это детской душе.
Анна снова поцеловала сына, припала к нему, замерев на короткое время, потом поднялась и сказала старухе:
– Заворачивай, Марфа.
Старик шкипер выливал воду из широкой плоскодонной лодки, которую придерживал за веревку Илья Степанович.
– Ты гляди, как нахлюпало! – не переставая удивляться, ворчал Ерофей Кузьмич, выливая старым ведерком воду из лодки. Наконец показалось дно. Он взял тряпку и обтер ею борта, высушил дно, выжимая тряпку за борт. Старик придирчиво оглядел сухую лодку и удовлетворенно сказал:
– Слава тебе осподи, кажись, все!
Илья Степанович посмотрел на старика.
– Отступился от нас Бог, дед. Ты посмотри кругом, че делается, и Бога выгнали, и людей с места сорвали…
– Чего хорошего, с насиженных мест людей на погибель гнать! – согласился с милиционером Ерофей Кузьмич. Он вставил греби в уключины и полез на низкий борт баржи.
Из трюма показался Лаврентий Жамов с белым свертком на руках, за ним поднялась Настя с таким же свертком – только поменьше, за ней Анна и еще несколько человек.
Лаврентий подошел к краю баржи и растерянно смотрел на бьющуюся о борт лодку.
– Погоди, дядя Лаврентий, я сейчас! – крикнул Иван Кужелев. Он быстро отставил винтовку в сторону и не мешкая спрыгнул в лодку.
– Ты почему с поста ушел? Кто разрешил! – закричал нервно комендант.
– Не кричи, – угрюмо пробасил Жамов, – покойники здесь лежат.
Стуков притих.
Иван принял сверток из рук Жамова, затем второй от Насти и положил их рядом на дно в носу лодки. Помог спуститься Анне и Насте. Спустился и Лаврентий, лодка тяжело осела в воду.
Иван крикнул:
– Бросай веревку, Илья Степанович!
– Куда бросай, – спохватился шкипер, – а лопату, топор?!
Старик быстро подошел к пожарному щиту, который был закреплен на стене каюты, и снял с него инструменты.
– Спасибо, Ерофей Кузьмич! – Иван благодарно посмотрел на старого шкипера и уложил все в лодку. Потом он заботливо усадил женщин, Лаврентий пристроился в корме и взял в руки кормовое весло. После того как все угнездились в лодке, Иван поднял голову и сказал коменданту:
– Слышь, комендант, я сам себе разрешил. – Кужелев показал на Настю рукой: – Жена это моя перед людьми и Богом, понял! Пушку можешь забрать, она мне больше не нужна, – и с горечью закончил: – Я бы даже тебе не пожелал закапывать собственных детей в землю…
Как-то неловко закашлялся старый шкипер:
– Вот, елова шишка, простыл, че ли? – и вытер заскорузлой ладонью бородатое лицо. У хмурого Ильи Степановича в глазах мелькнул и тут же потух живой огонек.
Иван взял в руки гребь и оттолкнулся от баржи. Васю и Петю похоронили на высоком обском берегу под могучей раскидистой сосной. Насыпав небольшой песчаный холмик, Кужелев аккуратно прихлопал его лопатой и сделал затес на корявом стволе. На белой древесине выступило множество капель живицы – чистых и прозрачных, как слезинки. По затесу Иван старательно вывел химическим карандашом:
«Здесь похоронены Петр Жамов – от роду шесть месяцев, Василий Жамов – от роду восьми лет. – Потом подумал маленько, взял топор и вырезал выше затеса небольшой крестик. Отошел от сосны к скорбно стоящим Жамовым, взял Настю за руку и совсем не к месту сказал:
– Благослови, дядя Лаврентий, и ты, тетка Анна. Прости, что повенчала нас с Настей эта могилка.
Глава 9
Плывет «Дедушка», напрягается из последних силенок, выгребая против мощной стрежи великой сибирской реки, а над ним полыхает закатная заря. Велика Сибирь, велика река Обь, и ничтожно мал буксирный пароходик с двумя баржонками на буксире, затерявшийся на безоглядных просторах половодья.
Облитый багровым светом северной зари, в каюте за столом сидит комендант Стуков. Он, как всегда, наглухо застегнут, складки гимнастерки аккуратно расправлены. Русые волосы, отросшие за этот месяц, зачесаны на правую сторону, выше левого уха прямой пробор. Перед ним на столе лежит лист белой бумаги, вырванный из тетради, рядом с листом – карандаш. Он глубоко задумался и рассеянным взглядом смотрит в маленькое квадратное окно – иллюминатор.
Снаружи сквозь тонкие переборки каюты доносятся надоедливые визгливые крики больших чаек – мартынов. Вкривь и вкось прочерчивая черными линиями мутное и грязное стекло иллюминатора, проносятся утиные стаи. Стоит теплая весенняя погода. Стуков тяжело вздохнул и отвел глаза. В каюте, кроме коменданта, был только Марат Вахитов. Он со скучающим видом сидел на табуретке около железной печки. Все остальные милиционеры разбрелись по палубе, наслаждаясь погожим вечером.
– Чего сидишь в каюте? – спросил Стуков. Марат посмотрел на него черными раскосыми глазами и нехотя процедил сквозь зубы:
– Надоело, начальник, все надоело.
Комендант ничего не ответил Марату; да он и забыл про него. Его занимало другое: в инструкциях и устных распоряжениях вышестоящего начальства ничего не упоминалось о смерти конвоируемых им людей.
– Они думают – люди не мрут! – злится комендант. Ему, а не им придется отчитываться где-то на Васюгане в участковой комендатуре и сдать всех, находящихся под стражей, по списку.
«Нехорошо, – думает комендант. – Непорядок это!»
Любое, даже незначительное отступление от заведенных правил или пункта инструкции приносило ему почти физическую боль.
Тяжело вздохнув, он придвинул к себе тетрадный лист бумаги и вверху, строго посередине, написал слово «Акт». Затем, на строчку ниже – «на списание людей». И взял написанное в скобки. Надолго задумался и только потом неторопливо и обстоятельно начал писать. Буквы выводил медленно и старательно, склонив голову набок. Стуков был малограмотный.
«Сего дня, двадцать второво мая, на барже померло два человека, один Петр Жамов младенец шести с половиной месяцев от роду, второй Василий Жамов восьми годов от роду». Он вытер выступивший на лбу пот и поставил точку. На следующей строчке приписал: «В чем и расписались». Отступил еще ниже на строчку и старательно вывел: «Комендант В.С. Стуков», взял написанную фамилию в скобки. Рядом поставил крупную букву «С» и приделал к ней лихую зубчатку. Затем подчеркнул жирной чертой, точно посадил свою роспись на добротную деревянную лавку. Строчкой ниже у него появилось: «Милиционеры». Он посмотрел на Вахитова, потом на закрытую дверь и приписал столбиком: «Вахитов, Широких».
– Марат, иди распишись!
Вахитов встал с табуретки, подошел к столу и поставил свою закорючку в указанном месте, молча отошел и снова уселся на табуретку.
Стуков взял в руки акт, посмотрел на него и удовлетворенно улыбнулся.
– Вот теперь порядок! – Он повернулся на лавке и громко крикнул в открытую дверь: – Широких, зайди ненадолго ко мне в каюту!
Пожилой милиционер заглянул в дверь.
– Чего звал?
– Распишись в акте.
Илья Степанович подошел к столу, приставил к стене винтовку и взял листок. Долго читал, шевеля губами, при этом его пышные усы смешно подрагивали.
– Мрет народ! – тяжело вздохнул Илья Степанович. – Где приложиться-то?
Стуков ткнул пальцем в листок.
Милиционер положил лист бумаги на стол и написал крупными неровными буквами: «Широких». Расписавшись, он поднял голову и, чувствуя неловкость, как-то просительно заговорил:
– Ты, комендант, злобу-то на Ивана не держи. Ихнее дело молодое. Мы тут со стариком-шкипером поговорили. Он вместе со мной подежурит. Поди, недолго уже осталось…
– Не положено! – сухо ответил комендант. – Если нужно будет, я сам буду дежурить.
По лицу Стукова трудно было понять, сердится он или нет. Оно, как всегда, было холодное и бесстрастное.
– Делай как знаешь. Хозяин – барин! – смущенно проговорил милиционер и, не удержавшись, с интересом спросил: – Иван-то теперь как – вольный али ссыльный?
– Не мне решать. Да и хвост теперь у твоего дружка привязан. Жена за комендатурой, – не мог сдержать злорадной улыбки комендант.
– Н-да-а! – крякнул милиционер, взял винтовку и вышел из каюты.
Стуков взял акт в руки и положил его на край стола. Затем достал из папки амбарную книгу и развернул ее. В ней были переписаны все люди, которых ему было поручено конвоировать на спецпереселение. Он внимательно читал, переворачивая листы, взял карандаш и вычеркнул две фамилии, стоящие под номерами триста пятьдесят пять и триста пятьдесят шесть.
В трюме жизнь шла своим чередом. В углу, подальше от места, где расположились Жамовы и Щетинины, слышался приглушенный смех. Это молодежь сбилась в кучу около гармониста.
– Хватит вам, жеребцы, ржать! – строго прикрикнула старуха Марфа. – Ни стыда, прости господи, ни совести.
В трюме стало тише. Многие уже укладывались спать. Постелила постель и Анна. Они легли с Лаврентием и положили между собой Таньку. Анна крепко прижала к себе дочь и повернулась спиной к молодым. Это было все, что она могла предложить им в первую брачную ночь.
Иван и Настя тихо лежали за спиной матери. К удивлению Насти, Иван сразу уснул, как только лег. Настя прислушивалась к глубокому ровному дыханию мужа. Так мог спать только человек с абсолютно чистой совестью или человек, принявший для себя очень важное решение.
Настя осторожно гладила мужа, а из глаз у нее бежали слезы.
Да она и не думала их останавливать.
А пароход все скребся и скребся вверх по Оби. Остались за кормой древние русские поселения Сургут, Нижневартовск, село Александровское. В последний день мая, где-то между Александровским и Каргаском на высоком крутояре около маленького рыбацкого поселения похоронили Клаву Щетинину, вернее, оставили на берегу. И снова эта нелегкая работа легла на плечи Ивана Кужелева.
Приткнувшись к берегу, деловито пыхтел «Дедушка». На пологой косе под крутояром стояли немногочисленные жители, бегали любознательные и пронырливые ребятишки.
– Пашка, Пашка! – звонко кричал дружку белоголовый мальчишка. – Это какая баржа, однако, – третья?
– Не третья, а четвертая, вчерась третья была! – поправил его мальчишка, шмыгая облупившимся на солнце носом, и уверенно закончил: – Опять хоронить будут.
– А ты откуда знаешь? – пискнула маленькая девчушка, точно утенок переминаясь с ноги на ногу.
– Знаю, – ответил хозяин ярких веснушек. – Вот увидишь!
– Пашка! Вот я тебе, стервец, поговорю! – пригрозил мальчишке старик с непокрытой головой. Черные волосы его были густо побиты сединой, когда-то черные усы порыжели от табачного дыма. В углу рта старика дымилась прилипшая к губе махорочная самокрутка.
Пашка не удостоил взглядом деда. Он демонстративно отвернулся от него, заложил руки за спину и далеко цыкнул слюной сквозь зубы, стараясь попасть в булыжник, полузамытый в утрамбованный волнами песок.
С грохотом ткнулся в берег трап. Из ограждения вышел Иван Кужелев. Он нес перед собой детский трупик, завернутый в белую холстину. За ним шла Акулина Щетинина, следом – Михаил Грязнов и последним – Стуков. На барже не было видно ни единой живой души, кроме дежурившего милиционера.
Комендант торопился, и даже такие вынужденные задержки выводили его из себя. Он и теперь быстро обогнал процессию, подошел к жителям и спросил:
– Сельсовет есть?
– Нету сельсовета, начальник, – ответил угрюмо старик с непокрытой головой. – А покойника оставь. Мы привыкли, это уже третий будет… Приберем. Знать, человек, а не собачонка какая-нибудь, – закончил неодобрительно старик.
У Стукова оживились глаза, он облегченно вздохнул, не нужно было никому угрожать и никого просить. Подошедшему Кужелеву он приказал:
– Положи покойницу, жители похоронят!
Иван растерянно оглянулся, ища, куда положить свою ношу.
«Не на землю же!» – мелькнуло в голове у Ивана. Рядом стояла поленница дров. Иван облегченно вздохнул и осторожно положил Клаву на поленницу. Акулина припала к мертвой девочке и закаменела. И надо было плакать, а не плакалось. Все перегорело у нее внутри. Она просто цеплялась изо всех сил за дочь, словно хотела удержать ее своими руками.
– Быстрей, быстрей! – торопил Стуков. – Грязнов! Веди Щетинину на баржу!
Михаил подошел к Акулине и взял ее за плечо.
– Пошли.
Акулина молча обнимала свою мертвую дочь. Грязнов грубо рванул женщину за плечи. Акулина застонала и медленно выпрямилась. Она сухими страшными глазами смотрела на коменданта и тихо проговорила:
– Я проклинать тебя не буду. Не-е-т! Моего проклятья мало!
Вас сама земля проклянет!..
В первый летний день, погожий и теплый, полупрозрачный зеленый туман накрыл все вокруг. Это в одночасье брызнула зелень на залитых водой тальниках и на крутоярах, заросших смородиной и густым черемушником. В этот же день пароход пересек линию, где черные воды Васюгана упругой стеной напирали на светло-мутную Обь. Линия гнулась, дрожала от напряжения, точно канат в крепких руках противоборствующих команд.
Первым летним днем короткого сибирского лета свалилась бабка Марфа. Долго она крепилась, вынесла весеннюю непогоду и сырость – и вот свалилась. Услыхал, наверное, Всевышний молитвы старухи и решил прибрать ее.
Тихо лежала бабка Марфа. Она впервые за двадцать с лишним дней смогла вытянуться во весь свой маленький рост. Это сын с невесткой и сердобольные соседи ужались, насколько позволяла людская скученность, и освободили местечко для больной.
Марфа ничего не просила и ни на что не жаловалась. Ее старческие руки с кожей цвета старого пергамента, перевитые вспухшими темными жилами, с пальцами, изуродованными долголетним непрерывным трудом, покойно лежали поверх одеяла. Ефим сидел рядом с матерью и нежно гладил ее натруженные руки.
– Мама, тебе че-нибудь надо?
– Ничего мне, Ефимушка, не надо. Хватит… Нажилась, нечего Бога винить. Да и вам легше будет.
– Че ты говоришь, мама!
Старуха не обратила внимания на восклицание сына. На ее умиротворенном лице вдруг появилось легкое беспокойство. Пальцы судорожно заскребли одеяло.
Ефим с тревогой пригнулся к матери.
– Тяжело, сынок, так-то помирать. Не попрощалась я с родными могилками… Со стариком, с отцом, с матерью, – она строго и в то же время встревоженно смотрела на сына, и глаза ее, казалось, говорили: «Совестливый ты, Ефимушка! И тебе будет тяжело, если забудешь…» Даже перед смертью мать пыталась оградить сына от мук, которые терзали ее сердце.
Марфа тихо и требовательно проговорила:
– Ты поклонись, Ефим, слышишь, – поклонись родным могилкам в Лисьем Мысу. Моей могилы не будет, так ты отцу поклонись, деду с бабкой. Корень твой там, Ефим. Слышишь – корень. Не забывай… Обещай мне! – голос у Марфы совсем ослабел.
– Обещаю, мама!
Старуха облегченно вздохнула и тихо позвала:
– Марья!
– Че, мама? – склонилась над умирающей невестка.
– Смертное мое в узле возьмешь. Ты знаешь где. Пусть Евдокия Зеверова обрядит меня.
Мария припала к свекрови, захлебываясь слезами.
– Будет, будет, не гневи Бога! – попросила старуха едва слышимым умиротворенным голосом. – Отойдите теперя, помирать буду…
Марфу похоронили на берегу Васюгана. Ярко светило полуденное солнце. Белой кипенью цвели черемуховые берега. Отягощенные цветами ветви гнулись от слабого ветерка, и белые лепестки, точно нежные снежинки, медленно падали на черную влажную землю. В последний путь Марфу проводил Ефим с Марией да Иван Кужелев с Настей, больше на берег никого не пустили. Оправляя могильный холмик, Иван невесело пошутил:
– Скоро заправским могильщиком стану!
Затем он срубил две черемуховые палки, ободрал с них кору, и сложив крестом, намертво примотал их друг к другу тонким и гибким черемуховым прутом. Попробовал на крепость свое сооружение и воткнул крест в свежекопаную землю. И все тем же огрызком химического карандаша написал на перекладине – «М.К. Глушакова». Повернулся к Ефиму и спросил:
– Какого года рождения мать?
– Одна тыща восемьсот пятьдесят девятого, – ответил Ефим, а сам не отрываясь смотрел сквозь слезы на могильный холмик, точно хотел запомнить его на всю жизнь до мельчайших подробностей. Простоволосая Мария по-детски хлюпала носом, беспрестанно вытирая ладошкой бежавшие слезы.
– Кто сдох? – неожиданно рядом прозвучал тихий голос. Иван вздрогнул и удивленно обернулся. Сзади, в трех шагах от них, стоял невысокий худенький человек. Его широкоскулое узкоглазое лицо излучало столько доброты, столько неподдельного участия, что Иван, ошарашенный таким вопросом, хотел было грубо ответить, но остановился. Все с интересом смотрели на внезапно появившегося пришельца. Его голова была повязана грязной косынкой. На плечах – телогрейка, полы и рукава у которой блестели, словно сшитые из жести, до того они были засалены многолетней рыбьей слизью.
На ногах – такие же засаленные штаны, заправленные в кожаные бродни. По всей одежде ярко сверкала на солнце присохшая рыбья чешуя.
Иван сдержанно ответил, показав легким кивком головы в сторону Ефима:
– Его мать похоронили.
Человек сочувственно покачал головой и произнес тонким, почти детским голосом:
– Шибко плохо! Мой тоже баба сдох, дети – сдох. Шибко плохо. Савсем один! – Голос у пришельца дрогнул.
– Ты кто? Откуда взялся? – спросил Кужелев.
– А-а? Мой – Пашка… рыпак! Моя тут все знают. Чижапка – знают, Мыльджино – знают, Каргасок – знают, – с чувством собственного достоинства ответил низкорослый остяк и в свою очередь спросил:
– Твоя кто?
– Если бы знали! – ответил за всех Иван. – Ты вон у дяди спроси, который на барже сидит. Он тебе все объяснит!
– А-а! Твоя с парохода, – снова заговорил остяк и осуждающе закончил: – Пошто товара нет? Зачем пустой баржа?
– Это, Павел, она снаружи пустая, – угрюмо ответил Ефим Глушаков. – Внутри она полным-полнехонька, сесть негде, а ты говоришь – товара нет!
– О-е-е! – удивился остяк. – Зачем так много?
– Учить будут, Павел, – все так же мрачно продолжал говорить Ефим, – как светлую жисть на Васюгане построить. А то боятся, в потемках помрем!
С реки донесся резкий звук винтовочного выстрела.
– Слышишь, учитель уже зовет! – поддержал разговор Иван. – Боятся… Сбежим…
– Комендатура, че ли? – догадался вдруг Павел.
– Она самая! – ухмыльнулся Иван и, не удержавшись, подковырнул простодушного остяка. – А ты – молодец! Моя – знай, твоя – не знай, а сам чешешь, как по газете, – комендатура…
Павел улыбнулся и смущенно проговорил:
– Мой коменданта знает. Каргасок живет, хороший рыпак!
– Шибко большой начальник! – поддерживал безобидную игру с остяком Иван. Он взял лопату, очистил ее о траву и проговорил, ни к кому не обращаясь: – Пойдем, что ли?
Люди последний раз поклонились могиле и молча пошли к лодке.
Рядом с лодкой, привязанной тонким тросиком к черемуховому кусту, врезался носом в прибрежную топкую грязь тяжело груженный обласок.
– Вот это рыба! – присвистнул удивленный Иван. – Настя, посмотри, отродясь столько не видел!
В обласке почти до самых бортовых набоек лежала рыба. Жирно золотились на рыжем солнце снулые язи. Пятнистыми лентами вились в куче зубастые щуки и злыми змеиными глазами пучились на столпившихся около обласка людей. Один щуренок-травянка уже наполовину заглотил средних размеров ельца.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































