Текст книги "Черноводье"
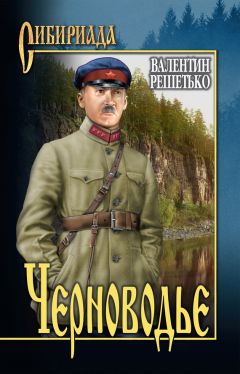
Автор книги: Валентин Решетько
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Талинин поднялся из каюты в ходовую рубку, поеживаясь от утренней свежести.
– Че, не спится? – спросил молоденький матрос, крепко держа руками штурвальное колесо.
– Не спится!
– Где уж тут спать, – посочувствовал матрос. – Вон какое на шее хозяйство.
Талинин промолчал, оглядывая залитые водой деревья на другой стороне реки и высокий крутояр, к которому плотно прижимало медленно плывущий караван. Река делала крутой поворот. Два берега, слившись в единую береговую линию, перед носом буксира, казалось, не хотели пропускать пароход с его грузом. Но он упорно скребся вперед, и берега нехотя расступались, пока караван судов не выплыл на прямой и широкий плес. В конце плеса, где близко к берегу подступал высокий осинник, дымились полузатухшие костры. Чем ближе подплывал караван, тем яснее можно было разглядеть на берегу все увеличивающееся число дымокуров. Хорошо было видно, как около костров прямо на земле спали люди. Виднелись навесы, крытые травой и берестой, беспорядочные раскопы, вкривь и вкось поваленные деревья. От красной свежевывернутой глины берег был похож на кровоточащую рану. Караван поравнялся с поселением. Некоторые люди проснулись, подняв головы от земли, они заспанными глазами провожали плывущий мимо буксир с баржами.
Молоденький матрос, смотревший на берег широко открытыми глазами, вдруг потянулся к веревке, чтобы дать пароходный гудок. Талинин резким движением перехватил руку рулевого и тихо со злостью сказал:
– Тихо, дурак, пусть спят!
Матрос испуганно бросил веревку.
В ходовую рубку вошел капитан. Он тоже с интересом смотрел на берег, затем, повернувшись к Талинину и показывая на оставшийся табор, спросил:
– Откуда они?
– Седельниковский район Омской области! – нехотя ответил комендант.
Молча, словно призрак, буксир с баржами прокрался мимо зарождавшегося селения. В трюмах спали еще тяжелым утренним сном. Свет, едва пробивавшийся в узкую щель приоткрытого люка, скупо освещал чрево баржи, набитой до отказа людьми. Они вскрикивали во сне, глухо стонали; плакали дети. От спертого зловонного воздуха слезились глаза, трудно было дышать.
Низко над горизонтом висело солнце. В утренней дымке зябко ежились деревья. Порывами налетал слабый ветерок, принося с собой свежий таежный запах. Медленно ползли речные километры по крутым васюганским поворотам и просторным плесам. Так незаметно доплыли до следующего поселения. Они были похожи, как близнецы-братья. Такой же заросший лесом берег… Поваленные деревья, беспорядочно слепленные на скорую руку шалаши и навесы. Только лагерь уже полностью проснулся. Дымились костры, роились люди. Увидев пароход, они высыпали на берег, разноголосо закричали, замахали руками. Перекрывая крики, вдруг раздался резкий, как удар кнута, продолжительный свист. Какой-то подросток влез на поваленное дерево и, заложив пальцы в рот, все свистел и свистел.
– Откуда… Чьи-и! – неслось с берега. Из трюма баржи полезли на палубу люди. Увидев на берегу своих собратьев, с баржи стали отвечать.
– Муромские мы… с Тевриза… – Послышался плач, матерки…
Вот так и появились на Васюгане первые селения: Тевриз, Муромка, Седельниково, Борисовка… И как изощренное издевательство над людьми: поселки – Новая Жизнь, Сталинка, Смелый.
Заметалась охрана. Побелел от ярости Стуков. Он выхватил револьвер и, ворвавшись в загородку, заорал:
– Вниз! Все вниз, падлюки-и!
За ним бросились остальные караульные. Они прикладами винтовок стали загонять спецпереселенцев обратно в трюм. Люди отчаянно сопротивлялись.
Талинин, напряженно застывший на буксирном мостике, вдруг скомандовал капитану:
– Гудок, быстро – гудок!
Капитан судорожно схватился за веревку и сильно потянул. Низкий, прерывистый рев сразу перекрыл весь шум.
Воспользовавшись мгновенной растерянностью, конвой быстро навел порядок и очистил палубу.
– Сволочи… Кровопийцы! – неслось из трюма. А пароход все ревел и ревел, оставляя за кормой очередное поселение.
Обалдевший от гудка Талинин ткнул в плечо капитана, показывая, что хватит гудеть. Капитан отпустил веревку, рев прекратился. Неестественная тишина опустилась на караван. Только за кормой парохода, приглушенным рокотом, слышались голоса людей. С берега донесся один выстрел, затем второй. Это уже поселковый комендант наводил у себя порядок.
Талинин взял в руки рупор и направил его в сторону барж. Металлический усиленный голос покатился по воде.
– Эй, на барже, мать вашу… Около поселков, мимо которых будем проплывать, трюмы задраивать! Поняли! – Талинин закончил свою речь отборнейшим матом и поставил рупор на место.
– Еще поселки будут? – спросил капитан.
– Будут. Еще много будет!
Показалось устье таежной речки. На мысу, где сливаются воды речки и Васюгана, стояли две женщины, тяжело опираясь на весла. Около их ног, навострив уши, сидела черно-белая лайка. Женщины молча смотрели на проплывающий по реке пароход.
Глава 11
Небольшой поселок – Васюганский, в просторечии Белая церковь, – сонно млел под жарким июньским солнцем. Добротные, крепкие дома под круглыми тесовыми крышами и глухими заплотами вытянулись вдоль песчаного бугра, который круто обрывался к реке. Посреди склона, на песчаных осыпях, росла кучка могучих сосен. На самом высоком месте, заросшем зеленой травой, высилась деревянная церковь. Ее маковка, увенчанная золотистым крестом, гордо взметнулась над васюганской тайгой. Деревенская улица была пустынна. Один край ее упирался в светлый сосновый бор, другой конец – в небольшую рощу из могучих кедров. Точно кто нарочно, для устрашения, вырвал кусок дремучего урмана и перенес его на край деревни: смотрите, мол, люди – не шутите со мной… А шутки с тайгой действительно плохи… Там тебе никто не поможет, можешь кричать, биться головой о могучие стволы деревьев, не докричишься, не допросишься.
В конце деревенской улицы, почти упершейся в сосновый бор, около дома сидела молодая женщина. Она отрешенно смотрела в заречную даль.
«Осподи, – думала она, – че же делается на белом свете? И сюда добрались! Только жить начали с Ефимом – и все прахом. Скотину забрали, деверя, Ивана Смурова, из собственного двухэтажного дома выгнали. Живет теперь с тестем и маленькими детьми в амбаре».
Серафима мучительно смотрит на полноводную реку; в глазах у нее немой укор, словно та ее в чем-то обманула, хотя и давно они породнились.
«Как не родная!.. – продолжала думать женщина. – Троих с Ефимом сюда привезли да двоих уже здесь народили! И все прахом, все прахом!» – горько шепчет Серафима. Мысли в воспаленном мозгу васюганской жительницы запутались в тугой клубок. Сидит она и распутывает его, да только распутать не может; не может найти ответы на свои вопросы. А память услужливо подсовывает то одно воспоминание, то другое. Особенно отчетливо вспомнилось общее собрание, которое провел ранней весной приехавший из района уполномоченный, молодой мужчина в одежде военного образца.
– Откуда они только берутся, молодые да ранние! – морщится Серафима. – И язык у них подвешен ловко! – а в памяти неотвязно звучит молодой звонкий голос:
– Сейчас по всей России трудовое крестьянство под руководством партии большевиков объединяется в колхозы, чтобы легче было построить светлую жизнь нашим детям и внукам.
Бабий галдеж на собрании, и сквозь шум голос деверя:
– У нас, гражданин хороший, земли нет, хлеб мы отродясь не сеяли, а как нащет покоса – тоже обчие?
– Общие!
– Дак на хрена я их чистил. Для дяди?! Для кого скотину кормил? Вот ты говоришь, значить, внукам светлую жисть построить! А я для кого стараюсь, для них и стараюсь; в могилу с собой ниче не возьму…
– Не только своим, а всем, понимаешь – всем!
– Как не понять, – горько и беспомощно улыбается Иван. – У других, значить, внуков – дедов нет… Гни, значить, хрип, Иван, не знама для кого!
В голосе уполномоченного послышался металл:
– Хоть вы добровольно, товарищ Смуров, отдали свой двухэтажный дом и вступили в колхоз, рассуждения у вас отсталые. Это пройдет, привыкнете! – неожиданно улыбнулся одними губами уполномоченный.
– Вот и я говорю, – безнадежно махнул рукой Смуров. – Жену, значить, отдай дяде…
– А ты, дядя Иван, не расстраивайся, – сквозь возникший в комнате гул прорвался задорный звонкий голос. – Вали к соседке, щас все обчее и бабы тоже!..
Серафима вспоминает горькие слова Ивана, сказанные брату после собрания.
– Так что, Ефим, и дом отдашь, и жену… С имя тягаться – все одно, что против ветра плевать. Себе в рожу и угодишь!
– Да-а! – задумчиво тянет Ефим. – И Туруханский край вспомнил, и комендатуру…
«Осподи! – думает женщина. – Что за комендатура, что за напасть на нашу голову… А мужик вроде ничего, смиреный! – продолжает думать она о коменданте, который приехал в деревню вскоре после собрания и поселился в доме Смурова. – Всю весну прожил, мухи, кажись, не обидит. Только глаза какие-то неулыбчивые», – ежится Серафима.
Вдруг где-то внизу по реке загудел пароход. Серафима подняла голову. Из ограды вышел Ефим. Задрав кверху бороду, он чутко прислушивался к тревожному гудку парохода. Из других дворов тоже стали выходить люди. Они тихо присаживались на лавки, которые были вкопаны в землю около ворот каждого дома. Ни смеха, ни шутливой переклички – васюганцы молчали.
За крутояром, где выпадает протока-прямица, показался обласок. Серафима прикрыла ладошкой глаза от солнца, всматриваясь в приближающихся путников:
– Однако, тунгусы едут! – проговорила она. – Пойду чай ставить. Долго Анисьи не было. Уж не случилось ли че с имя. Все же бабы… Одни в тайге! – закончила говорить Серафима, поднимаясь с лавки.
Из-под горы выскочила остроухая черно-белая лайка и привычно подбежала к лавке, виляя хвостом.
– Хорошая собака, хорошая! – ласково проговорил Ефим, гладя Тайжо по голове. Та, заскулив от восторга, встала на задние лапы и попыталась лизнуть лицо у мужика.
– Ну-ну! – осадил Ефим ластившуюся собаку, отталкивая ее от себя. Следом за собакой из-под горы вышла старуха. Опираясь на палку, она зорко огляделась и уверенно пошла к лавке, на которой сидел Ефим.
– Здорово, Ефим! Однако, в гости пришла, новости узнать, говори…
– Хреновые новости, Анисья! – проговорил хмуро мужик, подвигаясь на лавке, давая место старухе. Присела на лавку и Агафья. Ефим посмотрел на молодуху, у которой из-под куртки выпирала высокая грудь, и, усмехнувшись, проговорил, кивая на Агафью:
– Замуж надо, ишь добра сколько накопила!
Агафья покраснела и смущенно опустила глаза.
– Нато, нато! – закивала головой старуха. – Хороший девка, шибко хороший! – и с сожалением закончила: – Топтать нато девку, а некому.
– Потопчут! – усмехнулся Ефим. – Вон сколько народу везут! – Он повернулся к старухе. – Пока сидишь на своем Игомьяке, страсть че кругом деется! На той неделе, на чворе, где я рыбачу, знаешь? Ниже по Васюгану…
– Пошто не знаю – знаю! – кивнула головой Анисья.
– Дак вот, рядом с чвором на берегу реки народу высадили тьма… Прямо на пустой берег… Ездил я третьеводни, сети там у меня стоят. Дак комендант тамошний не подпустил, взашей выгнал. Проваливай, грит, отсель!.. Еле сети свои выручил.
– Осподи, че только на белом свете деется! – вздыхает вышедшая из ограды Серафима. Она поздоровалась с подругой: – Хоть к тебе, Анисья, на Игомьяк беги. – И, не сдержавшись, сообщает Анисье уже известные новости. Обращаясь непосредственно к старухе, говорит:
– Деверя из дома выгнали; сейчас в анбаре с ребятишками живет. Окна прорубил, печь сложил…
И не первый раз удивляется Анисья:
– Пошто выгнали?
– Хрен ее знат зачем! – проговорил хмуро Ефим, царапая свою дремучую бороду.
Серафима кивнула головой в сторону мужа:
– Переживат!
– Ну, замолола! – Ефим со злостью покосился на жену. – Че, прикажешь песни петь? Говори спасибо, что коровенку оставили.
– Уж че правда, то правда! – деланно пропела Серафима и, перейдя на деловой тон, неожиданно предложила: – Пошли в избу, чай стынет!
На реке опять тревожно проревел гудок парохода. Уже было слышно, что он петляет в васюганских изгибах совсем недалеко от поселка. Напряженно застыв, жители повернули головы, ожидая появления парохода из-за речного поворота. Наконец из густого тальника острым шилом проткнулся черный нос буксира. Следом показался грязно-коричневый корпус, низкая корма, за которой натужно горбились высокие волны. Они чередой уходили назад, пока не разбивались о тупоносые баржи. Баржи подминали под себя стоячие волны, поднятые колесами парохода, точно старый паровой утюг, старательно разглаживали взбаламученную речную поверхность.
Душно. Лаврентий сидел на тюке белья, привалившись спиной к обшарпанной переборке трюма. На его побледневшем и осунувшемся лице жили только одни глаза, да и в тех чувствовалась обреченность и смертельная усталость от той безысходности и страшной равнодушной силы, которая топчет их, не разбирая, дети это или старики.
Вдруг его внимание привлек невнятный полубезумный голос. Лаврентий повернул голову и увидел Прокопия Зеверова, стоящего на коленях. Его рыжая голова была взлохмачена, глаза блестели.
Он яростно грозил кулаком:
– Чтоб вы все передохли, сволочи. А тебе, Стуков, гадина ты ползучая, самому такие муки испытать, какие нам достались!
«Да-а, довели народ…» – подумал Лаврентий, глядя на мечущегося мужика.
– Зря ты, Прокопий, разоряешься! – неожиданно спокойным голосом проговорил Лаврентий. Это был снова Жамов с холодными и ясными глазами. – Не виноват Стуков, да и не в нем дело. Слышь, сосед, не в нем!
– Ну кто, кто – виноват? Объясни – если умный такой!
Лаврентий будто не слышал яростного вопроса Прокопия и продолжал говорить, точно убеждая самого себя, спокойно и медленно.
– Я все время думаю об этим. Вот нам щас плохо, мы и говорим – Стуков виноват. Конечно, он тут рядом, постоянно глаза мозолит. Он трюм закрывает, он хлеб дает когда хочет и сколько хочет… Значить, ясно, он, харя собачья, во всем виноват.
– Ну а кто же еще?! – яростно вопрошал Прокопий.
– А ты сам смикить, пораскинь мозгами: кто такой Стуков – блоха кусучая, сволочь мелкая! А за его спиной знашь сколько голов? И первый Талинин… Помнишь, как он сказал в Чижапке, когда пришел к нам на баржу. Я, говорит, вам царь и бог. И не будет у вас власти, кромя моей! Так вот, он врет! Над ним тоже есть свой царь и бог. И боится он его до смерти, хуже, чем мы Стукова. И так, Прокопий, до самого верха… А уж тот, на самом юру который, тот действительно царь и бог. Тот знает все… А ты – Стуков, Стуков. Стуков че, гнида вонючая он и боле ничего.
– Тять, а тять! Гляди, деревня. Да хорошая какая, и церковь высокая! – позвала отца Танька.
На зов дочери Лаврентий поднял голову и увидел, что Танька и другие ребятишки расковыряли рассохшийся борт баржи и прильнули глазами к узкой щели. Он с кряхтением поднялся и с трудом протиснулся к ребятишкам.
– Ну-ка подвинься, дай посмотрю! – попросил он дочь.
Танька отодвинулась. Лаврентий прильнул глазом к щели. Яркий свет ослепил. Он ничего не видел от набежавших на глаза слез. Немного привыкнув к свету и протерев слезы кулаком, он наконец увидел высокий песчаный яр, по которому наискосок вверх тянулась дорога. У подножия яра, на берегу реки стояло большое строение, крытое потемневшим тесом. Посредине склона, немного выше крыши строения, чудом цеплялись за песок мощными обнаженными корнями несколько могучих сосен. Вдоль яра вытянулись в ниточку десятка полтора домов, а перед домами на самом высоком месте, заросшем зеленой травой, стояла церковь, обшитая светлым тесом.
– Вот она, Белая церковь! – медленно проговорил Лаврентий. – Значит, скоро высаживать будут. – Он с интересом смотрел на проплывающую мимо деревню. Около каждого дома стояли и сидели люди, застыв в напряженных позах. Словно и не люди, а каменные изваяния провожали взглядом караван судов. Лаврентий отстранился от щели. Яркий луч солнца, ворвавшись в щель узким пучком, разрезал густой сумрак трюма. Он выхватывал то блестящий глаз, то свалявшееся грязное тряпье, пока не застыл на сморщенной старческой руке.
Старуха Евдокия Зеверова после похорон своей новой подруги, Марфы Глушаковой, тоже не поднималась с постели. Она жадно смотрела на солнечный свет, пробивающийся через дырявый борт баржи.
– Коля! – позвала она сына слабым голосом. Сидевший неподалеку Николай встрепенулся и подошел к матери.
– Ты звала, мама?
– Сядь, посиди маленько со мной! – Она взяла сына за руку и стала тихонько гладить его пальцы.
Николай почувствовал, какая холодная рука у матери. В порыве жалости он прижал слабенькую старческую руку к своей груди, словно пытался отогреть ее, влить в нее собственные силы. Рука Евдокии дрогнула едва заметно в ответ.
– Коля, я свое отжила, а вам с Прокопием тут жить… Слышь, сынок!..
– Слышу, мама!
Старуха отвела глаза от ярко светящейся щели на борту баржи и с болью в голосе проговорила:
– Не видать мне больше летичка!
– Ты че, соседка! – участливо проговорил Лаврентий. – Не седни завтра приедем. Уже Белую церковь прошли!
– Осподи, быстрее бы! – почти со стоном проговорила старуха и попросила сына: – Коля, сыграй мою любимую; сил нету терпеть.
– Щас, мама! – заторопился Николай и взял в руки гармонь. Парень расправил ремень и растянул меха. Солнечный луч разрезал их пополам, высветив яркие цветы на них; ослепительными звездочками блеснули перламутровые лады. И полилась грустная песня, сначала тихая, потом все громче и громче…
То не ветер ветку клонит,
Не дубравушка шумит.
То мое, мое сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит.
Евдокия лежала тихо. По ее дряблым посеревшим щекам бежали слезы. Кипели слезы на глазах и у сына.
Жители Васюгана молчаливо провожали взглядом караван барж, по-воровски кравшийся мимо деревни. Они с удивлением слушали, как откуда-то, словно из-под земли, доносились светлые звуки гармони.
– Да какие же они враги! – невольно вырвалось у Серафимы.
– Нашла врагов… Там же больше половины малолетних и стариков. На погибель везут… – яростно проговорил Ефим.
– Вот и я говорю! – словно оправдываясь, ответила мужу Серафима. И тут же накинулась на него. – Че расселся, зови гостей в избу, чай совсем простынет!
Кузьмич, в неизменной шапке из собачьей шкуры, стоял на мостике и внимательно слушал доносившуюся из трюма песню. Палуба на барже была пуста, если не считать караульного Вахитова, чей рост едва превышал высоту винтовки. Старик не любил этого конвоира за его постоянную злобу к людям. Он пренебрежительно следил за мотающимся по палубе человеком, не скрывая ехидной ухмылки:
«…Вот уж правда в народе говорится: чем мошка ни мельче, тем злее кусает!..» – Старый шкипер отвел глаза от конвойного и с высоты мостика стал оглядывать берега.
Вода в реке стояла высокая, самый разгар половодья. По всем приметам, отметил про себя старик, пошла земляная вода. Вдруг на перилах мостика неожиданно появилась синица-трясогузка. Просеменив тонкими ножками по отполированной ладонями доске, она остановилась и, покачиваясь, склонила головку набок, настороженно следила черной бусинкой глаза за человеком. Старик едва заметно пошевелился. Синичка цвиликнула: «Чей ты?» – и, стремительно сорвавшись с перил, полетела над водой в сторону берега.
Он долго следил за ныряющим полетом пташки, пока она не скрылась в просвете прибрежного тальника, за которым виднелись огромные пространства, залитые водой.
«Ну и водищи, ну и водищи!.. – не переставал ахать старый шкипер. – Не кажная плисточка без роздыху пролетит над водой! – подумал он о недавней гостье. – Благодатный край, язви его; и рыба, и ягоды…»
И так не вязались солнечный теплый день, наполненный птичьим гамом, беспредельная лива с низко торчавшими над водой островками, покрытыми свежей зеленью молодой травы, и эти черные зловещие баржи, трюмы которых по самый верх забиты горем и человеческим страданием…
Талинин спал на скамейке на верхней палубе буксира. Сказалась напряженная неделя на пересыльном пункте в поселке Чижапка. Он долго крепился, но сон буквально валил его с ног. Наконец комендант лег и приказал матросу – рулевому разбудить его, когда пройдут Белую церковь. Рулевой, молодой парень со свисающими длинными волосами на засаленный воротник форменной куртки, провожая глазами уплывающую назад опрятную деревеньку с высокой церковью, пробурчал под нос:
– Уже пора, наверное?! – Он высунулся в открытый иллюминатор и негромко окликнул: – Эй, начальник, прошли Белую церковь!
Талинин проснулся сразу, но еще немного полежал с закрытыми глазами, наслаждаясь теплым свежим воздухом, прислушиваясь к доносившемуся с берега птичьему гаму, и только потом открыл глаза. Тяжело вздохнув, он опустил ноги со скамейки на палубу и сел, поматывая со сна головой.
Сильное течение прижимало баржи к крутому берегу. Так что в некоторых местах округлая корма их, зацепив свисающие к воде ветки черемушника, подминала их под себя или вырывала с корнем. Старый буксир жалобно поскрипывал от напряжения деревянным корпусом, едва двигаясь вверх по реке. Наконец, выбравшись из крутого поворота, пароход облегченно вздохнул и, накрывшись белой шапкой пара, весело зашлепал колесными плицами по воде. Перед караваном открылся просторный плес, в конце которого синела тайга, близко подступившая к самому берегу.
Наверное, в сотый раз комендант вытащил из планшетки аккуратно сложенную кальку с уже потертыми сгибами и развернул ее. На черной ленте реки нанизаны красные бусинки. Это были помечены места высадки спецпереселенцев. Рядом с красным квадратом стояла цифра. Палец Талинина нашел на кальке поселок Васюганский, и от него медленно пополз по речным извилинам и прямой линии плеса, и в конце его уткнулся в красный квадрат, рядом с которым была написана цифра «шесть».
Из рубки вышел капитан и присел на скамейку рядом с комендантом. Талинин быстро свернул кальку и положил ее в планшетку.
Капитан усмехнулся:
– Да не нужны мне твои секреты!
– Не положено! – хмуро заметил заспанный комендант.
– Не положено, так не положено, – проговорил капитан. – Только секреты твои на берегу остаются, на виду у всех!
Талинин промолчал, словно не слышал реплики капитана, и, вставая со скамейки, сказал:
– В конце плеса, на самом берегу стоит затесанная ель. Там и пристанем… – и, словно успокаивая себя, негромко проговорил: – Мимо не пройдем… Комендант поселка со своим помощником уже давно нас ждут. – Он медленно двинулся по палубе буксира, подошел к ее краю и взялся руками за леерное ограждение.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































