Текст книги "Замыкающий (сборник)"
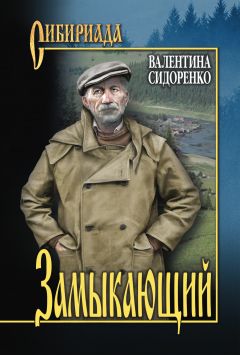
Автор книги: Валентина Сидоренко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Данилыч глянул вверх; поодаль сох куст краснотала. Примечал Данилыч много раз и в природе, и в жизни людской, как выдыхается молодое и сильное, не успев еще хлебнуть всего, повидать и пережить всего, как следует. Вроде все дано для жизни. А живучести нет. Вон, далеко ли отсюда, в шестьдесят первом году парень повесился. Вышел с поезда утром, видать, окно было – не пускали пассажирский, и повесился на сосне. Молодой, красивый… На тропе лежал потом, – казалось, дремлет молодец, соколиное что-то в нем было. Ветер волосы шевелил… И все на нем с иголочки, ладное все. Видать, давно задумал… Вот какое лихо свернуло его?! Две беды сильно крутят человека – это Данилыч признавал – любовь и совесть. Чтоб от совести – больно молод был паренек, рано еще от совести было вешаться, от любви – больно хорош собой. Хотя кто его знает… Данилыч обернулся к спутнику.
– Долго еще? – спросил паренек.
– Но… пристал?
– Нет, чем дальше, тем лучше.
– Но-но. Учишься?
– Учусь.
– На собак брехать?
– Всему помаленьку.
Данилыч согласно кивнул головой и буркнул:
– Потащимся. Покель жара не сморила.
Шагал Данилыч легко и ровно, смолоду на ноги норовист. Еще в малолетстве такого стрекача давал, никто за ним не угонится. Места эти Данилыч знает как пять своих пальцев. До войны путейцем был – и лесничал здесь и помрет здесь. Симу он заметил еще совсем молоденькой. Он уже Марину из села взял, а Сима напротив тестьего двора жила. Тихая-тихая девка была, глаза в землю, румяная, косы до пояса.
– Серафима, нашла жениха-то?
Зальется до ушей краской, помолчит и бегом от него. Платочек только мелькает цветастенький. За Виктора замуж вышла и бабою не осмелела. На гулянье Мотя пляшет, частушки кричит, мужиков задирает. А Сима сядет в уголочек – тихонькая. Ни слова не скажет, все глаз со своего Витеньки не сводит. А свет в глазах лучистый, ласковый…
Не сказать, что любил уж ее Данилыч. Он хорошо с Мариной жил. Не врал, не бегал по чужим дворам. А просто помнил, что живет вот в селе такая Сима. Серафима Волкова… Есть такая… И с войны когда пришел, сразу о ней спросил. Сказали, получила похоронку на Витю. Осталась одна с Васей. И помогал ей немного. То завернет дровец исколоть, то мяса принесет; они с Мариной боровичков держали, так, по мелочи… Просто без задней мысли, как о сестре думал… Марину схоронил по чести. Уж когда стал думать с Симой сойтись! Ан нет! Добро помнит, помогает, а сойтись – нет. Не стариковское, говорит, это дело, Данилыч, женихаться… Мотя, Мотюшка зудит.
Тут Данилыч наткнулся на ободранный куст волчьего лыка.
– Здрасте, батюшка, – пробормотал он. – Ободрали, значит!
– Чего? – спросил Студент.
– Да так, – вздохнул Данилыч, – куст вон ободрали. Городская, видать, бабенка на красоту польстилась. Ну ничего… Даст он ей… прочиститься… Покажет он ей свой норов.
Жалко Данилычу куста волчьего лыка. Красивый он. Злой, но красивый. Как зацветет – царевич. А ягода крупная, красная. Аппетитная на вид, и словно позументом куст отделяет. Поднимется ли он теперь? Ведь один на всю округу. Они, цари-то, что у людей, что в природе, поодиночке живут…
– Ох ты, господи!.. – Данилыч пошарил в карманах. Он всегда брал с собой множество тесемок и тряпку. Выбрал одну из них поярче и завязал на кусту бантиком. Не бог весть какая метка, а помогает. – Выздоравливай…
Студент шел следом за стариком и был очень доволен жизнью. Осенью ему исполнится двадцать один год, он заканчивает технический вуз, считает себя неглупым, достаточно образованным и вообще неплохим человеком. Главное его удовольствие состояло в этом дремотно-солнечном дне, в этих сопках, нравилась ему даже суховатая осанистая спина Данилыча, предстоящая ночь у костра, под открытым звездным небом. Больше всего, конечно, ему нравилось, что он проживет этот день не на родительской даче, которая ему давно «приелась», вместе с сиропчиками, малиновым вареньем и семейными выходами за грибами в истоптанный, чахлый и людный лесок. Мать обидится, но переживет. Студент с удовольствием вспомнил низкорослую, устойчивую, как тумбочка, свою родительницу; ее широкое, сдобное лицо с зоркими, насмешливыми глазами. Студент любит мать. Она, конечно, и в молодости не была красивой, зато всегда была умна. Мать всегда знала, что ей надо, и четко определяла себе цель. Папа слабак. Мать вертит им, как веретушкой. Она хорошо поняла, что нужно папе, когда он влюбился в свою Викторию, слабую, грустную и одинокую. Она купила папе долгожданную машину. Мать не хотела покупать ее раньше, боясь, что отец увлечется автомобилем больше, чем семьей. Теперь папа днями лежит под машиной. Мама варит малиновое варенье. Слабая, грустная одинокая Виктория сидит у своего окошка и льет свои слезы. Простенько и со вкусом…
Они шли вдоль подошвы темной от кедрача, с крутой каменистой пролысиной наверху, сопки. День расходился, набирал жаркую веселую силу. Живое, высокое, с синим подсветом небо, ясное и необъятное, тоже сулило просторную и долгую радость. Студент считал, что характером и повадками он выдался в отца. Свою влюбчивость в женщин он считал пороком, но втайне гордился этим. Он долго был влюблен в Светку с пятого курса. Ему нравилось в ней все, даже то, что она курит, и голос с хрипотцой, и вечный ее темный, грубой вязки свитер, от него тогда отдавало чуть сигаретами, чуть-чуть духами и чуть легким запахом ее тела. Жалко ее почему-то. Ему еще нравилась Лариска из их подъезда, полная и мягкая, с русыми шелковыми волосами. Но звездой его теперешней жизни, конечно, стала Ирэн… Смуглая, узкая, сероглазая. Шоколадные плечи. Тонкорукая… Студенту показалось, что в ушах его мелодично и грустно звенят браслеты, которые Ирэн снимала в ту ночь с запястий. У него загорелись щеки. Он вспомнил ее, их ночь на даче. Сирень в сизом молоке тумана, фиалковый запах тонкой ее рубашки… Он вспомнил, как на нее оглядываются на танцах, когда она идет вровень с ним, в белом брючном костюме, шапка тяжелых кудрей на голове…
«Я, наверно, женюсь на ней, – подумал он. – Светка, конечно, обидится, но что делать, коли она так померкла… Да и не может быть, чтобы Ирэн не понравилась матери. Уж что-что, а у родительницы вкус безупречный».
– Хорошо, что ты у меня такой жалостливый, – сказала она ему о Светке, – но жалость быстро пройдет, а эта, с позволения сказать, девочка, быстро потеряет формы, постареет. Что ты будешь делать тогда? Тебе не кажется, что именно тогда бросать ее будет жестоко. А? Милый мой сын!.. Тогда, а не сейчас, когда она еще в состоянии найти себе пару. Помни, жалость всегда обернется жестокостью…
Да, у матери убийственная логика…
Студент не заметил, как наступил на шляпку белой поганки, поскользнулся и упал. Неловко упал, на спину, горбовик вдавился в хребет. Студент охнул, и словно эхо холодным и нежным голосом вздохнуло ему вослед. Наверху в лучистой проталине неба потягивалось, как молодая кошка, хорошенькое взбитое облачко. Оно было легкое и очень выразительное, словно добрый и ясный знак. Студент засмеялся. Пестрая ореховка пролетела низко и скрылась в сизой шапке кедра. Свистнул неподалеку бурундук, и откуда-то сильно, будто только что после дождя, потянуло смолистой и свежей хвоей. Студент почесал спину об угол горбовика и вдруг понял, откуда тянет. Он уткнулся носом в мох, влажный и такой удушливый, что на миг помутилось у него сознание. Такая глубь почудилась ему. Пахнувшая неведомой жизнью, иным миром, бездонная, безвестная глубь.
Данилыч обернулся.
– Земля, что ль, не держит?
– Данилыч, на охоту ходишь? – спросил Студент.
Старик усмехнулся, растоптал ногою блеклый мухомор.
– Тута не только зверья, мух уже повытравили. Спасибо, хоть ягода кое-где осталася.
– А зимой что делаете?
– Чего, чего! Языки чешем. Сказки сочиняем. Про ведьмяку.
– Проживает?
– А как же. Ночи темные, долгие. Простор великий. Разгуляться есть где. Вот она и кружит. Приезжай познакомиться. Иной раз такая тоска накатит – чуть с ею в пляс не пускайся…
– То-то мне все чудится…
Данилыч нахмурился. Сердито сплюнул.
– Ишь ты, чудится ему! С перепою, что ли, грамотей?
Ромка прислуживал с большим удовольствием. Намотав на руки Мотино полотенце, он повис над столом, изогнувшись, как оранжевая пиявка. Чуприна у него, смазанная чем-то жирным, гладенько примазана до затылка. А затылок всклочен, словно инеем обметан от подушки.
– Прошу-с… Летний, так сказать, сервис. Только что из Парижа… – улыбка у Ромки русская, щедрая, белозубая.
– Тебе бы, Роман, в хороший ресторан, – снисходительно посоветовал Гридень, – лакеем.
– Я бы пошел, да культура у нас еще низкая… В Москве за шик почитают в ресторане служить. А у нас еще не доросли. У нас еще стесняются… Одна супруга меня понимала… Да-с… родная душа…
– Че же ты ее кинул-то, душу родную, – съязвила Мотя. – Поди, все глазоньки проглядела, тебя ожидаючи.
– Ага! Проглядят они сейчас… – ответил ей Гридень. – Будь спокойна, Матрена Степановна, моя стерва, она ничего не проглядит…
– Ой, да как же ты с ней живешь-то?
– А чего их менять? Только время терять. Они сейчас все одинаковые… Это анекдот есть такой…
Ромка вынул из заднего кармашка записную книжку, ткнул в нее ручкой. Он не сводил с Гридня восторженных глаз. Даже походкой стал подражать ему.
На столе стояли две бутылки водки, новехоньких, блестящих, с экспортной этикеткой, горкой – зеленый лук с крупными головками и уже уплотненными стрелками ботвы, мелкие розовые помидоры, пяток яиц вкрутую, шмат прошлогоднего желтоватого сала – Мотя из подполья достала, сырки плавленые и пара банок рыбных консервов.
– Ам-мпулу! – заказал Гридень, раздумав рассказывать анекдот.
– Будет сделано-с. – Ромка птицей взметнулся над столом и в момент стоял, готовый с распочатой бутылкой.
Мотя стригла Коляньку у печи. На голову Коляньки надета кастрюля, по круглому ободку которой Мотя и корнала внука.
– Панка что-то припоздала, – заметила она, – че ж это она так? Да сиди ты, не дрыгайся! Обрежу ухо, будешь знать.
– Колет! – тонко пожаловался Колянька.
– Поколет да перестанет. Ишь ты нежный какой. – Мотя сняла кастрюлю с головы мальчонки, обтрясла ему ладонью шею, плечи. – Собери волосы и в печку брось. Понял?! Выбросишь на двор, птичка подымет, совьет гнездо. Покель волос там не согниет, все головушка будет болеть. – Мотя отряхнула подол черной своей юбки от волос и подалась в горницу.
Мотя мала росточком и лицом даже сейчас пригожа. Лицо у нее круглое, как каравай. Глаза искристые, с прозеленью. Сама круглобокая, напористая. Любит цветастые кофты и платки. И чтобы цветы покрупнее и поярче на платке были. Сима, та любит, чтобы все было чистенькое, беленькое да с кружавчиками, да чтоб крахмалено было. Простыни – и те крахмалит по праздникам. А Мотя вот любит все яркое да звонкое. И материться любит. Как трахнет матом, весь разъезд слышит. Сима уши руками заткнет:
– Ой, Мотя, тебя Бог наказал. У тебя с того и волосы повылазили.
– Волосами он, что ль, наказал меня? Куды тогда покойничков моих записывать?
– А это судьба! Такая у тебя судьба, – скажет Сима и вздохнет тяжело.
Волос у Моти нет. То ли от воды здешней – говорят, она без солей каких-то, то ли горя горького, а волосы все повылазили. Залысины по всей голове светят, а как скрутит Мотя волосенки на затылке, так этот скрут не больше наперстка получается.
– Матрена, – игривым голосом вдруг пропел Гридень.
Мотя высунула голову из горницы.
– Я вот возьму ухват и покажу те Матрену. Подружку нашел!
– Ну, Матрена Степановна, ну уважь, – нетерпеливо вмешался Герка.
Прибежал со двора Колянька, звонко и радостно сообщил:
– Панка петуха в подвале спрятала. Я сам видал в окошко. Она счас сюда придет.
Мотя сменила платок и вышла из горницы. Ромка предусмотрительно пододвинул ей стул. Сима нагнулась к Колянькиному уху:
– Ты что, Пана тебе за пряниками аж в Глубинку бегает. Забыл…
– А че она петуха прячет? Ему там темно!
– Да нужен нам ваш петух, – процедил сквозь зубы Герка. – У меня этими курями дома холодильник забит. Слава богу, жена в столовой работает.
– А че ж ты ее сюда не привез ни разу? – спросила Мотя. – Познакомились бы…
– А в лес дрова не возят, – подсказал Гридень и загоготал радостно.
Дверь тихонько приотворилась, и в дом боком долго протискивалась Пана. Она тянула дверь на себя и, едва протиснулась, предстала перед застольем.
– Приятного кушанья, – сказала Пана, сложив впереди коричневые кулаки.
Гридень бы, может, и прибрал к рукам ее петуха, как в прошлом году зарезал овцу у соседки Нади. Но Пану все побаивались. Так случилось, что все перепуталось во всей природе Паниной. Прежде всего ей положила природа явиться на свет девочкой, с задатками недюжинного мужика. Вымахала Пана с Герку ростом, кремнистая, увесистая, с могучими плечами. Лицо у нее грубое и тяжелое. Всю жизнь Пана ломила самую черную работу, и пенсию ей начислили хорошую, а вот мужика у нее сроду не было. Как ни норовила она быть женственнее, скрыть свои рост и силу – и сутулилась, и руки прятала, даже туфли тесные носила, и старалась говорить мало, чтобы голоса ее зычного не пугались, – однако так никому Пана и не приглянулась. Мужики ее побаивались. Пана росла вместе с Мотей в детском доме, где обе отличались крайней любопытностью. Только прыткая и сметливая Мотя из любой беды выворачивалась, а Пана – та за любопытство расплачивалась сполна. Из детдома Пана ушла на стройку и работала бы там по сию пору, не смани ее сюда Мотя. Они встретились случайно в городе, и Мотя, пожалев Пану, настрадавшуюся в сухмяной, черноробой одинокой своей судьбе, намекнула, что, мол, овдовел у них один на разъезде. Мужичок куценький, да в эти годы не любиться сходятся, и хозяйственный. Пана приехала погостить на разъезд, поглядеть мужика, а через неделю переехала сюда совсем, с чемоданами, плошками, ложками и с оранжевым петухом, к которому она привязалась без памяти.
Данилыч на Пану не польстился, но Пана так и обжилась здесь. Заняла брошенную квартиру, оштукатурила ее, печь переложила, крышу перекрасила и зажила с петухом, как барыня. Пенсию ей из города переводили, да еще она, как все на разъезде, подторговывала ягодами и орехами. Когда у Моти бывали гости, Пана являлась незамедлительно:
– Послушать людей добрых. Что там в городе деется. А то живем, как пеньки…
– Хлебнуть на дармовщину, – ядовито поправляла ее Мотя.
Пана и вправду за слушаньем про водку не забывала, пила наравне со всеми.
– Садись, Панок, – предложила Сима и пододвинула стул.
Пана по привычке оглядела стул, осторожно присела на краешек, но стул кракнул под ней. Кракнул и зашатался.
– Ромка, принеси из горницы покрепче стул, – заметила Мотя.
Колянька прыснул. Мотя шваркнула его по затылку. Колянька выскочил во двор.
Наконец все уселись.
Гридень разливал. Потом он поднял свою рюмку на свет к окну, взгляд его скользнул с рюмки в окно. Гридень облизнулся. Мимо окна проходила девица Рая. Видать, мужик ее отлучился куда-то, и Рая, выждав момент, решила показаться.
Она болезненно худа, на тощих бедрах болтаются пегие, обтрепанные внизу джинсы. Лицо остренькое, ярко крашенное, с желтоватой, словно рвущейся кожей. Сухие, горящие, жалобные кошачьи глаза. Рая зацепила Гридня взглядом и улыбнулась ему.
– Ого, – молвил Гридень, – это еще что за ведьма?
Ромка нехорошо вздохнул, выдрал перо с затылка.
– Царевна-лягушка, – объяснила Мотя, – вас дожидается, все в окно глядит, не явится ли королевич какой, не увезет ли с собою… Дураков много, – кивнула Мотя на Ромку.
Герка равнодушно выглянул в окно и сразу отвернулся.
– Тоска и два соска, – подтвердил Гридень негласно мнение своего дружка. – Ну, хмыкнем, обновим ягодный сезон. Культурно, массово, мероприятно…
Герка взял луковицу, целиком сунул в рот, жевал и морщился.
– Вот у меня сосед по площадке, – деловито начал Ромка. – Слушайте. Офицер, между прочим. Ну, там ездит, везет с собой барахло всякое. Ну вот привез женушке блузочку. Блузка – шик. Серебристая, литая такая. Носит – хвастается. Ну, а постирать-то ее как? Вестимо, не ведает. Бабы ей на работе – постирай ее в ацетоне. Слышите, – в ацетоне, мол, постирай. Ну, та раз-раз ее в ацетончик. А блузочка-то возьми и растворись.
– Ну?
– Да-с, был шик, и нету шика. Ну, жалко конечно. Повздыхала и вылила кофточку в унитаз. А муженек следом. Любил он почитать в этом месте. Грамотный, тэсэзать. Сидит, читает, закурил и бросил спичку в унитаз. Как пыхнет, как его подбросит… Рядышком машинка стиральная стояла, так он на нее и сел… Как птичка…
Пана взвизгнула и загоготала, широко раскрыв крупнозубый рот. Герка, сидевший рядом, вздрогнул, долго смотрел ей в рот, потом надулся и ухнул: «У-у-ух».
Пана продолжала смеяться, по-свойски ткнула его кулаком в плечо – сбесился, мол!
Герка потер плечо рукой, крякнул, но ничего не сказал. Гридень снисходительно улыбнулся и кивком поддержал Ромку – моя, мол, школа, да ничего. Ври в том же духе.
– Да, – удовлетворенно сказал Ромка, – едва не лишился всего хозяйства. Во цвете, тэсэзать, лет.
– Ты бы, Ромка, сбрехнул что поновей, – добродушно заметила Мотя. – Врет он все. Какой уж год он эту сказку читает. Я, дура, поверила, жалкую ее, офицершу. Спрашиваю ее, а у той глаза на лоб.
– Моть, да это выдумать как надо. Это такое придумать, – заступилась Сима. – Я бы век сидела, не удумала. Тебе бы, Ромка, писателем быть.
– Ой, ну ты скажешь тоже!..
– Значит так, вторую рюмку мы с вами поднимаем за открытие Олимпиады. Общественное событие в жизни нашего народа. Хмыкнем. Пусть играют. Нам не жалко. Давай, Матрена Степановна, ты бабушка сознательная, подымай.
Сима размякла, порозовела, глаза стали синющие. Она с жалостливым умилением смотрела на всех. И нет-нет да вздохнет о сыне: «Вот бы ему сейчас сюда, сел бы, посидел как человек, на людей бы посмотрел. А то ведь…»
– У тебя жена-то хорошая? – заботливо спросила она у Гридня.
– Баба мировая!
– Ты ее береги. Хорошая баба – золотая. Это полжизни, учти. И не меняй ее, не меняй. А то вот наткнесся на такую, как Рая, и скатисся. А мне ее жалко. Все кажется, что она плачет. Вот сижу, слышу: плачет кто-то. Пойду к ней. Рай, ты че? Она – ниче…
– Гляди-ко, заплакала твоя Рая! Пожалела. Тебя бы кто пожалел! Ишь баба какая сердечная.
– Моть, ты подумай, Моть, на чужой земле, без отца, без матери. А работа какая тяжелая!
– А ее кто сюда звал? Живи на своей земле, будь человеком только! Я ее слушать не могу, твою Раю. Гонору в ей, как в кобыле необъезженной. Ой, да как вы тут живете? Ой, да дикость какая. – Мотя всплеснула руками, передразнивая соседку. – Грязища-то у вас, немытые-то вы, нечищенные. У нас везде асфальт, везде песочек, все культурно, чистенько… Ну, живи культурно, чистенько. Че ж тебя сюда сослали? Поди, не за культуру шурнули…
– Анекдот слушайте, – встрял в разговор Ромка.
– Помолчи, балаболка. Послушай-ка лучше. Поучись жизни-то. – Сима жалостно вздохнула и перевела разговор.
– А работаешь-то ты где? – спросила она Гридня.
– Где, где! Слесарь я шестого разряда. Самая высокая квалификация. Ясненько. На меня начальство дунуть не могет. Уйду. С руками везде оторвут.
– Но и квартира своя?
– А как же, трехкомнатная. Отделал ее, как игрушечку. Пластик-паркет-плиточка! Ко мне приходил один щеголь. Гоголь-моголь, короче, из газетки нашей комбинатовской. Я его, значит, герой. Все он хотел психологию мою понять. Выпендриться там перед своими… что понял меня до конца, короче… героя… Он думал, проймет меня что, мол, только внешний у меня лоск, а в душе-то я – мякина… Ванька, короче… День вокруг меня провертелся. Ну, я че… я, извиняюсь, слесарь… Понял – нет, – ткнул Гридень Ромку в бок. Тот вышел из оцепенения и поспешно поддержал его кивками головы…
– Высшей, между прочим, квалификации. Я отбацал смену, отыграл ее на высшем уровне. Домой ко мне пошли… Он там мне че-то про литературу, про какие-то там направления бормочет… а я ему культурненько так хрусталь на стол, рюмашечки. Сервизик у меня японский. Проигрыватель у киндера моего…
– У кого? – не поняла Мотя.
– У старшего моего… у Митьки… проигрыватель у него стерео, мигнул ему… Он – поп-музыку. Сидим культурно, ужинаем. Холодильничка у меня два, и всегда в них лежит. А его дело это, чую, – уело… Начал он копать под меня… вот, мол, не заслоняет ли… это духовных интересов. А я ему – не заслоняет. Он думает, я мякина… Слесарь. А я так пальцем по рюмке. Звон такой… А-а – эх! У нас, говорю, политика такая. Основные направления. Благосостояние, говорю, у нас прежде всего… Так-то! Ты мне подай, подай мне… Чтобы полный ажур у меня был, а тогда спрашивай… Как это в сказке-то про бабку-ягу… Младший мой читает. Ты меня накорми, напои, сучка старая, в баньке выпари, спать уложи, а уж потом спрашивай… А не покормишь, дак во. – Гридень выставил на обозрение увесистую фигу. – Так-то… Не, вы тут на картошке своего пацана подымаете… Никакими благами, короче, не пользуетесь…
– Прописали про тебя в газете-то? – спросила Сима.
– А как же-с. Большую такую выдали статью. Называется «Один день Виктора Гриднева». Так-то… Да она у меня где-то здесь… Я ее захватил с собою. Так, нечаянно… – Гридень полез в горбовик и достал многотиражную газетку «Нефтехимик».
– Ну ладно. – Герка остановил приятеля. Он испугался, что Гридень начнет читать статью вслух. – Хватит. Давайте-ка выпьем…
– Молодец, молодец, – сердечно похвалила Гридня Серафима. – Ой, портрет хороший. Мотя, глянь, че… ишь, парень какой хороший.
– А у нас и картошки-то нет. На макаронах казенных да на ягоде, – вздохнула Мотя, разглядывая портрет Гридня в газете.
– А чо теряетесь? Вон у вас голое мясо бегает. Вон она, Рыжуха. Лиса ваша. Что от нее пользы-то? Че вы, охотитесь или ездите на ней? Закололи ее – киндер на всю неделю обеспечен.
Герка солидно поддержал:
– Освежую. Шкура на шапку пойдет.
– Че мелют, че мелют, – встряла в разговор Пана. – Ее и лису-то не едят, потому что на собаку похожа.
– Помалкивай, – остановил ее Герка, – а то петуха твоего сожрем. Нам все равно кого жрать. Он. – Герка похлопал себя по животу. – Не спрашивает, кто да откуда. Ему подай, и все.
Пана погрозила ему кулаком, – вот, мол, тока троньте, однако притихла.
Мотя стригла глазами за Ромкой и разговор прослушала. Ромка не сводил глаз с окна соседки.
– Предрассудки это, бабка, – напористо уговаривал Гридень. – Птицу едят, барана едят, во Франции лягушек едят. Тоже мясо. А собачина – самая полезная. Легкие лечит. В нашем районе бичи всех собак сожрали. И ни один не отравился.
– Мать, слышь, че они говорят-то? – испугалась Сима.
Мотя обернулась к куме.
– Ну спасибо. Хоть с бичами сравняли. А то живем тут, не знаем, кто мы есть.
Ромка со вздохом оторвался от окна.
– Вот когда я в «Сибири», в ресторане, калымил, ну играли мы там вечерами с парнями. Я на саксофоне. Там, точно знаю, один раз вместо баранины собаку подавали.
– Будет брехать-то. В ресторане он играл, в кабаке он едал! Видал ты, как барин едал…
* * *
Лиска так наскучалась, что не давала Коляньке минуты покоя. Наконец он шваркнул ее по загривку, Лиска отвернулась, легла обиженно, положив остренькую, зверушечью мордочку на передние вытянутые лапы. Колянька ползком от нее, едва добрался до дыры в заплоте, шмыгнул и полетел по тропе вниз к родникам. Он летел прытко, едва касаясь земли, в горячее синее марево подошвы горы. И на самом лету Лиска остро ткнула ему мордой в спину. Мальчик пронзительно заорал: «Ма-а-ма!» – и ему показалось, что крик прорезал густую горячую синь воздуха и попал в самое небо.
Лиска, испугавшись крика, прижимая распластанного Коляньку к земле, тихо рычала. Тревожно оглядывалась, пока Колянька не скинул ее с себя и не обозвал дурой. Лиска боролась с ним недолго, заметила в прошлогодней листве у ручья мышь и ринулась за нею. Колянька остался лежать на земле, глядя в прозрачное живое небо. Белопенное, нежное, с влажным подсветом внизу облачко осторожной ладейкой плыло по чистому этому небу. «Это мама моя услышала», – подумал Колянька, и сердечко его покатилось, полетело куда-то вниз, вниз, вниз… Стало сладко, горячо и больно. Он зажмурился, боясь смотреть на облако, потом открыл глаза, тихо и внятно сказал:
– Мама, – и вздрогнул. Показалось, кто-то вздохнул в ответ, даже ветерок сладко и ласково прошелся по щеке.
Это кума Сима научила Коляньку, застав его однажды плачущим в сараюшке. Мол, хорошо твоей матушке. Она теперь на небе живет, день и ночь на тебя глядит не наглядится, не нарадуется. Если схочешь чего, пошепчи покрепче, погорячее ей – и сбудется. Она все поймет. А Коляньке ничегошеньки не надо, только бы глядела на него мать – не нагляделась. А еще бы лучше поговорила бы с ним, ответила.
Ладейка на небе нежно и зыбко подтаивала, растягивалась посередке, вот-вот прорвется.
– Мама была, это мама была. – Колянька резко вспрыгнул, завизжал. Лиска бросила только что пойманного мышонка и, заколотившись в тревожном лае, полетела на Колянькин визг.
Через полчаса они ползали в знойном, размякшем, высоком малиннике. Колянька на коленях обирал маленькие кусточки, Лиска подлизывалась, жалобно повизгивала. Ягода таяла, лопалась и растекалась по коже, Лиска языком слизывала сок с его ладошки.
* * *
Студент понял, что Данилыч неожиданно сменил маршрут. Солнце катилось уже высоко, медленно перекатываясь на запад, а они еще шли и шли. Данилыч переваливал с сопки на другую и все что-то прислушивался и приглядывался.
Студент весь промок и устал, но предложить перекур стеснялся.
«Старый маразматик, – в спину старику раздраженно думал он. – Сам я тоже хорош. Поперся! Куда? Зачем?»
Они два раза проходили хороший черничник, а Данилыч все еще искал чего-то другого.
Наконец у выжженной добела невысокой скалы Данилыч снял горбовичок, установил его в зарослях шиповника.
– Ну, набил холку-то? Надо было лямки подтянуть. Седай. Вот тут и брать будешь ягоду.
Студент недовольно оглянулся.
– Где тут ягода-то?
– Ослеп? Вон кусты!
Студент присвистнул. На сплошном черничнике они не остановились, а тут, значит, спотыкайся по кусточкам. Данилыч тяжело о чем-то думал, хмурился и вздыхал.
«Боится место показать, – догадывался Студент. – Дурачка нашел. Пропер кругом, теперь вот перебивайся по оборкам…»
Черника кустилась редко, но была рясная, бокастая, каждый кустик отдельно. От ягоды пятнило в глазах.
– Вот и бери по этой сопочке вверх. А я полежу да с другой стороны прибегу тебе навстречу. Там у меня в голубичнике внизу шалашик. Проверить надо.
Студент нехотя снял горбовик со спины, посидел на нем, оглядывая место.
– Ты не бойся. Окромя бурундуков, ничего тута не водится, главное, с сопочки не сходи. По вершинке крутись. А я тебя найду. – Данилыч еще посидел, вздохнул, передумал лежать, встал, подался по тропинке вниз. «Старый черт», – обозленно подумал вслед ему Студент.
* * *
Из всех других видов растений Данилыч особо выделял и уважал шиповник. В цвету его любил, когда куст, как молодой князь, ласковый и румяный. Красивый, золотистый. Селится на ветру под солнцем, оттого столько свету в его розах. А вкус у него особый и аромат, а когда по утряночке Данилыч возле куста сидит думает, даже совсем темная думка, глядишь, и посветлеет. Мимо шиповника просто Данилыч не пройдет, и тронет, и тронет его, и ветвь подправит, подсохшие сучья пообломает.
Покинув Студента, Данилыч присел у куста отдышаться и подумать.
Беспокойное что-то было в этой поре. Особенно нехороши казались ночи со зловещим, до желтизны ярким лунным светом. Он почти не спал ночами. То на крыльце сидит, то у окна стоит, то возьмется утварь какую чинить, а ничего не выходит. Переворошилось и спуталось, сошло с привычных понятий все у него в голове. Ведь жил же, жил! Как все: на чужой кусок не зарился, чужого места не занимал. Все свое было, только ему нужное. Значит, и он нужен был?!
Точит его червяк сомнений, сосет. Словно пора обдумать все, подбить и приготовиться. Может, там он все изведает и поймет. Да, видать, крутишься-вертишься день в день, одно и то же делаешь, одно и то же ешь, все, как во сне. А все одно – припрет пора. Встань, мужик, оглянись, вспомни, что повидал, где побывал? Кем же ты был и зачем ты им был?
В молодости ухарем был. Злой, спесивый. Осадить любил другого, съязвить, выпендриться. Вот, мол, я какой! Хоробер, как бобер! И тем-то я лучше тебя, и этим удался! Как-то поспорил с Ванькой Кашиным, что ночью на кладбище мало того что пойдет, но и на могилу бобыля Аверьяна плюнет! Сейчас вспомнить страшно, а тогда – пожалуйста. Не грешно и не стыдно такое вот было! Гулял злой ветерок в голове. Да и время такое было! Рушили все старое. Все, что, мол, до меня, – пустое, а я все сам создам. А Аверьяна в селе особенно не любили. Изводил он молодых ребят. Проходу им не давал. Ревнивый был до крайности. Как-то Данилыча поймал в переулке и едва не выдрал за то, что он на подаяние Аньке Юродивой коровью лепеху бросил. И пошел Данилыч ночью к могиле. Сначала-то ничего шел, посмеивался. Ночь светлая стояла, месяц подковою. Крапива руки жгла, и бессмертник на могилах высокими кусточками стоял. Хотел даже песню запеть, а перехватило голос-то, и дрожь по телу. А как дошел до могилы Аверьяна, глянул на небо, а оно бездонно, и такой покой в нем, ни умом, ни чувством не осилить: живой и внимает. Ох и прохватило тогда Данилыча, как кто скрутил его, дыхнуть не мог, не то что двинуться. А когда одыбал, назад добрался, ноги стали ватными. Ванька рубаху свою сатиновую красную скинул, на нее спорили, а Данилычу уже не до рубахи. И одна тайная мысль буровит: отнимутся ноги теперь… И отнялись бы, и стоило им тогда отняться… Многое с этого момента начал понимать Данилыч. Образумил его все-таки Аверьян, выучил сопляка. Не трожь память, не глумись над жизнью прошедшей. Не тебе ее судить, не тебе о ней рядить. Он и Марине об этом ничего не сказал, а рубаху Ванькину не надел ни разу… Данилыч огляделся. Лес шумит, коростель в кустах не умолкает, бабочки кружат. Ягоды шиповника белым молоком наливаются… Бледный шарик луны маячит в синем небе… Опять ночь не спать. Раньше он и не замечал луну, а теперь вон че. Как выставится в окно, так и сон пропадает… Недаром в народе говорили, что все присказки о ведьмах с луной связаны. Опять ворошить прожитое и думать.
Вот ведь жизнь, вступал в нее Данилыч колючий, задиристый. Тогда казалось, что все он знает и все он может. Это вот глупость, это вот пережитки, это предрассудки, а жить надо так-то и так-то… А вот прошла она, жизнь, и как порастерял все, что знал. И не понял ничего. Что было? Зачем было?
* * *
«Ах лиса… ягодка по ягодке, кусточек за кусточком, глядь – ведро…» – передразнил Студент Данилыча, орудуя совком. Ягода откатывалась с перестуком, крепенькая, как орешек. Но было ее мало. Студент ссыпал ягоду из совка в ладонь. И съел ее. Потом лег на живот подле нетронутого куста и объел его, стараясь не трогать растение руками. Перевалился на спину, зажмурился от света глубокого, чистого неба.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































