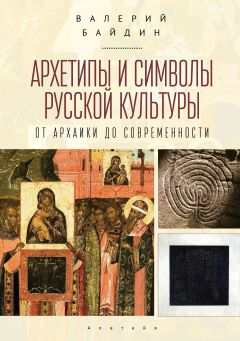
Автор книги: Валерий Байдин
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Трудно избавиться от впечатления, что автор статьи, художественный критик, много писавший о декоративном искусстве модерна и, в частности, о Галле, вступил в почти открытую полемику с мэтром из Нанси, противопоставляя его «натуралистской» эстетике «неорусское» искусство. В самом деле, некоторые намёки на статьи Галле «Павильон Центрального союза Декоративных искусств на Всемирной Выставке» (1900) и, в особенности, «Школа Нанси в Париже» (опубликованная в газете «La Lorraine Artiste» 25 марта 1903 года, несколькими месяцами раньше публикации статьи Мурэ), кажутся абсолютно прозрачными. В начале статьи Мурэ намеренно повторяет отрицательную реплику Галле по поводу Всемирной Парижской выставки, но придаёт ей иную направленность: «Я воскрешаю в памяти посреди шума и скуки бессмысленной ярмарки (выделено мною – В. Б.), которой явилась экспозиция 1900 года, <…> один тихий уголок с декором очаровательной интимности: русскую деревню»[272]272
Там же. Р. 237. В этой фразе Мурэ буквально повторяет выражение Галле, процитированное нами выше: «l’incohérente foire».
[Закрыть].
К этому следует добавить, что в данной статье Мурэ открыто оспаривает важнейшие положения манифеста Галле «Символический декор». Так, основоположник нансийской школы модерна не скрывал своего скептицизма по поводу самого права на существование народного искусства в эпоху fin du siécle: «Завершающееся столетие не имело народного искусства, иначе говоря, прикладного искусства, в котором полезные предметы создавались непроизвольно и радостно самими мастерами в соответствии с их ремёслами»[273]273
Gallé É. Écrits pour l’art… Р. 226.
[Закрыть]. Галле видел единственный путь для дальнейшего развития народного искусства в «концепции ручного труда (conception du labeur) <…> Вильяма Морриса, этого великого артиста, этого гуманного философа, этого пророка радостного труда»[274]274
Idem.
[Закрыть]. Именно на таких принципах, как полагал Галле, можно обрести «возрождение национального народного искусства»[275]275
Дословное выражение Галле: «le renouveau d’un art national populaire». Ibid. P. 228.
[Закрыть].
Как видно из статьи, Мурэ резко возражал Галле, опираясь на действительно замечательные примеры: на деятельность нескольких артелей русских ремесленников, созданных под знаком модерна – Aбрамцево, Талашкино, Смоленка, – где крестьяне жили и работали в своих семьях, но участвовали также в жизни своего начальника, ели с ним за одним столом и помогали в домашних работах. По этому поводу Мурэ восклицал: «Вот, поистине, искусство, созданное народом и для народа, <…> здоровое и честное, оно несёт радость; вот оно социальное искусство <…>»[276]276
Mourey Gabriel… P. 242.
[Закрыть]. Заметим, Мурэ не признавал противопоставления «социального искусства» и традиционного народного искусства, на котором настаивал Галле, склонный к идеям социализма. Он восставал против пессимизма автора «Символического декора», но в своей критике, также как Галле, опирался на философию искусства движения Arts and Crafts: «Искусство, создаваемое таким образом, играет свою истинную цивилизаторскую роль; оно участвует в жизни, воплощается с ней, вместо того, чтобы становиться роскошной вещью, в которую мы его превращаем. <…> У Рёскина не было иной мечты в день, когда он попытался – увы, безуспешно! – воплотить в действие свои идеи, свою, я бы сказал, евангельскую концепцию ручного труда»[277]277
Op. cit. Р. 245.
[Закрыть]. Вполне допустимо, что Галле прочёл это славословие возрождению народных промыслов в России, но смог ли он найти в статье Мурэ ответ на вопрос, терзавший его все последние годы жизни: как вывести европейский модерн из эстетического и социального тупика? Скорее всего, нет. Следует признать, что «неорусская» эстетика модерна осталась ему чужда.
Между национальными школами модерна на Западе и на Востоке Европы существовало и другое различие, связанное с социальными аспектами развития искусства. В России движение культурного возрождения и формирование особого пласта современной культуры под знаком «русского модерна» было связано не космополитической по своим вкусам европейской буржуазией, а с богатой национальной аристократией (включая Императорский двор) и со старообрядческим купечеством. Именно из этой среды исходила постоянная и активная поддержка искусству модерна, в особенности, в его «неорусской» версии. Княгиня Мария Тенишева явилась щедрой меценаткой журнала «Мир искусства» и одновременно создательницей важнейшего центра народных промыслов в Талашкино. Князь Сергей Щербатов стал организатором знаменитой петербургской выставки «Современное искусство» в 1902–1903 годах. Наконец, царь Николай II лично учредил (благодаря хлопотам Валентина Серова) регулярные годовые субсидии журналу «Мир искусства» в 12 000 рублей[278]278
См. об этом в: Бенуа Александр. Возникновение «Мира Искусства». Л.: Ком. популяризации худож. изд., 1928. С. 48; Щербатов Сергей. Указ. соч. С. 107, 165, 168–169, 177–178.
[Закрыть].
Совершенно неоценимой для русского модерна была постоянная благотворительная деятельность крупнейших старообрядческих семейств: Морозовых, Кузнецовых, Крестовниковых, Кривошеиных, Коноваловых, Рябушинских…[279]279
По поводу вклада русской буржуазии культурное возрождение страны и, в частности, московских капиталистов-меценатов начала ХХ века, в большинстве своём старообрядческого происхождения, см.: Бурышкин П. А. Москва купеческая. New York: Изд. им. Чехова, 1954. С. 104–105, 107–229.
[Закрыть] В этом ряду фигура поистине выдающегося мецената Саввы Мамонтова занимает особое место: он сумел создать всемирно известный центр русского модерна в Абрамцево, Русскую частную оперу, с Шаляпиным во главе, Северное Строительное общество – важнейшие очаги нового национального искусства. По мнению Евгении Кириченко, меценатам-старообрядцам «во многом обязано не только возникновение новой версии нового русского стиля – неорусского стиля как одной из разновидности модерна, но и европейской разновидности модерна»[280]280
Kириченко Евгения. Русское купечество и русский стиль // Тезисы докладов научной конференции по выставке «С. И. Maмонтов и русская художественная культурa 2-oй половины XIX века». M.: [ГТГ], 1992. С. 14.
[Закрыть]. Участие в радикальном обновлении русской культуры неизменно консервативных и скорее враждебных модернистским тенденциям социальных сил придало модерну в России характер уникального явления – всемирно открытого и всецело устремлённого в будущее, но при этом сознательно опирающегося на собственные художественные, культурные и религиозные традиции[281]281
Важно подчеркнуть, что в России конца XIX – начала XХ веков современность и архаичность парадоксальным образом смешивались в eдином культурном движении, которое можно было бы назвать «ретро-проспективным» и в котором – явление абсолютно невозможное для западноевропейского модерна – скрещивались стили «национального романтизма» и «историзма» (восходящие к началу и к середине XIX века) со стилем «модерн». К этому стоит добавить, что даже рационалистское течение в эстетике, характеризовавшее поздний европейский модерн в архитектуре (П. Беренс, В. Гропиус и др.), в России выражалось в архаизирующих формах «неоклассики» 1910-х годов (И. Фомин, И. Жолтовский, и др.).
[Закрыть].
Между социокультурными ситуациями в России и Франции начала ХХ века существовало принципиальное различие. Галле уже в юности столкнулся со стремительной коммерциализацией рынка искусств, и в особенности, искусств декоративно-прикладных. Сын миллионера и художник выдающегося дарования, он казался достаточно подготовленным к предстоящей борьбе. Его идеалом сбыло «социальное искусство»[282]282
Понятие «социальное искусство» (l’art social) возникает в момент основания в Париже в 1889 году, «Клуба Социального искусства». Вскоре это объединение насчитывало уже около семи тысяч сторонников. Галле и его друг Р. Маркс (Roger Marx), a также Огюст Роден и множество иных активных участников французского Ар нуво были его членами. См.: Guerrand Roger-H. L’Art nouveau en Europe. Paris: Plon, 1965. Р. 177.
[Закрыть]. Впрочем, не только его творчество, но и искусство всего французского модерна оказалось в значительной степени ориентировано на экономические и социальные вопросы. Например, сюжеты, связанные с темой труда, промышленности и жизнью рабочих были типичны для нансийской школы[283]283
Упомянем в качестве примера несколько произведений «школы Нанси»: В. Пруве (V. Prouvé), скульптура «Aллегория Труда» для Народного Дома (Нанси, 1902), Ж. Грубер (J. Gruber), «Металлургия», «Химия», «Стекло» (витражи, 1909, Нанси), Aнтуан Даум (Daum), ваза «Стеклодув в холле» (1908) и др. 1 Ф. Тибо отмечает особую популярность в 1905–1907 годах в Европе и, в частности, во Франции, разнообразной продукции из Талашкино. Thiébaut Philippe. Le style «moderne» russe et l’Art nouveau européen… Р. 335. Авторский перевод статьи: Émile Gallé et certaines tendances de l’Art Nouveau russe // Revues des études slaves. Paris. LXXX/3. 2009. Р. 311–324.
[Закрыть]. Напротив, в иконографии русского модерна подобные темы и мотивы практически отсутствовали.
Нельзя не признать парадоксом тот факт, что Галле, носитель идей близких к социализму и неустанный борец против эксплуатации художника в буржуазном обществе, был вынужден организовать собственное предприятие как типичную капиталистическую фабрику, работавшую на господствующий в обществе вкус, – вкус реальных заказчиков из среды средних и мелких буржуа. Он, несомненно, не мог не учитывать законов спроса и потому разрывался между созданием уникальных произведений ручной работы из ценных материалов и по сложной технологии и необходимостью тиражирования своих, по сути, неповторимых творений. Он упорно пытался примирить высокое искусство и индустриальную вульгаризацию шедевров. Галле, как мог, сопротивлялся «профанации» и лично изготавливал упрощенные копии своих уников или решался на производство отдельных повторений в своих мастерских, завершая их отделку и маркируя личным клеймом, что отчасти сохраняло его авторство и уникальность изделия.
Многие годы Галле настойчиво шёл против течения. Однако под неумолимым воздействием законов художественного рынка он был вынужден эволюционировать: от создания произведений из фарфора и хрусталя в 1870-е годы к изготовлению мебели в середине 1890-х. Похоже, что для Мастера из богатой промышленной Лотарингии прикладное искусство «неорусского» стиля означало тупиковый путь развития: отказ от неизбежной буржуазной индустриализации народных художественных промыслов. На первый взгляд, искусство «неорусского» стиля и в самом деле казалось немыслимым в европейских условиях вызовом рынку, каким-то провинциальным анахронизмом, искусственно существующим лишь на средства меценатов. В таком восприятии было много непонимания. Продукция русских народных промыслов традиционно основывалась на производстве изделий мелкими и крупными сериями и была неизменно ориентирована на спрос.
Несмотря на щедрую помощь благотворителей, особенно важную в момент становления, новые центры кустарного производства в «неорусском» стиле также были прекрасно приспособлены к рынку. В начале ХХ века эта продукция с огромным успехом продавалась по всей России и уверенно находила покупателей за рубежом[284]284
Ф. Тибо отмечает особую популярность в 1905–1907 годах в Европе и, в частности, во Франции, разнообразной продукции из Талашкино. Thiébaut Philippe. Le style «moderne» russe et l’Art nouveau européen… Р. 335.
[Закрыть]. И в конечном счёте, именно фактор рынка привёл «неорусский» стиль к расцвету, а в судьбе «школы Нанси» и её знаменитого основателя сыграл столь трагическую роль[285]285
Лишь в 1908–1909 годах, к концу существования «школы Нанси», когда единичное ремесленное производство стало слишком дорогостоящим, ученики и соперники Галле, братья Даум, Ж. Грубер и В. Мажорель, предприняли попытку реально приспособиться к производству изделий в стиле модерн крупными сериями.
[Закрыть]. Ослабленный болезнью и угасший раньше времени Галле-художник, по сути, не имел возможности оценить ни эстетическую значимость, ни экономический успех национальной школы, оказавшейся способной предложить европейскому модерну художественную альтернативу выходящего из моды «японизма». По разным причинам он не стал и сторонником социальной программы «неорусского» искусства, в котором идеи Джона Рёскина и Уильяма Морриса о «новом народном творчестве» получили столь самобытное воплощение.
2008
Образ двойника в творчестве андрея белого
Тема двойника занимает столь значительное место в творчестве поэта, писателя и теоретика русского символизма Андрея Белого (псевдоним Бориса Николаевича Бугаева, 1880–1934), что возникает вопрос: создание этого образа являлось литературным приёмом или относилось к мировоззрению писателя?
Фёдор Степун, философ-неокантианец, хорошо знавший Белого, оставил поразительное свидетельство о его психически обостренном восприятии раздвоения личности, истории и окружающей действительности. Во время одной из дружеских встреч в Берлине в 1923 году Белый вёл с ним беседу, то и дело вглядываясь в зеркало: «он находился в постоянном миметическом общении со своим отражением. Всё это время его адресованные мне ответы были всего лишь репликами, брошенными невзначай, основная беседа с очевидностью сосредоточивалась на диалоге Белого со своим двойником».[286]286
Степун Ф. А. Памяти Андрея Белого // Воспоминания об Андрее Белом. М.: Республика, 1995. С. 177.
[Закрыть] Вряд ли следует объяснять это странное поведение психическим отклонением, но нельзя не заметить, что кричащая двойственность ясно прослеживается в произведениях, мировоззрении и жизни этого писателя. Современники упрекали его в «двуличии» (В. Ф. Ходасевич), отмечали «два плана в его сознании», «измену» и «безнравственность» (Ф. А. Степун), обвиняли в «предательстве», которое проявлялось «и малом и в большом» (Н. Н. Берберова) и пр.[287]287
Воспоминания об Андрее Белом… С. 54; 174, 202; 332.
[Закрыть]
Белый истолковывал «двойничество» в самом широком смысле и оставил немало доказательств своей невероятной способности находить в окружающем мире «двойников» (своих личных и других людей). Едва ли не каждый литературный символ своих произведений Белый соотносил с «двойником» в реальной жизни, в близком или отдалённом прошлом. Двойники для писателя – это бьющие из некоего параллельного мира «проекции», раздваивающие людей, события и огромные пространства.
Творческий путь он начал с появления в 1901 году своего двойника под литературным псевдонимом «Андрей Белый».[288]288
Этот псевдоним придумал для него Михаил Сергеевич Соловьёв, брат философа В.С.Соловьёва. Разрыв между различными «я» Андрея Белого, о котором свидетельствуют литературные произведения и мемуары писателя, давно привлёк внимание исследователей. См. напр.: Мочульский К. Андрей Белый. Париж: YMCA-Press, 1955. С. 288.
[Закрыть] В 1922 году он создал своего второго двойника в «Записках чудака» и вскоре опубликовал в сборнике «Звезда» стихотворение с посвящением: «Своему двойнику (Леониду Ледяному)». Образ двойника возникает уже в начале творческого пути Белого: в стихотворениях «Отчаянье» («Двойник мой гонится за мной») и «Старинному врагу» («Ты несся ввысь со мною рядом»), а также в прозаических отрывках «Химеры» и «Сфинкс», созданных в ходе «духовной дуэли» с «магом» и «профессором мрака» Валерием Брюсовым в 1904–1905 годах.
Белый черпал вдохновение в литературе европейского и русского романтизма. Под сильнейшим влиянием произведений Эрнста Гофмана («Эликсиры сатаны», 1816; «Песочный человек», 1817) творили Антоний Погорельский (сборник повестей «Двойник, или мои вечера в Малороссии», 1828),[289]289
Псевдоним «Антоний Погорельский» принадлежал Алексею Перовскому (1787–1836), чьё имя почти совпадало с именем Алексея Петровского, близкого друга Белого из круга московских символистов.
[Закрыть] Александр Вельтман (роман «Странник», 1832), Владимир Одоевский (повесть «Сильфида», 1836), Владимир Даль (повесть «Савелий Граб, или Двойник», 1842) и др. В произведениях русских романтиков образ двойника был связан с народной демонологией – окружён силами зла, внушал страх, предвещал беду, приводил героев к несчастью. В фольклоре двойник представал в виде тени, призрака умершего или упыря.[290]290
См. напр.: Афанасьев А. Н. Древо жизни. М.: Современник, 1982. С. 357–360, 399–400. В. И. Даль называет «двойником» человека, «являющегося в двух лицах, в двух местах разом, призраком». Даль В. И. Толковый словарь. В 4 тт. Т. I. М.: Русский язык, 1989. С. 417. В Древней Руси двойника называли стень или сень, что означало «видение, призрак, мертвец», М. Фасмер признавал участие языкового табу в замене слова стень на тень. Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. В 4 тт. Т. III. М.: Наука, 1971. С. 602.
[Закрыть]
Белый, относивший себя к «неонародникам», использовал эту традицию, соединив её с христианской, в которой двойник считался одним из воплощений дьявола и, согласно библейским представлениям, опирался на «раздвоение человеческого существа».[291]291
См.: Evdokimov M. L’image du diable chez Saint-Antoine, Bernanos et Dostoïevski // L’Herne. Série Slave. Dostoïevski. Paris, [1974]. Р. 297.
[Закрыть] В ещё большей мере писатель опирался на русскую классическую литературу, которая открыла глубочайшие художественные возможности в переосмыслении образа двойника. У Гоголя символическое, фантастическое его истолкование оставалось близко к фольклорному. Люди безвольно подчинялись своим перевоплощениям, которые приобретали черты гротескной аллегории (повесть «Нос»), оборотничества и самозванства («Ревизор», «Мёртвые души»), фетиша, способного полностью овладеть душой («Шинель»).
«Психологические» двойники героев Достоевского всплывали из «подполья» души, подсознания или воображения, словно карикатуры на «образ Божий» в каждом из них. Таким является фантом, терзающий униженную, больную душу Голядкина, который однажды замечает, что в безликом мире мелких чиновников существует не он, а его двойник («Двойник»). В романах 1870–1880-х годов образ двойника получает дальнейшее развитие, его художественную роль проницательно определил Михаил Бахтин: «Можно прямо сказать, что из каждого противоречия внутри одного человека Достоевский стремится сделать двух людей, чтобы драматизировать это противоречие и развернуть его экстенсивно».[292]292
Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. M.: Советская Россия, 1979. С. 34.
[Закрыть] Основная функция двойника состоит в речевом и поведенческом «диалоге» с героем, он продолжает его рассуждения, берёт на себя роль «рассказчика», помогает Достоевскому вводить в произведение напряжённую драматургичность, придать персонажам особенную рельефность.
Ключевые понятия Бахтина, относимые к эстетике Достоевского, – «диалог», «полифония», «карнавал» – чрезвычайно важны при анализе творчества Андрея Белого.[293]293
М.Бахтин усматривал «хаотический», «дионисийский» элемент в творчестве, которое предполагает «разрыв личности, раздвоение, растроение, расчетверение и т. д.». Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. С. 395.
[Закрыть] «Карнавальный» стиль повествования и «полифоническая» композиция, более всего характерны для его романа «Петербург».[294]294
Ссылки на роман «Петербург» даны по изданию: Белый Андрей. Петербург // Сирин (альманах). Т. I–III, СПб., 1913–1914. Текст, завершённый Белым в ноябре 1913 года, более всего соответствует замыслу произведения (если не считать удаления цензурой антихристианских и эпатажных высказываний) и существенно отличается от авторской версии 1922 года. Согласно исследованию Л. К. Долгополова, очередное издание «Петербурга» не отличалось от первоначального текста, поскольку 1916 году были изданы в виде книги вырезанные и сброшюрованные страницы из нераспроданных экземпляров альманаха «Сирин». Долгополов Л.К. Из истории создания романа. Основные редакции «Петербурга» // Долгополов Л. К. Андрей Белый и его роман «Петербург». Л.: Советский писатель, 1988. С. 233–238.
[Закрыть] Двойники оказываются первопричинами существования героев Белого, приоткрывают внутреннюю суть людей. У Достоевского лица героев проглядывают сквозь «личины» их грехов, у Белого «маски» бесследно поглощают лица людей, которые срастаются со своими двойниками.
В 1906 году Белый писал о Достоевском: «Он – наш двойник; в этом его родственность многим душам. Он умеет открывать и указывать – в этом его великая сила, но преодолевать он не умеет».[295]295
Белый Андрей. Ибсен и Достоевский // Золотое руно. 1906. № 2. С. 90.
[Закрыть] Молодой писатель глубоко заблуждался. В каждом из двойников герой Достоевского словно «умирает (то есть отрицается), чтобы обновиться (то есть очиститься и подняться над собою)».[296]296
Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского… С. 147.
[Закрыть] Персонажи Белого, побеждённые внутренними двойниками, гибнут без надежды на возрождение. Исключение представляет главный герой романа «Петербург» Николай Аблеухов. В конце повествования он переживает мистическое озарение, пишет исследование об авторе некой древнеегипетской рукописи, в имени которого «Дауфсехрут», ему чудится анаграмма (и ещё один скрытый двойник) антропософского девиза «В духе расту»[297]297
Kozlik F.C. L’Influence de l’antroposophie sur l’oeuvre d’Andrej Biélyj. Frankfurt [en Main], T. 1–3. 1981. Р. 505; см.: Белый Андрей. Петербург… Т. III. С. 275.
[Закрыть]. Писатель намекает на раскаяние, обращение героя к христианству и уход в монашество – что означает его, пусть символическую, смерть «для мира».
Герои Достоевского вступают в борьбу с двойниками-искусителями, но встречают на пути двойников-утешителей и с их помощью открывают свою подлинную сущность – евангельского «внутреннего человека» (Еф. 3:6-17). Таковы пары двойников Рогожин – Мышкин, Раскольников – Соня (воплощение его совести), Митя – Алеша Карамазовы <…> У Достоевского герой и двойник независимы друг от друга, у Белого двойник таится в глубине человеческой личности и преследует героя в течение всего повествования, пересиливает и оказывается его палачом. У Белого двойники принимают образы духов зла, его герои в полном одиночестве ведут безнадёжную борьбу со своими «тенями».[298]298
По мнению Вячеслава Иванова, эта черта была присуща самой природе Белого: романом «Петербург» он навевал «ужас своего одиночества». Иванов Вячеслав. Вдохновение ужаса (о романе Андрея Белого «Петербург» // Иванов Вячеслав. Собрание сочинений. В 4 тт. Т. IV. Bruxelles, 1987. С. 619. 1923. Петроград. С. 87, 89.
[Закрыть] Достоевский силится увидеть под внешним обликом героя его «истинное лицо». В произведениях Белого герои становятся объектами обладания сверхличных сил – исторических (и в конечном счёте, «космических») или оккультных («инфернальных»), герой и двойник воплощают две противоположных воли: личную – слабую и безличную – всемогущую, символизирующую «роковое проклятье» России.
Сергей Аскольдов замечал по поводу «Петербурга»: «почти всех его героев приходится рассматривать, как исторические факторы», даже «потустороннее здесь исторический фактор».[299]299
Аскольдов Сергей. Творчество Андрея Белого // Литературная мысль. № 1. 1997, 2020
[Закрыть] Нельзя не согласиться и с тем, что суть «исторической мистики» Белого состоит «в ясном сознании присутствия прошлого в настоящем» в виде скрытых «первопричин».[300]300
Там же. С. 90.
[Закрыть] История России для писателя – это сочетание исторического рока и произвола «убивцев» страны: от Петра I до революционеров последующих эпох. Исторические события оказываются у Белого лишь «двойниками» русской метаистории. Сквозь действительность прорывается Мистерия.
Это сравнение можно продолжить на ином уровне. У Достоевского «полифоническое» слово меняет значение в зависимости от контекста, но неизменно остаётся нагружено смыслом, у Белого слово отделяется от смысла и превращается в условный знак, обессмысленный его «двоящимися» значениями. Достоевский ищет язык, который выявляет личность героя, среду и эпоху. Для Белого слова героя мало что значат, оказываются его речевой маской: «человек начинается там, где кончается слово».[301]301
Белый Андрей. Записки чудака. Т. 1. Москва – Берлин: Геликон, 1922. С. 155.
[Закрыть]
В понимании Достоевского, раздвоенность человека является следствием его личного греха, в толковании Белого она – предопределена насилием государства над личностью. Нескончаемые диалоги героев со своими двойниками у Достоевского являются целиком внутренними, у Белого они вызваны раздвоенностью и «двусмысленностью» русской действительности. Для писателя-символиста образ двойника связан с мистической «первопричиной» жизни страны, города, человека.
Художественная концепция двойника, которую Белый воплотил в своих произведениях, испытала влияние символистской эстетики. Основываясь на «теория соответствий» Бодлера и «поэтических аналогиях» Малларме, писатель устанавливал неожиданные, парадоксальные связи между своими персонажами.[302]302
Белый дал шокирующее определение «теории соответствий» Шарля Бодлера, «которая есть – антиномия меж поэзией символистов и баррикадами». Белый Андрей. Между двух революций. М. – Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1934. С. 45.
[Закрыть] По закону символизации de realibus ad realiora «от реального к реальнейшему», сформулированному Вячеславом Ивановым, каждый двойник у Белого восходит к умозрительному символу. Проекция в действительность такого символического образа неизменно раздваивается, получает противоположные облики, каждое сюжетное событие находит символическое отражение в событии-двойнике. Для писателя-символиста сознательное раздвоение реальности является средством её «глубинного» осмысления,[303]303
Его теоретическая статья «Символизм как миропонимание» (1904) касалась отношений между системой символов, которую он характеризовал как «ряд прерывных образов» и утверждал: «Образы превращаются в метод познания, а не в нечто самодовлеющее. Назначение их – не вызвать чувство красоты, а развить способность самому видеть в явлениях жизни их прообразовательный смысл». Белый Андрей. Символизм как миропонимание // Мир искусства. 1904. № 5. С. 180, 177.
[Закрыть] выявления параллельного пространства жизни – «астрального», полного двойников, стремящихся к «воплощению». Образ двойника он основывает на оккультной традиции и лишь отчасти на фольклоре, как у Гоголя, и на Евангелии, как у Достоевского.
Следует отметить несомненное влияние на Белого каббалистического учения о взаимном подобии «высшего» и «нижнего» миров: «Происходящее в высших мирах, полагают каббалисты, происходит затем в нашем мире»,[304]304
Папюс. «Каббала, или Наука о Боге, Вселенной и Человеке». М.: Рипол Классик, 2003. С. 336, 345.
[Закрыть] душа – «эфирный двойник» человека, астральный центр, посредник между Духом и телом, область разума, подчиненная бессмертной душе-Духу.[305]305
Там же. С. 395.
[Закрыть] Этот тезис многократно повторяется в произведениях Белого.
Роман «Серебряный голубь» (1907–1908) окрашен историософскими и «неонародническими» поисками. Белый замышлял его как первую часть трилогии «Восток и Запад».[306]306
Её второй частью явился роман «Странники», начатый в 1910 году и превратившийся в «Петербург». См.: Иванов-Разумник Р. И. «Петербург» Белого //Иванов-Разумник Р. И. Вершины. Александр Блок. Андрей Белый. Петроград: Колос, 1923. С. 81–93.
[Закрыть] В этом произведении сосуществуют несколько пар героев и их двойников. Образ Петра Дарьяльского, интеллектуала, пытающегося отыскать живительные истоки бытия в духовной жизни народа, помещён в сердцевине отношений взаимно противостоящих двойников. Таковы Шмидт – бывший эзотерический учитель Дарьяльского, «православный немец», посвящённый в кабалистические тайны, и Кудеяров – его новый духовный наставник, деревенский плотник, тайный глава мистической и одновременно революционной секты «Голубей». С ними взаимодействовали парные образы Кати – дочери барона-иностранца, высокообразованной, утонченной невесты Дарьяльского, и его любовницы – Матроны, диковатой крестьянки со «звериной» красотой, жены сектанта Кудеярова. Двойники Дарьяльского указывают ему, каждый на свой лад, два духовных пути – на Запад и на Восток, два образа любви, которые символизируют два лика России – просвещённой, но хрупкой и дикой, но полной «хтонических» сил.
Белый вводит в композицию романа зашифрованную схему: фигура Дарьяльского оказывается в середине «креста», четыре луча которого образуют две пары двойников. Каждый из этих образов раздвоен, сознание Дарьяльского символически «распято» между непримиримыми влечениями. По той же смысловой схеме Белый строит отношения между главным героем, Матроной и её мужем: классический любовный «треугольник» он дополняет образом Сухорукова (двойника Кудеярова), нигилиста и убийцы, явившегося из народных недр, словно воплощение дьявола.
Для писателя Дарьяльский являет собой символ русской интеллигенции, оторванной от жизни страны. Его трагическая участь – это судьба России, раздираемой противоположными устремлениями: к духовным и плотским началам, к Западу и Востоку. В соответствии с замыслом Белого, этот роман следовало воспринимать как «оккультное» предсказание будущего России. Оно основывалось на толковании Шмидтом, «посвящённым» в сокровенный смысл неких эзотерических. Писатель стремится придать роману пророческое звучание, отвергая убийственный для России «исход к Востоку».
«Петербург» задуман Белым как продолжение пророчеств о «восточной опасности», подстерегающей Россию, и о мороках революции, овладевающих её разумом (государством), душой (интеллигенцией) и телом (народом). В концепции этого романа образам двойников отводится несравненно большая роль, чем в «Серебряном голубе», однако в «Петербурге» писатель использует совершенно иную сюжетную схему.
Смысловая основа романа располагается по оси повествования, образованной чередой взаимно уподобленных символов. Образы-двойники сцеплены в единую линию. Она пронзает текст романа и восходит к подсознанию, к русской «прапамяти», к предкам-монголам и царям-тиранам, касается «астрального мира», призраков Будды и Канта, сатанистских и христианских устремлений героев и пр. По этой линии проходит раскол семьи высокопоставленного сенатора Аблеухова и всей России, порождая взаимную ненависть между сыном и отцом (Николаем Аполлоновичем и Аполлоном Аполлоновичем), между народом и государством. Так зарождаются два ключевых в понимании Белого образа-двойника: «революция – «реакция». А окружающая действительность и вся Россия «раздваиваются».[307]307
Белый Андрей. Петербург…Т. I. C. 140.
[Закрыть] Основу раздвоения создаёт оторванное от реальности воображение героев-солипсистов. По словам сенатора Аблеухова «вся жизнь – только морок»,[308]308
Он же. Петербург… Т. III. С. 173.
[Закрыть] его сын, оказавшись в кабинете отца, кажется себе «единственным центром вселенной».[309]309
Там же. С. 239.
[Закрыть]
Писатель воплощает в «Петербурге» мысль о «мировой тавтологии».[310]310
Белый Андрей. Мастерство Гоголя. М.—Л.: ГИХЛ, 1934. С. 305.
[Закрыть] В сюжете, построенном на взаимоотношениях героев и их двойников, тщательно выписанных Белым, всё становится «симметричным». Сенатор и его сын создают параллельные миры, населённые собственными отражениями – воплощениями своих мыслей. Аблеуховы представляют собой законченных двойников – родных врагов. В их образах проступает главная историософская идея романа: неукротимая воля к власти представителей государства, считающих себя «сверхчеловеками», разрушает в народе единство и волю к жизни: «с той чреватой поры, как примчался к невскому берегу металлический Всадник, <…> надвое разделилась Россия; <…> надвое разделилась, страдая и плача до последнего часа – Россия».[311]311
Там же. C. 141.
[Закрыть]
Петербург и его обитатели то превращаются в призраков, то вновь оживают и обретают вещественность: «Петербургские улицы обладают несомненнейшим свойством: превращают в тени прохожих; тени же петербургские улицы превращают в людей».[312]312
Он же. Петербург… Т. I. С. 43.
[Закрыть] Николай Аполлонович, последователь Канта и буддийской логики, является теоретиком революционного терроризма, с ним неразрывно связан образ его двойника – террориста Дудкина. Из-за своей неудавшейся любви Николай Аполлонович готов мысленно уничтожить весь мир, но выразить своё стремление способен лишь в карнавальной форме. Он прогуливается по Петербургу в шинели, под которой скрыто шёлковое «красное домино», создавая фантомного двойника революции,[313]313
Там же. С. 71.
[Закрыть] подлинным воплощением которой становится Дудкин, alter ego Николая Аблеухова. Его отец, Аполлон Аполлонович, олицетворяет в романе верховную власть и выдвигает в противовес революции своё «учреждение» (Белый намекает на Министерство внутренних дел). Чтобы остановить террор, сенатор создаёт прямую «проекцию» своей воли, тайного агента полиции, осведомителя Липпанченко. Но тот оказывается становится двойником-оборотнем Дудкина, главой террористического подполья. Предательство проникает в глубинные структуры государства: Дудкин и Липпанченко превращаются в зловещих, неразрывно связанных сообщников. Тотальная катастрофа становится неизбежной.
В романе Белого возникает театр двойников, заменивший политическую жизнь России. «Петербург» наполняют «потерявшие себя люди, пленённые оккультными силами».[314]314
Nivat George. Le «Jeu cérébral». Etude sur «Pétеrsbourg». Lausanne: L’Âge d’Homme, 1967. Р. 336.
[Закрыть] Герои писателя, лишённые воли и морали, сходят с ума в метаниях между невыносимым страхом и безумной повседневностью, их разрушенное сознание раздваивается и порождает враждующих между собой призраков.[315]315
Там же. С. 129.
[Закрыть] Террорист Дудкин представляет себя в образе бесстрашного революционера, именуемого «Неуловимый», мечтает о возврате к «здоровому варварству», которое не ведает раздвоенности и способно смести полумёртвую «культуру». Ему приходит мысль, что «Христианство изжито: в сатанизме есть грубое поклонение фетишу, т. е. здоровое варварство <…>».[316]316
Там же. Т. III. С. 81.
[Закрыть] Двойник-искуситель Дудкина, носящий имя Шишнарфнэ (по замыслу Белого, оно было получено Дудкиным при сатанинском посвящении),[317]317
Вероятно, для Белого образ этого «выходца с Востока» символизировал не просто «жёлтую опасность», а древнее манихейское зло – источник смертоносного дуализма, некогда проникший в европейское сознание и укоренившийся в мозгу Дудкина.
[Закрыть] грозит ему смертью: «Я – гублю без возврата <…>».[318]318
Там же. С. 91.
[Закрыть] Чуть раньше двойник-покровитель, мужик Стёпка, приносит ему требник с «бесогонной» молитвой и говорит о «христовой Рассее».[319]319
Там же. С. 83–84, 105.
[Закрыть] Тем не менее, Дудкин передаёт бомбу Николаю Аблеухову, которого раздирают надвое ненависть к отцу и жесточайшие угрызения совести.
Тесные дружеские отношения Андрея Белого и Павла Флоренского, возникшие ещё в годы учёбы обоих на Физико-математическом факультете Московского университета, позволяют предположить в образе террориста Александра Ивановича Дудкина литературного двойника архимандрита Серапиона (Владимира Михайловича Машкина, 1854–1905). В 1906 году Флоренский посвятил архимандриту Серапиону, скончавшемуся в Оптиной пустыни от разрыва сердца, обширный некролог «К почести вышнего звания. Черты характера архимандрита Серапиона Машкина», позже он уточнил, что при написании трактата «Столп и утверждение Истины» (1914) он «опирался на авторитет архимандрита Серапиона».[320]320
См.: Машкин Серапион, архимандрит. Система философии. Опыт научного синтеза // Символ. 2016. № 67. Париж-Москва. С. 3–7 и сл.
[Закрыть] Личность этого математика, философа-кантианца, последователя В.С. Соловьёва и православного мистика с убеждениями народовольца-революционера, не могла не привлечь Андрея Белого. При этом Флоренский подчёркивал свой высочайшее отношение к о. Серапиону, сочувствововал, как и он, русским революционерам, вступил в «Христианское братство борьбы» (1905–1908), за обличения царизма и призывы против казни революционеров («Вопль крови», 1906) на время даже попал в тюрьму, однако впоследствии он пришёл к иной крайности: к апологии тиранической власти государства («Предполагаемое государственное устройство в будущем», 1933). Белый увидел в образе мятущегося, болезненного священника-интеллигента о. Серапиона зловещий символ – растущую угрозу самому существованию Российской империи. Герой романа «Петербург» Дудкин, подобно Машкину (их фамилии созвучны), создаёт собственную философскую систему на основе кантиантства, проходит «посвящение» (но не монашеское, а мистическое – от сатаниста Шишнарфнэ), страдает от одиночества, запоев и галлюцинаций, живёт в каморке, молится «бесогонной молитвой» по совету мужика Стёпки и ненавидит монархию.[321]321
О вражде о. Серапиона Машкина к «цезаропапистической ереси» в Русской церкви, «иудина» духовенства и о его склонности к мистикам-старокатоликам см.: Гаврюшин Н. К. «Горю душой примкнуть к массонам…»: архимандрит Серапион (Машкин) // Н. К. Гаврюшин. Русское богословие. Очерки и портреты. Нижний Новгород: Нижегородская духовная семинария, 2011. С. 446–453. Вполне вероятно предположение о влиянии на о. Серапиона, горячего последователя Владимира Соловьёва, идей Ю. М. Хёне-Вроньского, польского математика, эзотерика и провозвестника экуменизма. Об интересе русских модернистов к наследию Хёне-Вроньского см. ст. в данном сборнике «Николай Фёдоров и польский мессианизм».
[Закрыть]
Главная ось романа всецело символична – это ось русской истории, соединяющая многочисленных героев и являющая, согласно Белому, волю неких роковых сил. В романе непрестанно сменяют друг друга образы-двойники: голова сенатора Аблеухова и столица России, Пётр Великий и бомба, Преподобный Монгол и Липпанченко (одновременно секретный агент полиции и тайный глава русских террористов). Всё происходящее вращается вокруг них в карнавальной «игре», неотъемлемой от «мозговой игры» героев: персонажи повествования, безумные идеи и бешено развивающиеся события. А где-то рядом вращается механизм заведённой «бомбы», которая начинена то ли порохом, то ли взрывными идеями эпохи.
По сравнению с «земным» романом «Серебряный голубь» и его «плоской» композицией, «Петербург» предстаёт произведением трёхмерным, более того – «эфирным». Белый призывает читателя осмыслить «продолжение в неизмеримость» своего произведения,[322]322
Белый Андрей. Петербург… Т. II. С. 52–53.
[Закрыть] пишет о «четвёртом измерении» града-Петербурга, о «касаниях» «астрального космоса» к столице России и жизни её обитателей.[323]323
Указ. соч. Т. III. С. 89. Белый развивает в романе распространённые среди русских модернистов начала ХХ века мысли математика и философа-оккультиста П. Д. Успенского о «четвёртом измерении» и способах его сверхчувственного восприятия. См.: Успенский П. Д. Четвёртое измерение. СПб.: Труд, 1909; он же. Tertium Organum (Ключ к загадкам мира). СПб.: Труд, 1911.
[Закрыть]
Белый, как и многие из русских модернистов, был увлечён пришедшими с Запада эзотерическими представлениями о двойниках, как «существах астрального мира», овладевающих душами, используя их слабости и пороки. Своим духовным учителем он считал Рудольфа Штейнера, создателя антропософской доктрины. В 1912 году писатель прослушал в Берлине цикл его лекций о «Стражах Порога», которые в сильнейшей степени повлияли на образ двойника в уже начатом романе «Петербург»: «В человеке таится существо, внимательно стоящее у пограничной черты <…> при вступлении его сознания в сверхчувственный мир. Это таящееся в человеке духовное существо есть он сам, но познать его обыкновенным сознанием он не может. <…> Оно облечено в наши пороки. /…/ Это наш двойник. <…> Встреча с ним есть встреча с самим собой и, тем не менее в действительности, это встреча с другим существом, из духовного мира».[324]324
Steiner Rudolf. Die Schwelle der geistigen Welt. Aphoristische Ausführungen, Berlin, 1901. S. 137.
[Закрыть] В письме к М. К. Морозовой Белый признавался, что для него «штейнерианство, это своего рода старчество, но: остающееся в миру, для мира и сознательно знающее, что грядущее требует, чтобы в близком будущем реально подняли знамя Христово <…>».[325]325
Белый А. Письмо к М. К. Морозовой. Базель, 1912 год. – ГБЛ, ф. 171, карт. 24, ед. хр. 1в, л. 12–13.
[Закрыть]
Сюжет романа объединяет вертикальная схема, сравнимая с древом идей, создаваемом «проекциями» героев и их двойников. Введение в текст основных персонажей уподоблено процессу эманации в земной мир «высших сущностей». Действие, точнее, символическое действо романа начинается как следствие «пустых мозговых игр» сенатора Аблеухова.[326]326
Образ Аполлона Аполлоновича Аблеухова, чьё имя и отчество словно указывают на династию, восходящую к «солнцеподобному» повелителю, соответствует не только сверхчеловеческому «космическому разуму», но и воплощению слепого тщеславия чиновника – его двойника, явившегося на улицах Петербурга, подобно Носу из одноимённой повести Гоголя.
[Закрыть] Его инициалы «А.А.А.» настойчиво отсылают к букве «алеф», истоку всех каббалистических построений. В понимании Белого, «мозговая игра» его героев предопределяет и порождает реальность. Она начинается в голове сенатора, у которой «раскрылось вдруг темя»,[327]327
Там же. Т. II. С. 53.
[Закрыть] стремительно распространяется и принимает всё новые облики: Преподобный Монгол, Медный Всадник, сын сенатора Николай Аполлонович с мыслями об «отцеубийстве»,[328]328
Белый пишет: голова его «превратилася тоже в сардинницу ужасного содержания», он ужаснулся самому себе: «отцеубийца». Там же. Т. III. С. 116–117.
[Закрыть] «красное домино», Софья Лихутина, Липпанченко, Дудкин, Неуловимый, Шишнарфнэ. Этим астральным воплощениям соответствуют двойники: град Петербург, Кант, «белое домино», мать Николая Аполлоновича, полицейский Морковин, Стёпка (символ народа), Сергей Лихутин и салон Цукатовых (символ дворянства), семья Флейш (символ буржуазности). Двоящуюся схему романа завершает и объединяет бомба – символ грядущей революции. Белый вводит в своё произведение образ «белого домино», в котором угадываются писательская самопроекция и символ Христа. Они противопоставлены образам «чёрной кареты» сенатора и «красного домино» его сына, подпавших под власть инфернальных сил.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































