Текст книги "Король Красного острова"
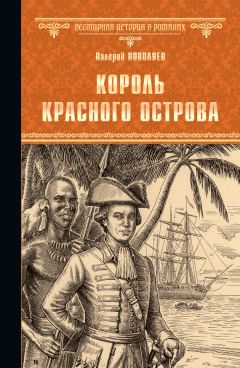
Автор книги: Валерий Поволяев
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Пошли мы, господин Винблад, – прежним заискивающим тоном произнес Паранчин. – Поспать надо хотя бы немного.
– Идите, – равнодушно проговорил швед.
Устюжанинову сделалось легче, мурашики перестали щипать кожу: он понял, что Винблад не предал шефа, о заговоре ничего не знает и на палубе оказался случайно.
Он радостно притянул к себе собачью голову, – кажется, эта была Маркиза, от того, что пришлось ему услышать, в мозгу все перевернулось, Алеша даже забыл, где лежит Маркиза, а где Граф, – и поцеловал. Наверное, так крепко он целовал только отца, когда прощался с ним в Ичинске.
Вскоре с палубы ушел и Винблад – выкурил свою трубку, неспешно выколотил ее за борт и отправился спать.
Сделалось тихо, совсем тихо. Под днищем «Святого Петра» плескалась вода, волны были мелкие, твердые, играли на листах железа, которыми было обшито днище, выбивали веселую дробь, иногда в воздух, беззвучно протыкая поверхность воды, взлетали небольшие светящиеся рыбки и, пронесшись по пространству метра три, вновь ныряли в воду.
Алеша аккуратно, стараясь не издать ни шороха, ни скрипа, выбрался из-под лодки наружу и, оглядевшись, побежал к Беневскому. То, что он узнал, надо было немедленно сообщить шефу. Иначе утром может быть поздно.
Беневский не спал, лежал вверх лицом, заложив руки за голову. Над кроватью горел тусклый фонарь-рыбник, пламя было неровное, трескучее, словно бы огню не хватало пищи.
– Альоша, – произнес Беневский тихим озабоченным голосом, – куда-то ты исчез…
– Да в шлюпке пробовал спать, – Устюжанинов махнул рукой, – не получилось. Тут вот какое дело, Морис Августович… Нехорошее дело… – Он рассказал Беневскому все, что услышал, лежа с собаками под лодкой.
Беневский выслушал «адъютанта» со спокойным, почти каменным выражением на лице.
– Ложись пока спать, Альоша, – ровным голосом проговорил он. – Как у вас говорят: утро вечера мудренее? Так? Очень хорошая поговорилка.
– Не поговорилка, Морис Августович, а поговорка, – поправил шефа Устюжанинов.
Беневский в ответ улыбнулся, потрепал Алешу за волосы.
– Спи, давай, – сказал. И таким спокойствием, такой убежденностью в правоте своего дела повеяло от голоса Беневского, что Устюжанинов мигом подчинился приказу, закрыл глаза и уснул.
Проснулся он от шума. Открыл глаза – в каюте было много народа, все галдели, взмахивали кулаками, вскрикивали, молчал, кажется, только один Беневский. Он с отрешенным видом разместился за столом и, кажется, совсем не обращал внимания на шум.
Посреди каюты на двух табуретках сидели Паранчин и Измайлов со связанными руками. По лицу Паранчина текли мелкие слезы. Он дергал головой, ронял слезы на пол, пытался справиться с собой, но это у него не получалось.
Вокруг шумели люди с гневными лицами: Панов, Чурин, Степанов, Батурин, еще кто-то, кого Устюжанинов не сразу и разглядел. У стола, около Беневского стояли Винблад и Хрущев.
– Ну что, вина ваша налицо – вы нас предали, господа, – жестким тоном произнес Хрущев. – А всякое предательство требует наказания. Таковы законы у всех народов Российской империи. Какие будут предложения?
– Предложение может быть только одно – смерть, – четко, тщательно выговаривая каждое слово, молвил Панов.
– Есть еще одно предложение, – голос седого, с морщинистым лицом Степанова был более миролюбив.
– Какое? – Панов вскинулся: не любил, когда кто-нибудь не соглашался с ним.
– Высадить изменников на одном из необитаемых островов Курильской гряды, а самим плыть дальше.
Панов сжал зубы, но в следующий миг лицо его неожиданно помягчело, в уголках рта возникли насмешливые скобочки.
– А что! – воскликнул он. – Такое развитие сюжета тоже может быть. Давайте проголосуем: кто какой вариант изберет?
Победил вариант Степанова.
Курильские острова всегда считались богатыми. Рыба, которая обитала тут – жирная, так называемая белая, на Камчатке не водилась. В Большерецке жили рыбаки – несколько человек, которые бывали на Курилах, привозили не только копченую белорыбицу, но и разные диковинки, в том числе и перламутровые раковины величиной с колодезную бадью. Красоты раковины были неописуемой.
В этом раю моллюсков, белорыбицы и неземных раковин и надлежало оставить изменников.
Ближе к вечеру, перед заходом солнца, когда еще не было темно, «Святой Петр» сделал остановку около острова Симушир.
Островок этот был неприветливый, моряки старались около него не задерживаться, проскакивать мимо, на галиоте находились двое матросов, побывавших на Симушире, на вопрос Хрущева, что это за земля, проговорили в один голос:
– Нежилая земля, человеку здесь делать нечего.
– А рыба тут ловится?
– Рыба на Курилах ловится везде.
– Выходит, изменники на Симушире не пропадут?
– Как знать, господин офицер, – уклончиво ответили матросы, Хрущев вгляделся в их глаза и все понял. Ответом бывалых людей он остался доволен.
– Кто родом – кулак, тому уже не разогнуться, – загадочно и туманно проговорил он, затем махнул рукой: не думал, что в их рядах могут оказаться предатели, но надо ведь – оказались… Хрущев поморщился – неприятно было. А с другой стороны, может, это не измена, а нечто другое? Может, люди дрогнули в последний момент и просто не захотели покидать землю, на которой родились?
В России это – традиция, сплошь да рядом человек, родившийся здесь, старается здесь и умереть и если судьба заносит его в чужие края, он делает все, чтобы вернуться домой, в места, где первый раз в жизни увидел солнце и услышал пение птиц – плачет он, худеет, становится нелюдимым и умирает, если этого не происходит.
Так и Измайлов с Паранчиннм, и матросы, примкнувшие к ним – два человека… Может, они сделав шаг и поддержав Беневского, побоялись сделать второй и, желая вернуться в Большерецк, домой, совершили предательство? Злого умысла не имели, а предательство совершили, такое могло быть?
Перед тем, как высадить изменников на Симушире, Хрущев решил поговорить с ними. Измайлов – худой, с черными, заросшими щетиной щеками, отвернулся в сторону и разговаривать с бывшим ссыльным не пожелал. Паранчин опустил взгляд и, вздохнув, отрицательно покачал головой. Хрущев понял, что говорить с ними бесполезно.
А вот матросы повалились перед ним на колени – и Петр Софронов, и Филипп Зябликов, второй несостоявшийся штурманский ученик. На глазах Софронова появились слезы, губы плясали.
– Простите нас, ваше благородие, – с трудом, вместе с горькой слезной мокретью выкашлял он из себя, – помутнение нашло…
– Простите нас, – в унисон ему прогудел Зябликов, поклонился Хрущеву, как иконе, стукнулся лбом в деревянный настил, проложенный по дну трюма – изменников содержали там, в трюме.
Если человек молит о прощении, клянется Всевышним, его надо прощать. Хрущев поморщился и пошел к Беневскому. Никто не знает, о чем они говорили, только Беневский велел собрать на палубе всех людей, находившихся на галиоте. Когда народ собрался и замер в тревожном молчании, Беневский вышел в центр палубы и сообщил, что произошло – рассказал о заговоре, о том, кто покаялся, а кто нет и следом вынес окончательный вердикт: Измайлова и Паранчина высадить без оружия и еды на Симушире, Зябликова и Софронова «драть кошками» – веревками, которые привязывают к кошкам, – высечь, но на «Святом Петре» оставить. Потому как они раскаялись…
– Прошу утвердить этот приговор, – сказал Беневский и в знак уважения поклонился собравшимся. Улыбнулся скупо. – Можно даже проголосовать. Как в английском парламенте.
Собравшиеся не стали жеманиться и мешкать – проголосовали… Приговор был утвержден.
На корме приготовили место, чтобы как следует высечь Зябликова и Софронова, но пока до этого дело еще не дошло, Зябликов и Софронов были вторым пунктом приговора, сейчас же надо будет разобраться с первым пунктом, с бедолагами, которые будут высажены на Симушире.
До неровного каменистого берега было метров сто, может, чуть больше, без промеров глубин Чурин подойти ближе не решился, поэтому на воду спустили шлюпку. Двое матросов сели за весла, один – на корму, рулевым.
Тишина возникла такая резкая, горькая, что от нее можно было оглохнуть. Зябликова и Паранчина спустили в шлюпку. Хрущев сделал прощальный взмах рукой:
– Отчаливай!
Матросы дружно налегли на весла. Шлюпка круто развернулась, под днищем ее дробно застучала вода, сидевшие на берегу чайки закричали встревоженно, протестующе – не хотели с кем-либо делить пространство Симушира, один из матросов хлопнул веслом по воде и чайки поднялись в воздух.
Недалеко от берега шлюпка ткнулась носом в мель и остановилась, первым из нее вылез Паранчин, потом Зябликов, оба с уныло опущенными головами побрели по воде к мокрым, обросшим зеленым волосьем камням, темнеющим на урезе берега.
Среди людей, выстроившихся вдоль борта «Святого Петра», возникли тоненькие всхлипы, завершившиеся громким взрыдом, затем все стихло. Беневский, который внимательно следил за реакцией собравшихся, на всхлипы даже головы не повернул, хотя слышал их хорошо.
Неожиданно шеренга собравшихся раздвинулась – это довольно решительно сделала невысокая черноволосая женщина с симпатичным смуглым лицом и, выкрикнув что-то невнятно, лихо, ласточкой, перемахнула через борт.
Кто-то, не выдержав, ахнул.
Плыла женщина лихими мужскими саженками – так плавали на Руси издавна, еще с незапамятных времен, наверное, с поры Алексея Тишайшего.
– Лукерья Паранчина, – изумленно выдохнул матрос с длинными французскими баками, похожий на гусара, – мужа не захотела бросать… Дура баба! Пропадет не за понюх табака!
– Это мужик может пропасть, а баба ни за что. Баба – палочка-выручалочка. Мужики с ней не умрут на этом необитаемом острове, вот увидишь.
– Если бы на Симушире водились бы свиньи или что-нибудь в этом роде – уцелели бы, но здесь ничего, кроме крапивы не водится. Да и крапива – только в урожайные годы.
– Зато рыбы – больше, чем на Камчатке.
Беневский все слышал, все видел, но никак на происходящее не реагировал. Он, кажется, даже на плывущую Лукерью Паранчину не смотрел. Измайлов и Паранчин, стоя в воде у самой кромки берега, ожидали женщину. Вот она подплыла к ним, тряхнула мокрой головой и встала рядом с мужем. Паранчин заботливо обхватил ее одной рукой, все трое повернулись и стали карабкаться на мокрые камни.
Когда шлюпка подошла к галиоту и ее веревками затащили наверх, на палубу, Беневский дал команду поднимать якорь, сам, опустив голову и даже не оглянувшись на остров с оставленными там людьми, ушел к себе в каюту.
«Святой Петр» в вечернем сумраке продолжил плавание на юг. Алеша Устюжанинов хотел было тоже пойти в каюту, но не пошел – внутри было холодно, в горле скопились слезы, в виски натолкалось что-то тяжелое, будто кто-то неведомый, всесильный, набил череп каменной пылью, и Алеша перекрестился.
– Свят, свят, еси… Отче наш иже еси на небесах, – он прочитал молитву один раз, другой, потом третий, думал, что муторное слезное состояние пройдет, но оно не проходило.
Тогда он забрался под шлюпку, где случайно подслушал разговор двух бунтовщиков, и заплакал.
К нему тут же примчались две собаки, находившиеся в другом углу галиота, также втиснулись под шлюпку. Алеша закрыл глаза, забылся и не заметил, как уснул…
Через некоторое время кончились сухари, которые они брали с собой. Солонина у них была, жир был, вяленая рыба была, еще – мука, мед, топленое масло, а вот ни хлеба, ни сухарей не было – кончились запасы. Беневский покряхтел, что-то соображая, и сказал Чурину:
– Надо пристать к какому-нибудь острову. Нужно не только хлеба побольше испечь, но и набрать воды. У нас протухли две бочки с водой.
– Видимо, бочки, прежде чем заполнить их водой, надо было протереть водкой, – сказал Чурин, – так иногда поступают бывалые люди.
– Сто лет живи – сто лет учись, так, кажется, говорят в России?
– До Японии осталось совсем немного, – заметил Чурин.
– Япония нам нужна, там мы попробуем и меха продать и провиант купить. Но к острову все равно пристать придется.
Чурин склонился над картой, расстеленной на столе, взял в руки штурманскую линейку.
– Сегодня, на закате солнца можем бросить якорь около острова, у которого нет названия. Может быть, подойдем к нему в темноте – все зависит от ветра, господин Беневский. А ветры в этих широтах – капризные…
– Не зовите меня господином, Чурин, – попросил Беневский, – не люблю господ.
– А как же мне в таком разе вас звать? – спросил Чурин растерянно. – Братом, дядей, племянником?
– Зовите по имени-отчеству, как принято в России, – не ошибетесь. А слово «господин», извините, мне не нравится.
В этот момент Чурин понял нечто важное, чего не понимал раньше – Беневский, рассказывая о землях с райскими птицами, о климате, в котором нет испепеляющих, как на Камчатке морозов (впрочем, и лютой, убивающей все живое жары тоже нет, температура и летом и зимой одинаковая), о хлебе, который растет круглый год, о золотой посуде, что есть в домах у всех граждан без исключения, о равенстве в обществе и многом другом, ни разу не произнес слово «господин» поскольку считал, что главное богатство тех земель – свобода и равноправие. Люди там свободны, вот ведь что важно, не чувствуют себя ни ущемленными, ни приниженными, дышат легко, не умеют обманывать друг друга и чинить зло…
Алеша Устюжанинов, присутствовавший при разговоре, понял это давно, – удивительно только, что умный и опытный Чурин не понял эту простую вещь до сих пор. Хотя Беневский об этом много говорил.
Острова, который был нанесен на карту, не оказалось – Чурин только глазами хлопал озадаченно, да покрикивал на своего помощника Бочарова, бегавшего по палубе со штурманскими приборами, помогающими определить координаты, – все было верно, и местонахождение «Святого Петра» Бочаров определил верно, и в море точно сориентировался, и звезды, возникшие на темном вечернем небе, подтвердили: остров должен быть, а острова, увы, не было…
– Тьфу! – с досадою отплюнулся Чурин. – Так и до неприятностей недалеко – сядут на какой-нибудь риф, не обозначенный на карте и – тю-тю тогда, все последующее плавание пойдет прахом. Тьфу! – вновь отплюнулся Чурин.
Приказал бросить в воду лот. Двое матросов, гулко шлепая по деревянному настилу палубы босыми ногами, побежали на нос, неся на плечах две бухты веревки. Лот на «Святом Петре» был примитивный – веревка с разметкой и тяжелый чугунный стакан, привязанный к ней.
Лот вытравили полностью в воду, но дна не достали.
– Однако, – Чурин поскреб пальцами затылок, – глубина тут, наверное, с полкилометра будет, не менее.
Похоже, так оно и было.
Это была первая ночь, когда они не останавливались на ночевку – с при спущенными парусами, осторожно, с вполне понятной боязнью, под малыми парусами поплыли дальше. Острова, нанесенного на карту, они так и не нашли.
Не обнаружили они его и на следующий день, ни утром, ни вечером.
Днем неожиданно вскипел Степанов, выдернул из ножен казачью саблю, украшенную позолоченным эфесом, с которой никогда не расставался, сабля была офицерской, ее бывший подмосковный помещик выиграл в карты, хотя всем говорил, что взял саблю в воинском сражении (но в каком сражении русский офицер мог взять саблю у русского офицера?), – раскричался на весь галиот:
– Воды! Хочу воды! Где вода?
Степанова тотчас же окружили несколько человек, таких же буйных и горластых – не выдержали подступившей духоты, – тоже стали громко орать:
– Воды! Воды!
К крикунам вышел Беневский:
– Вы же знаете – воды нет, вы же ее и выпили. Последняя бочка лопнула в трюме. Сейчас Чурин ищет остров, к которому можно пристать, набрать воды и испечь хлеба. Терпите, прошу вас, друзья.
– А если острова не будет до самой Японии?
– Будет, уверяю вас.
– Прикажи достать бочонок водки, – потребовал Степанов. – Водка – та же вода, только крепкая.
– Вы же перепьетесь, потом перестреляете друг друга…
– Это наша забота, господин Беневский.
При слове «господин» Беневский поморщился.
– Ваша забота может стать нашей, – жестко заметил он.
– Доставай водку и – никаких разговоров, – потребовал Степанов, – иначе сами достанем.
– Черт с вами, доставайте, – Беневский махнул рукой: возникновения еще одного бунта на корабле не хотелось – это во-первых, а во-вторых, горластого Степанова ему не перекричать.
С победным ревом Степанов воткнул саблю в ножны и ринулся в трюм, за ним еще человек десять, образовали у люка толкотню, но в конце концов, все благополучно провалились в душную глубину трюма.
Через несколько минут пятнадцативедерный бочонок водки уже находился на палубе. У него немедленно выстроилась очередь людей с кружками в руках.
За опустошением водочного бочонка с грустью наблюдал Магнус Медер – ведь он отвечал за продуктовый запас и здоровье экспедиции, если это плавание можно было назвать экспедицией.
В результате почти весь галиот оказался пьяным, – за исключением самого лекаря, Беневского, Чурина, Алеши Устюжанинова и шести женщин. Впрочем, это имело и свои положительные стороны: никто из тех, кто пил водку, уже не требовал воды. Может, действительно был прав Степанов: водка – это та же вода, только крепкая.
Пьяные долго колготились на палубе «Святого Петра», Магнус Медер наблюдал за ними – как бы кто-нибудь не вывалился за борт, но слава Богу, все обошлось, один за другим пьяные начали отключаться – одни разлеглись спать на палубе, другие попадали в трюм, третьи нашли себе место еще где-то. Корабль затих, поскрипывал снастями, да привычно давил воду тяжелым перегруженным корпусом. В бочонок, в котором плескались остатки водки, забили пробку и Беневский откатил его в свою каюту.
Командир галиота Чурин клевал носом за штурвалом, но с места своего не уходил…
Алеша Устюжанинов решил ночевать все-таки под лодкой – пространство под просмоленными досками шлюпки полюбилось ему больше, чем каюта: и вскакивать рано не надо, и покидать помещение по первому требованию взрослых, которым понадобилось провести секретное совещание, пошушукаться, тоже не надо, и духоты спертой на палубе нет, и дышится легче, и… в общем, если бы под шлюпкой можно было устроить свой дом, Устюжанинов сделал бы это. Шлюпка – лучшая крыша на всем галиоте.
Он свистнул тихонько, подзывая к себе собак, те не замедлили явиться, пролезли вслед за Устюжаниновым под шлюпку. Чувствовали они себя так же плохо, как и люди – было жарко, не хватало воды…
Перед рассветом собаки начали нервничать – дергались, высовывая головы из-под плотного полотна, которым была накрыта шлюпка, поскуливали, взвизгивали, потом замирали и прислушивались к чему-то, через полминуты обреченно опускали головы. Что происходило с ними, Алеша не понимал.
Прошло еще немного времени и Маркиза, неожиданно резко вскинув голову, напряглась и завыла. Следом завыл Граф. Алеша почувствовал, что по коже у него побежали мурашики.
– Тихо! – шикнул он на собак. – Людей разбудите!
Но собаки не слушали его. Что-то древнее, колдовское возникло в этом вое, родило в Устюжанинову страх, он покрутил головой ожесточенно, сопротивляясь печальным собачьим голосам, но ничего поделать не мог… Состояние у него было такое, что в следующую минуту он готов был завыть сам.
На вой из своей каюты вышел Магнус Медер, подергал обеспокоенно одним плечом – собачий вой никогда не сулил ничего хорошего, обычно псы воют, когда чувствуют покойника и люди, слыша их, испуганно крестятся: свят-свят-свят!
Кряхтя озабоченно, лекарь подошел к шлюпке, поднял полотно:
– Собака выл – большой беда может быть. Чтобы беда не был – собака надо стреляйт, – Медер стал говорить по-русски много лучше, даже трудные буквы, которые ему не давались, начал произносить.
– Да ты чего, дядя Магнус? – протестующе закричал Алеша и показал из-под лодки кулак. – И не думай, дядя Магнус!
Услышав заявление лекаря, собаки оборвали вой – дружно, разом – они хорошо разбирались в человеческой речи.
– Нет, они не покойник чувствуют – чьто-то тругой, – сказал лекарь.
– А что? – свечкой вытянулся под шлюпкой Устюжанинов.
– Не знаю. Если бы покойник – не оборвали бы вой.
Медер постоял несколько минут около шлюпки, пошамкал губами и пошел к Чурину, который бодрствовал у штурвала. Чурин тоже слышал собачий вой и был полон недобрых мыслей. Он сосредоточенно вглядывался вперед, но ничего не видел – вокруг еще стояла ночь, плюс ко всему, к темноте, которая должна была рассеяться, но не рассеивалась, примешался туман, разглядеть ничего нельзя было, если только собственные пальцы, но и те становились не видны, стоило только руку вытянуть.
Выслушав Медера, Чурин сказал:
– А лях его знает, почему воют собаки? Не ведаю, господин адмиралтейский лекарь.
– Впереди никакого острова не может быть?
– Нет. На карте ничего не отмечено. А с другой стороны… – Чурин засипел по-стариковски и, закрепив штурвал специальной кожаной лямкой, чтобы не крутился впустую, выбрался на палубу.
С правого борта выбросил лот. Чугунный стакан ушел недалеко – метров на десять всего и лег на дно.
– Вай-вай-вай! – вскричал Чурин звонким, будто у молодого петуха голосом и, выбрав лот, метнулся к якорному колесу.
Неувертливая цепь с тяжелым, откованным в сельской кузнице якорем поползла в воду. Через несколько минут цепь натянулась, галиот встал на якорь. Чурин перекрестился.
– Вовремя собаки завыли! – Прошел к штурвалу, развернул карту и невольно ахнул.
– Чьто? – поинтересовался лекарь.
– На карте указана совсем другая глубина – четыреста шестьдесят два метра.
– Можно подумать, что составитель карта сам лазил эта глубина.
– М-да, господин адмиралтейский лекарь, – удрученно пробормотал Чурин, – вы безусловно правы – он не лазил на эту глубину.
– Спокойная вам ночь, господин Чурин, – ложитесь спать – минут сорок вы можете поспать, пока не станет светло. Будет утро – будет новость.
Утро не наступало долго. На палубе самозабвенно храпели пьяные люди – ни один из них не проснулся, когда выли собаки, не проснулся из них никто и на рассвете.
Собаки, едва «Святой Петр» бросил якорь и перестал скрежетать железом кабестан, успокоились – ни Маркиза, ни Граф больше не подавали голоса. Собаки тоже ждали, когда придет утро.
Воздух перед галиотом порозовел, туман немного приподнялся над водой, заколыхался плотной массой, сбитой в творог. Устюжанинов заглянул за борт, увидел несколько голубых рыбешек с темными спинами… Здесь был другой мир, другая природа, совсем не та, что на Камчатке.
Где-то далеко, пока еще невидимое, из моря начало подниматься солнце, воздух порозовел еще больше, туман стал распадаться на куски, словно бы его накрывала неведомая сила… Вот среди голубых рыб неторопливо проскользила крупная оглаженная тень с косым плавником, в воде родился брызжущий светлый огонь – и ни одной васильковой рыбехи не стало – все исчезли. Большая рыба принадлежала к числу владычиц морей, такая если захочет проглотить галиот – проглотит и его, вместе с людьми, – не только стадо проворных голубых теней, способных рождать подводный свет.
На палубе тем временем начали ворочаться, стонать вчерашние выпивохи; бывший канцелярист Судейкин, подкатившийся во сне к самой шлюпке, с хрипом схватился за голову, подергал ее, словно овощ, который надо было вытащить из земли, спросил самого себя:
– Отчего так сильно болит эта бестолковая репа?
Он, конечно же, знал ответ, но озвучивать его не стал, застонал жалобно, закхекал, задыхаясь, на голос канцеляриста привычно среагировал Рюмин, взвыл по-кошачьи – ему было хуже, чем Судейкину, совсем плохо.
На палубу выбралась Маркиза, понюхала Рюмина и брезгливо отвернула голову в сторону. В воздухе висел удушливый запах непереваренного алкоголя. Вот, как говорится, и попили водицы.
Когда туман рассеялся окончательно, все увидели неподалеку зеленый, с кудрявыми шапками высоких деревьев остров.
– Ур-ря-я-я! – восторженно заверещал непроспавшийся, окутанный алкогольным облаком Судейкин, на четвереньках подполз к борту и, перевалившись через него, тяжелым мешком шлепнулся в воду.
Прохладная утренняя вода мигом привела бывшего канцеляриста в чувство и он, коротко взмахивая руками, поплыл к острову. За ним в море прыгнули еще несколько человек, гуськом двинулись вслед за Судейкиным.
Алеша не выдержал, притиснул к себе собачьи морды, потом, растрогавшись, поцеловал Маркизу, следом – Графа.
– Если бы не вы, мы бы налетели на этот остров и разбились бы, – сказал он. – Спасибо вам, – вновь поцеловал Маркизу, потом – Графа.
Той порой на воду спустили шлюпку, за ней – легкую алеутскую лодку, сшитую из прочных нерпичьих шкур. В шлюпку прыгнули несколько человек, в лодку, рискуя перевернуться, – также несколько. Полтора десятков ударов весел по воде – и лодка обогнала неторопливую тяжелую шлюпку.
Остров, судя по всему, был небольшой, обкатанный водой, будто голыш – ни одного острого угла, зелень на нем была изумрудная – ни единого каменного откоса, словно бы в море бросили ком земли, который спокойно лег на дно, в него кинули несколько семян, из которых проросли деревья – в результате возник райский уголок.
Шлюпка вскоре вернулась, Алеше Устюжанинову в ней досталось место – крохотный клочок на кормовой скамейке; когда отчалили, Маркиза с Графом, возбужденно носившиеся по палубе, прыгнули в воду и поплыли рядом со шлюпкой.
Когда немного отошли от «Святого Петра», Алеша оглянулся и чуть не присвистнул от удивления – таким маленьким оказался галиот. Как же на нем поместилось столько людей?
На острове пахло цветами. Звенели голоса птиц. Соединенные вместе, они превращались в птичий грай, способный задавить любой другой звук, даже рявканье пушек «Святого Петра», иногда несколько птиц смолкали, отключались и тогда становились слышны отдельные голоса… Таких голосов раньше Алеша не слышал. Наверное, это были птицы, которым уготовано жить только в раю, это о них в Большерецке рассказывал Беневский.
Недалеко от места, к которому причалила шлюпка, за излучиной, в море впадала бурливая речушка с холодной и, как оказалось, очень вкусной водой. На берегах речушки, по обе стороны ее, лежали люди – сюда переместился уже весь галиот, – и пили, пили воду, никак не могли насытиться. Пили, не отрываясь, брызгались, кричали восторженно, лили воду на себя, хохотали.
Первым от воды оторвался Судейкин, перевернулся на спину и хлопнул кулаком по тугому пузу.
Вода фонтаном выбрызнула у него из ноздрей.
– Уф! – сказал на это Судейкин.
Устюжанинов пил воду долго, не отрываясь – наполниться ею хотел по самую макушку. Потом, как и Судейкин, отвалился от речки и опрокинулся на спину. Далее, в подражание Судейкину, ударил себя кулаком по животу.
Думал, что у него, как и у канцеляриста, выбрызнет из носа вода, но из носа ничего не выбрызнуло, даже остатки насморка там остались. Фокус не удался.
Алеша на четвереньках отполз в сторону, потом поднялся на ноги, сделал несколько шагов и очутился в высоком зеленом лесу.
Громкое пение птиц здесь не оглушало так, как оглушало на берегу реки. В кустах звенели, издавая режущие металлические звуки, какие-то сверчки, а может, кузнечики, чтобы разобраться в этом, надо было изловить голенастого и, видать, не бескрылого «певца».
Неожиданно под ногами Алеша увидел свежий помет, очень похожий на козий, только горошины были крупнее козьих. С охотничьим промыслом Алеша Устюжанинов был знаком – и на соболя ему доводилось ходить, и на дикого северного оленя. И из ружья он умел стрелять. Отец его хоть и священникам был, а стрелял так, что вызывал восхищение у охотников.
Это умение Устюжанинов-старший передал и сыну. Алеша минут пять с интересом просматривал помет неведомого зверя. Кто же это мог быть? А вдруг из неведомого зверя можно сварить хорошую похлебку? Мясную… А?
Хоть и ринулись люди на остров, сломя голову, ошалев от того, что видели землю и издали ощущали дух свежей пресной воды, – как звери, – а не все лишились разума: и Беневский, и Хрущев, и Панов взяли с собой ружья.
Алеша вернулся к речке, тронул Беневского за руку:
– Морис Августович, дайте мне ваше ружье – тут неподалеку какая-то живность пасется, попробую подстрелить.
Беневский, недолго думая, протянул ружье:
– Справишься?
Устюжанинов ответил уверенно, будто бы всю жизнь только тем и занимался, что палил из охотничьих ружей:
– Справлюсь, дядя Беневский.
День обещал быть жарким. Из плотных зеленых зарослей потянуло прелью, звериным духом, Алеша, пройдя метров пятьдесят, остановился, покрутил головой, соображая, куда идти, затем сделал решительный шаг в глубину леса.
Охотничье чутье не подвело Устюжанинова, он прошел еще метров пятьдесят и очутился на краю большой, густо заросшей травой, поляны. На поляне паслись два оленя, семья – самец и самка.
Задержав в себе дыхание, Устюжанинов поднял ружье, притиснул поплотнее к плечу приклад. Отец учил его, что стрелять надо только в самца, самка обязательно должна остаться – ей предстоит продолжать род… Самец же на ее долю найдется непременно.
Самец был заметно крупнее самки – упитанный, важный, породистый. Судя по всему, олени были непугаными – крики, доносившиеся с речки, не тревожили их.
Алеша прицелился оленю в голову, подивился непривычному виду – пятнистости и коротеньким простым рогам, подумал о том, что крапчатая шкура у оленей очень хороша и выстрелил.
Олень дернулся, задирая голову и поднимаясь на задних ногах, затрубил горестно, жалобно и в следующее мгновение рухнул в траву. Олениха выстрела не испугалась, никуда не убежала, склонилась над поверженным самцом – не поняла, в чем дело.
Устюжанинов невольно попятился – слишком необычной была реакция оленихи, внутри у него родился неожиданный страх, в горле сделалось сыро. В следующее мгновение он остановился – сзади, в траве, послышалось неясное шуршание. Алеша скосил взгляд и увидел Графа. Страх, возникший в нем, исчез.
Олениха, не испугавшаяся ни человека, ни грохота ружья, собаки испугалась, совершила длинный прыжок в сторону и исчезла. Самец остался лежать на поляне, – изящный, с неловко подогнутыми под себя ногами и подломленной головой.
На Камчатке, когда охотник поражает пулей добычу, то обязательно молится ей. Иначе царь зверей рассердится и удачи в охоте тогда не видать. Алеша степенно, как это делают взрослые охотники, перекрестился, зашевелил губами, читая про себя молитву. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий…»
Над головой промахнуло несколько птиц с ярким желтым оперением. Ну будто бабочки это были, а не птицы. Весной на Камчатке тоже появляются желтые, неземно светящиеся, по-птичьи проворные бабочки.
В кустах за спиной вновь послышалось шуршание, раздались голоса – к поляне шли люди.
– Ну что, Альоша, есть добыча? – донесся до Устюжанинова голос Беневского.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































