Текст книги "Время ноль (сборник)"
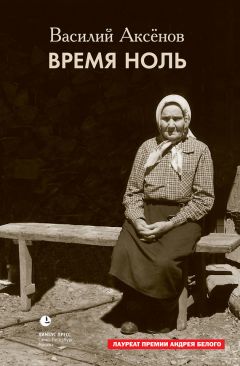
Автор книги: Василий Аксенов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Смотрю я на Диму, думаю, он, как и я, маленько… больше ли? А – как огурчик. Я же – маленько… и маленько.
– По старой борозде, – говорит Дима. Сказал, достал после сигарету. Курит.
– Скоро от курева зелёным станешь.
– Зелёным – ладно – Таньке спокойней будет на меня глядеть… Врачи в зелёных же халатах.
Пришагал вразвалочку к урне – всех к ней, единственной на перроне, всю местную фауну, на мёд будто, притягивает – голубь, сизарь – грудь на заре его переливается пунцово-фиолетово, идёт, налево и направо франтом поворачивается, как кавалер перед дамами раскланивается, и всё поклёвывает что-то, от каждого нашего движения крыльями резко взмахивает, но не взлетает – кушать хочется.
И воробей, упав с неба камнем, присоседился к голубю, тоже поклёвывает что-то – и тоже, видно, опасается – глазом-дробиной скорострельно изучает нас.
– Мунгалову, Андрюхе, позвони. А то забудешь, – говорю. – Предупреди. Кто меня встретит?
– Милиция, – говорит Дима. – Тьпу-тьпу-тьпу, не приведи Господи… Чур нас от них, а их от нас, не к ночи будь упомянуты… Да не забуду, ты не бойся, я из ума ещё не выжил… Смотри, а небо-то какое… Как на Канарах.
– Я не боюсь.
– А ты куда-то глядя на ночь… Добрые люди по ночам, Олег Николаевич, не шляются. Сейчас нашли бы куда съездить. Водитель есть – и увезёт, и привезёт – доставит в целости-сохранности… Я на Канарах, правда, не бывал. А ты?.. Ты всё в Ялань… И как ты там живёшь – без бабы?.. Целое лето… С ума сойти, тут только тапочком не обойдёшься… Вряд ли уже когда и побываю. Но небо-то везде, наверное, одно и то же. Чё нам Канары, у нас на пасеке не хуже. А то поехали?.. Ты не заботься, – говорит Дима. – Не переживай. Тебя проводим, к Ляпину заеду… Директор молокозавода… Номенклатура высшей пробы – такого пуза ты не видел – топор об него можно поправлять… Здесь по пути. А от него и позвоню… Мне за сметану много задолжал он. Денег у красного директора, а по совместительству буржуя, море, а за рубль бабушку родную порешить может. Держит ротвеллера – того вот любит. И ест с ним с одной миски. В постель к себе только не кладёт – ещё откусит… Я, правда, свечку не держал…
– По городскому не найдёшь, – говорю, – звони на сотовый.
– Как скажешь, – говорит Дима. И говорит: – Да не забуду, не забуду. Андрюха – сволочь предпоследняя – ещё найди его попробуй, но постараюсь.
– Да уж найди, – говорю. – Постарайся. Поезд мой с Исленьска ровно через двое суток. Ждать столько на вокзале – усохнешь.
– К Нинке пойдёшь, перекантуешься… Размочит.
– Лучше уж на вокзале.
– Дело твоё. А я бы – к Нинке… И коньячку тяпну у Ляпина – не удавится… Только сначала дозвонюсь… А ты не хочешь?
– Не хочу.
– А я бы тяпнул, – говорит Дима. – Подружку с Гачинска вспомнил, и, как мальчишка, растревожился. Ещё и спирту попрошу. Неразведённого… Времени сколько?.. А?!. Ох, ё-моё, а где часы-то?!. – Уставился Дима с изумлением на голое своё запястье, со светлой поперечной полосой на загаре – ей, полоске этой, будто удивился. Перевёл взгляд на меня – и я его не меньше будто поразил – часы-то я украл как будто. И говорит: – Смотрел же только что, ведь были!.. Он – бич! – зараза, скоммуниздил!.. Тёрся, тёрся, вот… умелец! Сигарету-то когда ему протягивал… И ты проверь свои карманы… Уец… А-а, у тебя ни денег, ни часов – ещё счастливый… Ох, паразит!.. Каких уж вроде где ни навидался, а тут, стою, как ротозей, не понял, – говорит Дима. Смеётся. – Продаст ведь, сволочь… за бутылку – прогадает, если за две ещё, то – ладно… Во, марсиянин. И ему, инопланетному, выпить хочется, хоть и без печени уже, без почек – по роже видно, по прямой, как через шланг, протекает… Как нам теперь без времени-то с Женькой?
Полез я в карман, в один, в другой сунулся – и успокоился: всё на месте – паспорт, ключи, водительское удостоверение, книжка телефонная, билет на поезд, ну и деньги – и мои, и те, что тётя Аня мне дала в дорогу.
– Не спёр?
– Не спёр.
– Ну, слава Богу… Да к вам-то он не приближался. Это со мной – маленько не обнялся. Хотя такой и за два метра выудит – настроил цапки, а с виду – попа вроде круглая… Скажу Ляпину – всех тут на уши поставит, всю местную шелупень вздыбит, перевернёт всё Милюково… вот уж не город-не деревня… Отыщут… Пока предание свежо… Ох, ты! Орехи-то забыли! – говорит Дима. – Сбегай, Женька, принеси… Красный мешок полиэтиленовый, там, на полу, у заднего сиденья… слева. А не отыщутся, шут с ними – уже давно их собирался поменять… теперь, наверное, и поменяю… На три минуты в сутки отставали… И не заметил, как… Ловкач. Ладно, чё злюсь, пусть пользуется – хоть на бутылку заработал – день для него прошёл не зря.
Ушёл Женька. Вернулся с орехами.
– Принёс? – спрашивает у племянника Дима.
Молчит Женька.
– Принёс, – отвечаю за него я.
– Вот, – говорит Женька, кивая на мешок.
– Вижу, – говорит Дима.
Уложил я мешок в свой рюкзак – поместился.
– Ну, – говорит Дима. – Пора, наверное, тебе залазить. Уец, рюкзак… Пойдём, проводим.
– Да сам я, – говорю.
– Ещё наносишься, успеешь, – говорит Дима.
Подхватил Женька рюкзак. Пошли мы. Тут, рядом.
Подступили.
– Добрый вечер.
– Добрый вечер.
– Ты, – говорит Дима проводнице, разглядывающей подробно мои паспорт и билет на поезд, после меня – ещё внимательней – как стосковалась, – его, поедете, не обижай, это мой друг, – говорит Дима. – Наш… из Ялани. Нос, видишь, русский – не кавказец… А мы зайдём, посмотрим, как устроится, и выйдем… Ага, красавица?
– Тока недолго. И не подумайте там распивать, – говорит красавица. Серьёзная. Лет тридцати. Красивая, на самом деле. Глаза – закат, в тени стоим, их не хватает – ясно-голубые, без ржавинки. И униформа ей к лицу. Волосы рыжие – от хны, густые – под беретом – едва тот их сдерживает.
– Вот распивать-то, жалко, нечего… Не будем, – уверяет её Дима.
– Пошевелитесь там, – говорит проводница.
– Успеем, – говорит Дима. – А не успеем, с тобой до Гачинска прокатимся.
– Ага!
– Или его проводим до Исленьска.
– Тогда я вызову милицию.
– Не надо.
Дима смеётся, проводница улыбается.
Поднялись мы по очереди в тамбур. Прошли гуськом по проходу – Дима первым, я последним, – нашли моё купе. Открыта дверь. Втроём втесняемся – пошевельнуться негде.
Сидит в купе, за столиком, мужик. Руки на столе, пальцами в замок стиснуты. С бородой. Нос крупный, кирпичом будто натёрт – это, уж точно, от заката. Ничего больше в мужике не замечаю – не до него мне пока – мельком лишь по нему глазами пробежался.
– Во, попутчик, – говорит Дима. И говорит попутчику: – Здорово.
– Здрасте, – отвечает тот.
– А девка тут не заходила? – спрашивает Дима.
– Не видел, – отвечает попутчик.
– Значит, не заходила, раз не видел, ту бы заметил… Рюкзак под лавку положи, – велит Дима Женьке. Поднял Женька полку с аккуратно застеленной на ней постелью, устроил на бок рюкзак в ящик, опустил полку на место.
– Постель поправь.
– Она не сбилась.
– Вижу… Время есть ещё, пойдём, – говорит мне Дима, животом подталкивая Женьку. – Ведь говорил – за водкой сбегать надо было.
Вышли мы в обратной последовательности из вагона. Стоим на платформе. Прощаемся. Обнялись раз, другой раз обнялись. Крепко.
Небо светлое ещё, но на земле уже смеркается – мягко-мягко обволакивает.
Луна в небе. Подточенная. Кто-то из неё как будто шпонку начал делать. Стареет. Не тот, кто делает, – луна.
Вороны из тополя, совсем ещё зелёного, без желтизны, выпрыснули – как будто кто-то их оттуда жменей вышвырнул, поорали, погалдели, в небе ошметьем чёрным поболтались беспорядочно и опять в листву, как блохи в шерсть собаке, втиснулись – снова не видно их, не слышно – и о чём там только думают?
– К тётке Елене я заеду, отчитаюсь, – говорит Дима, натирая ухо мне своей щетиной – за день, успела, отросла, как у абрека, благо, светлая, не видно. – Буду заглядывать – Ялань-то проезжаю. Не унывай… Сегодня – нет уже – назад, домой, скорей всего, поеду поздно, ночью – кое-какое дельце тут наклюнулось… не смейся… а завтра утром – обязательно… в город мне надо будет… совещание.
– Хорошо бы, – говорю.
– Пообещал ей мешок комбикорму, – говорит Дима. – Тогда ещё, на той неделе. Вот прямо завтра же и завезу. Нечем корову, жаловалась, подкормить… Раньше лафа была, теперь проблема с этим… Но в девяносто лет… Олег… не знаю…
– Ладно, – говорю. – Завези. А деньги?..
– Какие деньги?!
– За комбикорм.
– Да перестань… Жаль, – говорит Дима. – Будет не хватать. Сильно. Когда и мимо еду, без заезда, знаю – тут ты – как-то спокойно… Полсердца будто отрывается… Ну. Возвращайся. Будем ждать.
– Ладно.
– Ладно… Деньги отдашь, когда разбогатеешь.
Объявили отправление – далеко разнеслось.
Опять из тополя вороны выпорхнули – как будто выдавил их кто-то – сок так из стиснутого фрукта вылетает – брызгами, сок необычный только – чёрный. Прочь теперь сразу улетели, около не болтались. Расселись вразнобой по полувагонам, гружённым лесом – лиственницей и сосной. Помалкивают – как мишени. Смотреть будут, как поезд мой поедет, – расписание знают. И я про них догадываюсь: ушлые – не просто так там притихли – что-то затеяли.
– Всё, – говорит проводница. – Хватит вам уже прош-шац-ца. Счас будет трогац-ца.
Обнялись мы с Димой. С Женькой попрощались за руку. Ещё раз с Димой обнялись.
– Да вы ишшо мне, мужики, тут расцалуйтесь, – говорит, посмеиваясь, проводница. Говор – чалдонский. Взгляд – лукавый.
– А чё, возьмём и расцелуемся… Можно с тобой, – говорит ей, отстранившись от меня, Дима. – Нас уговаривать не надо долго.
– Ага, – отвечает ему проводница. – Стою, об этом тока думаю.
– И я тоже, – говорит ей Дима.
– Ага. Конечно. Обойдётесь.
– Ну, всё, – говорю.
– Давай, – говорит Дима. – Счастливого пути. До будущего лета. Возвращайся. Ждать – и мы, и Таха – будем… Соберёмся всё же, может, сходим?
– Сходим, сходим… Бог даст, сходим.
– Ну, давай, – говорит Дима. – И не грусти там.
– Куда денусь, – говорю, – стану.
Поднялся в тамбур, зашёл в вагон. Никого в коридоре. В большинстве купе двери настежь – без пассажиров. Тихо. Красная ковёр-дорожка. С рыжими поперечными на ней полосами – от заката – там, где двери-то открыты. Свет не включён – только от улицы – и того пока хватает.
Тронулся поезд – плавно, без дёрганья. Разгоняется надсадно.
Смотрю в окно на Диму и на Женьку, они с перрона – на меня, душа моя съёживается, сжимается – как поролон – тот-то бесчувственный, душе вот – больно. Скрылись из виду дядя и уец.
«Бог даст, до встречи, дорогие».
А так уж хочется, чтоб дал-то.
* * *
Постоял я в коридоре. Посмотрел в окно – тоскливо – острое у неё жало, у тоски – аседия – глубоко проникает.
Зашёл в купе. Сел на свою постель. Сижу.
Заря ещё вовсю пылает – над Яланью.
Мужик молчит. Борода у него русая, неухоженная. Словно дичка – как растёт, так и растёт. Заступом. Расчесал бы, мельком думаю. И думаю, его забота, я-то так, лишь отмечаю, пусть хоть в валенок скатается, веником-голиком ли торчит – он ей хозяин. Лицо продолговатое. Возраста моего мужик. Так, в бороде-то, лишь примерно угадаешь, а на самом деле сколько – непонятно. Но не старик – определённо. В самом прыску, сказал бы мой отец.
Смотрим – в окно оба; я – назад, откуда уезжаю, он туда – по ходу поезда.
Сидим – незнакомые – попутчики.
Позади осталось Милюково. Червяком обполз его состав наш. Протяжённое – вдоль Ислени – на многие километры. Ощетинившееся всевозможными подъёмными кранами, безразлично оттеснившими людей и их жильё от всё ещё живописного берега. Флагман Российской лесной промышленности. Миновали по задворкам, захламлённым флагманскими отходами – горами горбылей, обрезков и опилок, кое-где незатухаемо, изо дня в день, из года в год, зимой и летом, дымящимися, пуще торфяников. Тайга пошла – одно название, тайга – давно уже вырубленная, в войну ещё – на нужды оборонки, на гробы, остатки – жалкая. Там и там торчат по горизонту высокие, облитые зарёй, словно глазурью, лесины, – как-то топор с пилой не добрались до них за это время, – несменно родину мою осматривают, пока не высохнут, не упадут ли; а я – за них душой цепляюсь малодушно – оторви меня небольно, Господи, до времени, после – смогу когда – приблизь.
– До Гачинска? – спрашивает мужик. Голос у него сиплый – простуженный, наверное; кричал ли перед этим на кого-то долго; острым перцем сжёг ли горло? Бывает. Водку с уксусом когда ли перепутал? Мать ли у него, как и моя, глухая?
– До Исленьска, – отвечаю.
– А-а… А я до Гачинска. Мне ближе.
– Ближе.
– Чуть не вполовину.
Сидим. Молчим. После:
– Да как раз что вполовину… Сам-то отсюда, с Милюково? Вроде, по взгляду-то, не местный.
– Нет. С Ялани.
– Там живёшь?.. Или оттуда родом?
– Родом.
– Знаю. Бывал в Ялани… в Маковск ездил… Собаку, лайку, покупал… у старовера.
В купе темнеет.
Небо гаснет – в последний раз будто. Изумрудное. Только по горизонту – полоса оранжевая – вянет.
– Красивая деревня, – говорит мужик.
– Какая? – спрашиваю я.
– Ялань.
– Была когда-то.
– Само место… Разорили… Чё, может, выпьем? – говорит мужик.
В окно он уже не смотрит – смотрит на меня.
– Да нет, наверное, – говорю. – Спать буду.
– Ещё ж не ночь… Я сына своего родного только что убил, – говорит мужик.
«Ну, ё-моё», – думаю.
Полез мужик под столик, порылся в сумке, вытаскивает оттуда литровую бутылку водки, ставит её на столик. «Сибирская».
«Ну, ё-моё», – думаю.
– Может, и не убил, – говорит мужик. – Убил-то – вряд ли…
Полез опять под столик, достал из сумки два пластмассовых стаканчика – будто на собеседника рассчитывал, меня предвидел, банку солёных огурцов, домашних, пакет с жёлтыми и чёрными свежими помидорами, кусок сала с прожилкой, буханку ржаного хлеба, разместил всё это на столике и говорит:
– Другого нету… Всё свое тут, кроме хлеба… Соли не взял, забыл… для помидоров-то… но остальное всё солёное.
Вынул из кармана брюк складник, раскрыл его, о рукав пиджака лезвие с двух сторон, наскоро его поправил будто, вытер. Настроенный. Не нож, конечно, а – мужик.
– Чистый, – говорит, – ничё такого им не резал вроде… поганого-то… давно валяется в кармане, – и говорит: – Но по башке его нормально тюкнул… сына. Чё в руке – не знаю как и – оказалось, тем и… это… приголубил… Выдергой, – в глаза мне прямо смотрит, неотступно – как в объектив прицела или фотоаппарата – будто снимается для документа, ими, глазами, не мельтешит – чтобы не смазались на снимке. Светлые – голубые, может, или – серые. – Ну чё, дак это?..
– Ну давай, – говорю. – Только немного, – и я такой какой-то – подчиняюсь.
– А чё тут, литра, разве много?
«Ну», – думаю.
– Да ладно, – говорит мужик. Порушил хлеб – крупно, по-деревенски, ломтями; на одном из ломтей порезал тонко сало – то не успело ещё разморозиться, размякнуть. – А огурцы из банки прямо… рукой, наверно, вилок-то раз нету. – Свинтил с хрустом с бутылки крышку, разлил по стаканам, бутылку поставил. И говорит: – Ну чё, дак это… Раз тут вместе. За всё хорошее, как говорят. Ну не за встречу же – не расставались… хотя и встретились – за встречу.
Чокнулись. Выпили. Закусываем. С водкой лихо он, попутчик мой, управился: одним глотком, выдохнув прежде резко из себя весь воздух, запрокинув голову, выпятив вперёд бороду и локоток отставив по-гусарски, мизинец отпружинив, – как будто ртуть, свинец расплавленный ли в себя влил, а жуёт, вижу, вяло, неохотно. И я тоже – не оголодал.
Молчим.
Огурцы острые – попробовал я, – свежепросольные.
– Вкусные, – говорю. – Ядрёные.
– Нормальные… Последние сорвал вот, перед заморозками… С пупырышками. Эти уж специально – на закуску… исключительно. Зиму, посмотрим, как продержатся, задрябнут, может… Соли-то путней не найти… теперь ведь химия сплошная, – говорит мужик. И говорит: – Достал.
– Что? – спрашиваю. – Соль?
– Достал… Как клоп.
– Достал?
– Да сын… Володька.
– У-у.
– Ну, по второму, – говорит мужик. – Чтобы про первый не забыть.
– Да нет, наверное, не буду, – говорю.
Выпили по второму. Закусываем. После:
– Тащит всё… Тащил ли уж… Оттаскался… Не знаю. Вряд ли – не со всей же силы, не с размаху… Тюкнул легонечко, конечно, ну дак… Стемнело быстро… за окном-то, – на окно метнул глазами. Занавеску пальцами пощупал. И опять на меня смотрит – как из прицела потерять меня боится будто. И говорит: – Ну, всё подряд. Кому понравится… Как росомаха – та хоть к себе, а он – из дома… Серёжки золотые, ладненькие, с меленьким камушком, жучки такие, наподобие, у матери… не у моёй, конечно, у своёй… моёй-то бабы… были – продал кому-то, так и не нашли. Найди там. Скупщик какой – тот разве скажет. У них там свой – какой-то проходимец – и не прижмут и не посадят – как будто так оно и надо… а-а, заодно они, наверное… менты-то с ими… И менты – жулики, многих-то смолоду я знаю, и эти – одна холера… От кого-то ей, серёжки-то, достались, может – от бабушки еёной… Всё и не вспомнишь и не перечислишь – много чего перетаскал… Бельё постельное. Посуду. Книги… Морис Дрюён. Ещё какие-то, забыл уж… Джэк этот… Лондон… Всё про Север-то… Когда талоны были, покупали, – взял со стола складник, сомкнул и положил его на место. – Так не успел, не все и прочитал… В тайгу с собой брал, на охоту… Чё загнать где только можно, он-то в курсе, то и тащит… Про деньги уж не поминаю – не держим дома, спрятать негде – все закуточки-щели уже вынюхал… когда какие заведутся. С деньгами-то теперь не шибко просто, раньше пошёл и заработал… Чтобы на эту-то… ему… на дозу. А я за лето тракторишко себе сделал… Пусть худо-бедно, как-то пробиваться… Ты не геолог?
– Я?.. Геолог.
– Ну, сразу видно – с бородой-то.
– И ты?.. Ты тоже с бородой.
– Да я-то так… ленивый… бриться хлопотно. И где-когда там, в зимовье-то, для кого… Привык уже, и вроде не мешает, – взял со стола и снова разомкнул складник, нарезал им помидоры на четвертинки, положил его на место. – Чудные – чёрные, и кто такие вывел… Зато теплее с ней зимой – и шарф не надо… с бородой-то… Ешь… Соли нет, так с огурцом вон… или с салом… можно. Намучился, конечно… с тракторишком… собрал из разного – железа-то везде, старья… сначала побросали, теперь опомнились… успел. Весной огородишко вспахать, и где чё подвезти – без техники-то худо. Дизель… Это – давай за тех, кого уже нет с нами… третий.
Выпили мы, не чокаясь. И говорит мужик:
– Господи, помяни… Всех тех, которых Ты прибрал… на море и на суше… Третий – положено… Ещё со службы… Почти готов… где болт, где гайку – мелочи остались… А пускачишко кое-как надыбал… сейчас же это… выменял у одного – работал с ним на механическом – на самодельную тушонку. Своя. Сам – из лосятины, весной ещё – закатывал. Ну, положил его, пускач-то, в гараже на полку. Радуюсь: для кого дефицит – а у меня имеется он, приобрёл. Сегодня, дескать, уж устал, а завтра, сам себе думаю, пристрою. Резьбу нарезать… Вечером – выходил в ларёк за пивом, а после – глянул: нет!.. хватился чё-то… Ты не куришь?
– Нет.
– А я курю… Никак не отучиться.
– Кури.
– …но потерплю… В лесу, в избушке, курево закончится, дак долго дюжу – траву жухлую, солому из матраса или крапиву прошлогоднюю – возле ручьёв, в логах, её полно, всю зиму высится над снегом, где его меньше, – не заворачиваю… Не займу пока уж у кого-нибудь, когда и так – до возвращения. Нормально. Не помираю… без табаку. Я – паперёсы. «Беломор». Когда уж нет, и – сигареты. От этих – кашиль… забиват, нутро всё наизнанку вывернет. Пришёл домой. Ничё, спокойный. Истопил баню. Помылся. Не парился. Сижу. В чистой рубахе – в этой, на мне-то вот… под бородой, поди, не видно… Причесался. Смирный. Включил – по телевизору чё-то… болтают… эти… пупы у девок… голые. Сплошная пакость. Баба на работе – нянечкой в детсаде… И он заходит – сын-то, Вовка – глаза… как этот… наркоман-то. Раньше не понимал, теперь сразу вижу: обдолбанный – обдолбанный и есть – как придурок. Так чё-то взмыло – и от себя не ожидал… не за пускач, не за серёжки… как накатило, взял и тюкнул… Придёт нормальный, думал, и поговорю… Может, и так вот, сядем, дескать, бутылочку разопьём, потолкуем… Выдерга, под рукой, в углу стояла – провод стальной вчера как раз на ней расплющивал… Упал на пол, лежит… так это… скорчился… Я походил… чё из продуктишков – из холодильника… вот эти-то… в гараж к себе – там деньги… в стареньком глушителе… взял их, за водкой в магазин сходил, и на вокзал вот… Надоело. Да не убил его, конечно. Отлежится… Крови-то не было, смотрел, и не пробил… да и потрогал… тут-то… знаю… бьётся… сердце послушал – то колотится. Оглоушил. Очухается.
«Вот», – думаю.
Лампочку включил мужик – загорела, но как не сразу.
– Когда один, ничё ещё, – говорит, – а когда с кем-то – не люблю потёмки… чё-то… да и глядеть-то утомительно.
Сидим. Глаза у него, у мужика, точно – серые. Нос – на семерых рос, а одному достался – внушительный. Лицо узкое – со стороны ушей как будто сдавленное, голову сунул куда, и чем-то стиснуло как будто, мало ли. А выражение такое – беззаботное.
– С дочкой нормально всё, а этот почему-то… Она такая, – говорит, – шибко уж нравится… И учится – почти одни пятёрки. И всё время: папа, папа, – ластится… Ну, думаю… Они – девчонки… В их родову, похожа на неё, с нашей-то стороны всё больше буки… В седьмом уж классе. Этот – выродок. Родной был дядя у меня – тот только спился… тогда же этого не знали – вены себе никто не портил, не дырявил… Совсем дошли уж… докатились. Здоровье было, дал Бог – дак а зачем оно? – лишусь. Сам, без принуждения. Ну, надо это… Лучше уж выпей, чем эту гадость-то втыкать.
Сижу я. Слева от меня – окно с раздвинутыми занавесками – не закрываем. За ним – темно, на тёмном – отражение. И – мушка… А справа – дверь – и тоже – мушка… Зеркало на двери, и в зеркале двоится…
«Вот», – думаю.
Поезд бежит, стучит колёсами – размеренно – не убаюкал бы до времени.
Эх, думаю, человек передо мной открывается, говорит правду, только правду, не сомневаюсь в этом, чувствую. Такое не придумаешь. Да и придумывать зачем? А почему же я, как сивый мерин, вру всегда налево и направо – но не всегда, конечно, – когда в поезде, своим попутчикам, с кем разговаривать приходится, и за примером далеко ходить не надо – вот я… Совестно?.. Совестно… Вдова, однако, докучает… Как ещё бессовестно. И всё же вру: геолог, дескать. И успокаиваю сам себя: ну а к чему ему моя, мол, правда? И кто-то так, извне как будто, посторонний, добавил к этому, не очень, может, кстати: Вся правда наша, яко порт жены блудницы, – но тем не менее я успокоился. Теперь и выпить ещё можно. А где ж твоё духовное достоинство – когда да – да, нет – нет, а всё, что сверху, от лукавого?.. Помилуй, Боже.
– Ещё?
– Давай.
– То затянули… очередь пропустим. А я его, – говорит мужик. В окно при этом не косится. И на зеркало не оглядывается. На меня смотрит – пристально – как будто начал узнавать во мне когда-то навредившего ему изрядно человека. Хоть и маленько я, но оторопь меня коснулась. Глаза – как шильями, меня прокалывать ими начал – хоть отбивайся. «Ну, – думаю, – и угораздило: пустых купе столько, так нет – в одно с ним… И продают же так билеты, нет чтоб – возможность есть – для каждого отдельное, всех надо скучить». Взъерошил он, мужик, пятернёй волосы себе на голове, бороду не трогает, лицо его от этого ещё длиннее будто сделалось, вижу его через бутылку с водкой будто. – А я его, Володьку-то, ребёнком был ещё он, напугал. Не нарочно, по глупости, – продолжает говорить мужик и компостировать меня глазами. – Тот, ночью поднялся, в туалет направился посикать, назад, в спальню свою, идёт, полусонный… луна, Наташки не было ещё – не родилась… а я возьми да и скажи… а баба спит – не очурала… с кровати ему громко: дескать, Володька! – чтобы за коврик не запнулся… Так с тех пор и заикается. Заика… В армию не пошёл… там чё-то с печенью ещё вдобавок… Связался со шпаной, занаркоманил. И вот никак с ним, никаким макаром… и так, и этак я, а толку… не уладить. И на охоту брал с собой. Сходит – нормально, а потом… Ох, неприятно… А? Может, мы это… слышишь… по чуть-чуть?
Молчу я – как задумался, отвлёкся – и немудрено. К окну отвернулся. Как будто в темноту – на мужика, на отражённого, смотрю и думаю:
«Выбей ему глаз, и он на Одина германского станет похож… Один в один. Ещё и ворон залетит сюда, на голове его усядется, сообщит ему что-нибудь недоброе – рассердит. Ну, – думаю, – и подвезло… Пусть бы уж та… как контрабас-то… Другая там была поинтересней… Штанишки нравятся… Ну, Дима. У всех мордашки разглядел, хоть и, как я, же был – маленько».
Плетётся наш поезд, шатаясь, как пьяненький, вразвалочку – будто бы никуда ему прибыть ко времени не надо, и никого спешащего он будто не везёт – не поторопится – как на прогулке. Не очень-то о нём теперь и вспоминаю, правда. Стоял, стоял среди сплошного мрака, только что, как телёнок, погудев протяжно, кому и сам, поди, не знает, тронул – о нём и вспомнил-то поэтому.
Звёзд не видно, ни единой – где-то какая-то уж непременно бы да обозначилась – над тёмным ельником, над пихтачом, среди берёз ли, сейчас уже неразличимых: звёзды ж – как спицы – лёгкий-то морок, улучив момент, и просквозили бы – как пряжу. С северо-запада небо, значит, плотно затянуло тучами – нас нагоняют – непроглядно. Проспорил Диме бы – как пить дать. Не видно и луны. В Ялани редко где сейчас, кое-как, изо всех сил, и до рассвета будут так стараться, оттесняя и уплотняя окружающую теменоту, под эмалевыми тенниками, сквозь клубы налетевших на их сияние и теплоту незнающих ночного сна мошки, мокреца и мотыльков, блистают со столбов электрические лампочки… И в окнах тоже… И в том, в хоромине, на взлобке… Я бы и спорить с ним не стал – испортится, конечно.
– А тут с женой ещё… Не знаю, – говорит мужик. И говорит: – Ты… вроде дремлешь?
– Чё-то… сомлел… чуть приморило.
– Выспаться хочешь? Завтра на работу? – спрашивает мужик. – А то я… чё-то.
– Нет, – отвечаю. – Мне не на работу.
– Тогда не спи, ещё успешь… Я зиму-то, хожу, охотюсь. Вишь – борода-то – не геолог… Участок у меня, – говорит мужик. – На кряже. За Исленью. Там не бывал?
– Нет, не бывал.
– Красиво… Как в октябре зашёл, к марту-к апрелю только выбираюсь… Здорово, хорошо – и лето жил бы – никого там, туда пока не добрались… Ну и… Немного, может… это?..
Немного мы. И закусили – хлебом занюхали, точнее. Я уж не просто, а совсем уже маленько.
– Вернулся как-то раньше времени, – говорит мужик. – Так получилось. Дольше обычно там задерживался – до оттепелей, пока снег не станет просядать, не заноздрится, а то на лыжах-то – и камус обдерёшь, и не пролезешь… Утром, на восходе, по путику, по насту, без лыж, конечно, пробежался, капканы все, успел, собрал, спустил ловушки, петли снял. В избушке скоренько прибрался. Не от мышей – мыши там есть, в округе-то полно – их сеноставка не пускает – сама в избушке поселилась, а так, зайдёт кто, мало ли, переночует – кому понравится, как беспорядок… К себе – пока ещё добрался, ладно, ребята, лётчики, от Елисейска довезли, двое живут тут, в Милюково, – домой-то захожу, а там – сосед… Ничё, конечно-может, не было… Не знаю. Ночью. Мужик-то он, Виталька, неплохой, но всё равно – на сердце как осадок… И как-то так – а чё так испугалась?.. Если нормально-то – так и нормально… И он, Виталька, как смутился… А вертолёт – когда другой уж?.. через месяц. И прилетел – но не нарочно, так получилось, побыл бы дольше – и продукты оставались – недели две ещё прожил бы… Бутылка, вижу, на столе, почти пустая, и два стакана… Белое… Чё-то – какая-то – закуска… Нет, говорит, потом. И плачет. А он, Виталька, нравился ей – знаю. Да мне-то… За столько месяцев – отвык… Люди, бывает, что соскучатся… Да я и спрашивать не стал бы… Зашёл сосед, ну и зашёл, ну, посидел, ну, выпили… но – ночью… Я к чужой бабе среди ночи не попёрся бы… если какая-то понадобится помощь ей, тогда – конечно… ну дак и это… вобшэм, сплошная несуразица.
Поезд стучит колёсами на стыках – о важном или о пустом – о том, об этом ли – однообразно. Прислушиваюсь – позвоночником – не понимаю; не о живом речь, о железном – догадываюсь. И мужика слушаю – ушами. Чем-то ещё. Не знаю. Может – водкой – через неё будто доходит – глухо. При голове мой непоседливый затылок, нет ли, не чувствую, и не могу рукой проверить – где голова, а где рука – не совместить, не дотянуться – так кажется, и не пытаюсь. Глаза слипаются, но раздираю их. И слышу:
– А у меня внутри перевернулось будто чё, – говорит мужик. – Хоть застрели, на место не поставишь… Всяко уж заставлял себя – никак. Живём. В одной квартире. Всё для других, со стороны-то, вроде и нормально. Да и у нас… бузы особой вроде не быват, как и раньше, но чё-то это… Не знаю. Как-то – смутно. Многое можно, это никак в себе не вынудишь… И одноклассницу свою бывшую – зуб пошёл в больницу дёргать, чтобы зимой с ним, на охоте, не замучиться… провод сталистый загибал в зубах, понадобилось, и сломал… пошёл в больницу-то – и встретил. Десять лет жила в Исленьске, работала, потом сюда перебралась, на родину, тут теперь – в Милюково. Не замужем. Был какой-то – разбежались, по бабам вроде стал ходить – поэтому. Постояли, поговорили. В гости пригласила. Пошли. Посидели. Повспоминали. После ещё раз к ней зашёл – так уж, сам, без приглашения. Ну и всё лето… А потом: день не схожу к ней – и болею, из рук всё валится, не радует ничё… И понимаю, сильно уж прямо как-то к ней, такая тяга… Даже боялся. Никогда такого не было. Ну вот – родное. Как магнитом прямо. Спать ложусь – она на уме, встаю – о ней думаю… Скажи кому-нибудь, ответят: напасть, или – присушили… И делать у неё готов всё по хозяйству… А совесть… Не могу вот… как на двоих-то… шибко плохо. У мужика должна одна быть – жена. Когда баба гуляет, это ещё туда-сюда как-то – слабая, она и – баба… Ну а мужик когда – это… плохо. Такие – кобели-то – мне не нравятся. Их дело. Но если такой в этом, дак и в другом он ненадёжный… так чё-то думаю. Я за серьёзно их не принимаю почему-то. Оно – не жалко, а противно… И я вот… Когда там хорошо, и тут, с женой, вроде нормально… Когда там только чуть чё, нелады маленько – всё, и на жену, приду домой, покрикиваю, ну а кричать-то – хорошо ли… Не знаю. И с ней, с женой – как про Витальку чуть подумаю, сразу и чувствую, и не люблю вроде её, жену-то, а ревную… И не ревную вроде – горько как-то… Когда так – любви нет, а ревность… нехорошо оно, и всё тут. Может, я это… деревенский, в Милюково-то не с детства… тут – с интерната… А одноклассница – начальницей теперь на почте… С образованием. Я так – туда-сюда… никуда, вобшэм… и – в армию, и после шоферил, пока не сбил… пьяного… Ну а она, училась в школе хорошо, в том же году, в Исленьск поехала, и поступила… На машине, на служебной, ехали, на «каблуке»… На встречную полосу крутой на джипе вырулил… их теперь сколько вон… как тараканов… Шофёр её… на «каблуке»… в сторону резко дал, и зацепил справа столб – бетонную опору. Ему ничё, шофёру-то, ушибами отделался… морду разбил себе да палец на руке сломал. А она… вот… неподвижна… ноги отказали. Всё как-то и разобралось… конечно, худо… А не брошу. Пока вот к матери поехал… под Гачинском, в деревне. Поживу у ней сколько-то, одумаюсь… Неделю, может, полторы – не дольше. Подружка с ней пока поводится… её, подружкина, подружка… дак чё – лежит – уход ей нужен… Не брошу… как-то не могу. А хоть и сяду… за Володьку, выйду – и к ней. Как без неё теперь – не знаю. Да нет, ну чё тут рассуждать… Ясно: не мы жизнью руководим, она нами.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































