Текст книги "Время ноль (сборник)"
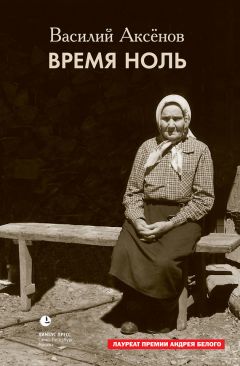
Автор книги: Василий Аксенов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Судьбы Божий – бездна многа, – через меня опять – по ходу поезда – как просквозило. И не успело это отзвучать, как следом: Клеть душевная – неизмеримой глубины.
«Ну», – думаю.
Выпили мы. Посидели молча. После:
– А жена-то… С армии пришёл. Чё-то – туда-сюда – и забеременела, я и женился. Как бы по долгу… Армия – долг, женитьба – тоже… Такого не было – чтоб сильно… Молодой был, глупый. Не стал сейчас бы, без любви-то… Смешно, наверное, смеёшься?.. Я деревенский, ты не смейся… Ну дак и ты-то – из Ялани… Ну… и что дом-то мой, не чувствую. И делать в нём ничё не хочется. Так, через силу – как обязан, и без души. Эта… пусть и бездвижная теперь, но… прикипело… оно ведь так-то не проходит, и ведь она не виновата – так получилось… ну, что лежит-то… ну, или Бог там… я не знаю, – говорит мужик. И говорит: – Брат у меня… с женой своёй… живут лад в лад. Смотрю на них – вот это правильно… но редко… Одна жена должна быть, одна женщина… у человека… Не знаю. Кажется. А мусульмане… дак они… у них и Бог иной – Аллах… А всё другое – баловство. Тётка у меня… по матери, с той стороны. До войны ещё с одним ходила, тогда – дружили. Он и она с одной деревни… у нас там, куда еду… рядом… Дозорной называлась. Тот – на фронт, она – туда же, ну и как-то потерялись – не в магазине – не саукаешься… Война, и в мирное-то время… И она замуж не выходила после, и он, потом как оказалось, не женился. Не почему-то там, а – ждали, забыть друг дружку не могли… Хоть и… ну, я не знаю… как-то получилось. Не своевольничали – время-то такое… Тут уж случайно как-то встретились. В Братске – и как их там свело?.. Она к сестре своёй поехала, а он туда – в командировку. Идут по улице – и увидались… Чё-то из них кому-то с сердцем плохо даже стало… Ну и ничё, живут теперь вот… вместе. Случайно, Бог ли, я не знаю. Дозорной нет – давно уже распалась – был как-то там – одна крапива… Живы оба ещё, слава Богу. Где-то там, под Ленинградом. Тётка и жить к нему уехала. А ты чё… ищете-то золото?.. Геолог.
– Что попадётся, – говорю – ложь свою двою, утверждаю – как против шерсти, совесть свою, вдову докучливую, глажу – терпит. И вру-то всё на один лад: да, мол, геолог. И зарекаюсь: последний раз, дескать, больше не стану, как воды в рот наберу. А как в поезд только сел, так и… поехало, под стук колёс – как под аккомпанемент – и хоть бы сбился.
– Интересно, – говорит мужик. – Надо сходить тебе на мой участок. Обязательно. На вертолёте только – далеко… Дороги нет туда пока, и слава Богу. Лес возить оттуда станут – сделают… Там по ручьям и речкам золотишко есть, это уж точно… Может, ещё чё, подороже… Переброжу когда, гляжу, как чё-то вроде и поблескиват. Мне-то оно – да и лежи там… А я до этого лесничил. Ну а теперь такое тут творится – пустыня будет… Ушёл из лесников, – говорит мужик, рукой махнул – воздух около себя пополам разрезал – не стенки бы, так развалился бы он, спёртый в купе воздух. – Сердце когда-нибудь не выдержит – инфаркт ещё, пойдёшь по лесу-то, где хватит. Теперь я так – самостоятельный… раньше-то как – единоличник.
Сказал мужик и будто растворился.
А после этого провал. Будто и меня, грешным делом, ни с того и ни с сего, по голове выдергой приголубили – как-то уж разом.
Так, полусидя, и проснулся.
Свет в купе неоновый – с улицы. Как в мертвяцкой. Пахнет… одеколоном – вспомнил, но не сразу, и каким – не различаю, может – «Тройным», может – «Гвоздикой». На столике порядок. Всё убрано, сам столик вытерт. Мужик готов уже, вижу, выходить; на плече спортивная сумка. Возле двери топчется – спиной к ней, к зеркалу, лицом – к оконцу, нос у него теперь – от света – синий. На меня глянул и говорит:
– Проснулся… Гачинск… Выхожу. Поезд стоит тут минут сорок… если ничё не поменяли. Мне на автобус… через час. Ну ладно… это…
Дверь открыл, из купе вышел, повернулся и говорит:
– Если тут чё, так извини…
– Да ничего, – говорю, еле произнёс: язык – будто свой потерял, чужим временно пользуюсь.
– А как тебя зовут? – спрашивает.
– Олег, – отвечаю. Не соврал.
– Меня – Василий. Ну, счастливо.
– Угу.
Захлопнул дверь. Ушёл мужик.
Открыл дверь снова. Смотрит на меня. Смотрит. И говорит:
– Я… это… помню… разговор-то… Баба ведь как… Бог может войти в каждую… но это… не каждая удержит… Поэтому. Да ладно. Ну, я сказал уже: счастливо.
Ушёл мужик. Окончательно.
Я остался – ехать ещё часа четыре – помню.
Чувствую голову свою – по ней как будто кони с этикетки от «Сибирской» скачут – затылок полый – нет бы вон – как по манежу, разгулялись.
Повалился на постель, как был – не раздеваясь; разулся только.
Скоро, не скоро ли, под непрерывный стук… копыт, забылся.
* * *
Среди кромешной немоты или тотального отсутствия, гудящего так, словно в его центре поставлен многомощный силовой и плохо закреплённый трансформатор, или оно, отсутствие, расположилось рядом с высоковольтной линией электропередач, сплошь, как сетью, ими, линиями, ли опутано, среди небытия – сказать и так, пожалуй, можно – слышу вдруг, как будто только что родился, не понимая и не разбирая слов, помимо белов или децибелов, озлобленно и без передышки раздалбывающих изнутри мой хрупкий череп, голос человеческий, женский и, как мне кажется, знакомый – чувствую, что знакомый, но не думаю об этом, – издалека будто, как из еле-еле различимой точки, как от вечности ко времени ли – словно искал он, голос этот, меня по привычке прежде там, на моей узкой, деревянной кровати, на уютном и обжитом чердаке моём, в Ялани, долго взывал ко мне оттуда, тщетно кликал, после уж тут меня, случайно или по подсказке чьей-то, нашёл, ко мне приблизился и обратился – услышал я его, и до меня дошёл смысл этим голосом произносимого:
– И скока вас ишшо будить?! Долго?.. Вот наказание мне прямое… Хожу, как эта… Я вам не нянька, не обязана… Э-э… Вы живой?.. Вон по Исленьску уже едем. Подымайтеся давайте. Последний раз, пришла, предупреждаю. Чириз минуту остановимся. Почти приехали… А то водой вас окачу – добьётесь… И каких тут тока не увидишь: в дорогу ехать – и упиться… Милицанера позову – быстро разбудит. Тогда в кутузке отоспитесь… Э-э… вы… И вправду ли не помер?
Где я, кто я, не понимаю. Я – как тело – и сознание моё – с ним мы пока ещё отдельно – крепко, похоже, раздружили. Есть я, присутствую, но где, мне не известно; по каким палестинам оно, сознание моё, шляется – не знаю. Затылка нет. Темя тут, трещит от боли, а его, затылок свой, не ощущаю – не вернулся ли он в Милюково, не уехал ли он с Димой, чтобы там, в Ялани, при проезде, выпрыгнуть незаметно из гремящего уазика? – станет с него – так озорует… Без затылка неуютно – как зимой, с открытой настежь в доме дверью. В зияющий и никем не охраняемый образовавшийся прогал не только сознание, и жизнь из меня может запросто выскочить, тогда и вовсе не проснёшься – скоропостижно не хочется. Душа с великим нежеланием, будто по принуждению, из глубины хмельного сна, через него ли продираясь, с какой-то дальней будто, приглянувшейся ей стороны, в тело, как в терем опостылый, возвращается. Душе, ему ли, телу, хуже? – пока на это не ответить мне.
В моём бреду одна меня томит каких-то острых линий бесконечность, и непрерывно колокол звенит, как бой часов отзванивал бы вечность. Мне кажется, что после смерти так…
«Должно быть, в поезде – вчера ещё в него садился… Если сегодня это, а уже не завтра, а со вчерашнего – не послезавтра?.. Да и стучит: так-так, тык-тык, во мне, простёртом, отзываясь», – первая мысль, с которой я очнулся, – из ничего как будто просочилась и заструилась родничком.
И точно: в поезде – опомнился – будто из бездны Аввадон или из океанской пучины, правило декомпрессии нарушив, вынырнул – необходим теперь мне шлюз лечебный, то речь расстроится, рассудок помрачится, и паралич, к тому же, ещё хватит… Не поздно ли?.. Болезнь в разгаре.
Раздираю с трудом веки – кое-как, заторопившись, с ними справился, так испугался – за время сна, провала полного, они как клеем кем-то были будто склеены, словно не разомкнулись сами по себе, а принуждённо лопнули, как на разваренной, рассыпчатой, картошине мундир, – и вижу: день – если солнечно – глаза пронзает; в дверном проёме – женщина в одежде форменной, но не военная, не прокурор, а – проводница. Сразу не узнаю её, и говорю ей:
– Вы… или нет?.. У вас вчера глаза другого цвета были… Что вы ворчите?
– Не добудиться-то – не поворчи тут… Вчера не я была – другая, – сказала так и засмеялась: она, значит, та самая. Она, конечно: волосы рыжие и выговор чалдонский. – Я туалет закрыла – не умоетесь и… это… Теперь уж тока на вокзале… Как таких жёны ишшо терпят?
– Я не женат.
– Ага, все вы так говорите… В поезде мало кто из вас женатый.
– Вчера ещё вроде как не был.
– Вот – уж и вроде. Подымайтеся давайте. А то я это… Кольцо – поехал от жены – снял с пальца и в карман, наверное, запрятал. Все вы такие.
– А пива нет у вас… не продаёте?
– Нет, пива нет у нас… не продаём. Проснулся тока – и про пиво…
– А что?
– Хотя бы причесались…
– Какая вы…
– Какая?
– Повелительная.
– Ну уж.
Ей хорошо, думаю, «Сибирскую» вчера не принимала, из бездны сегодня резко не выныривала, и шлюз лечебный ей не нужен.
Удалилась проводница – как покинула: будто, успел, привык к ней, привязался. А потому так, думаю, что уезжаю: сердце моё к ней как к землячке тянется – я покидаю родину свою, малую и тихую, надолго, а она там снова будет уже завтра. От Милюково до Ялани кочергой бабка дотянется – одного уезда, в прошлом, сёла; давно Ялань уже деревня, доумирает, а Милюково нынче – город, нелепый, правда, – как выкидыш. Добродушная женщина – про проводницу опять вспомнил. По жизни не озлобилась. Хоть и похоже, что – была когда-то, может, но теперь – не замужем. То попадаются такие: своим мужиком по каким-то причинам не обзавелась, и все при этом перед нею виноваты – на каждом встречном отрывается по полной программе… Хоть и ушла, стоит перед глазами – волосы рыжие, в косу заплетённые, коса толстая, как канат, висит из-под берета – как медная. Ключ в руке – от всех замков в вагоне. Дверь не закрыла. Солнце в купе втекает беспрепятственно – как тигль золото, его наполнило – и мне бы не расплавиться. Морок нас, значит, не догнал – почти полтысячи-то километров – не везде ему быть сразу, только – где-то. Это я так, без сожаления.
Лежу. Ощущаю: штормом нахлынувшее сокрушение, себя – будто урановый или свинцовый: не шевельнуться, не подняться, ладно, хоть так, распад бы только не начался – и то, что поезд замедляет ход; остановился, чувствую.
Лежу ещё минуту, две ли – сколько-то – они, минуты, передо мной не отчитываются, – словно рухнувший на землю столб бетонный и, как в тесто, в неё, в землю, вмявшийся, – всё же поднялся – я один, взяв за грудки, поднял себя другого будто; поднять-то поднял, но как из вагона вынести?.. Вижу, одетый. Благо штаны такие, что не мнутся. Куртка тоже – так, значит, я её и не снимал. Обулся – пыль на башмаках, вижу – елисейская, хоть собери её в платочек. Про рюкзак вспомнил, достал его из ящика. Смотрю в окно: город, вокзал и – люди, люди – так тоскливо. Первый день – после Ялани – одиноко. К шуму когда теперь привыкну – к чему б хорошему – в природе звук, в ней шума не бывает, здесь монстр – рычит. В Ялани шум благословенный – только от ветра и дождя; собаки лают – это песня.
Август, ночь, Ялань, допустим, – звёзды шумят над ней? – звучат, конечно, – это не я, со мной так кто-то согласился.
«Ох, – думаю. – Как много во мне и около меня всяких разговорчивых».
Попрощался с проводницей – там она, в своей каморке, бельё постельное в мешок засовывает, что ли, – наклонилась; коса мешает – головой мотнув, откидывает косу за спину; опять та медленно с плеча сползает. Лицом только ко мне обратилась и спрашивает, улыбаясь:
– А там, в купе, ничё из своего-то не забыли? А то такие…
– Да нет вроде. Всё при мне. Всего хорошего. Спасибо, – говорю ей.
– В таком-то виде.
– Вид как вид. А что?
– А в зеркало гляделись?.. Пожалуйста. Счастливо, – отвечает. Глаза опять уже другого цвета: теперь – зелёные уж – как вчера.
«Ну», – думаю.
И никогда с ней больше не увидимся – наверное. Хотя… Располагаем-то не мы.
– Хоть причешитесь.
– Причешусь.
– А то… как эти прямо… С Богом.
– Зеркало мне, в отличие от вас, не скажет правды… Не замужем? – спрашиваю.
– Уже не важно, – отвечает.
– С Богом.
Вышел на платформу. Вдохнул неосторожно полной грудью – воздух, конечно, не таёжный – как в большом гараже, в котором завели все разом и прогревают перед выездом автомобили, – прожив три месяца в деревне, вне цивилизации, где трубы есть, но лишь печные, удоборазмерные, не исполинские, и топятся не каменным углём и не мазутом, а дровами, берёзовыми преимущественно, остро это чувствую. До отвращения. Не угореть бы без привычки.
Глаза плачут, и сердце уязвлено, а мысль яснеет и твердеет.
И тут уже осень, не такая ещё, правда, явная и откровенная, светом себя едва лишь обозначила, сквозистым, утишённым, блёстками паутин пронизанным, – как будто намекнула только о своём приходе – всё же значительно южнее – так в Ялани лето выглядит в начале августа, сразу после Ильина дня, и, как обычно, перемена происходит резко – лето астрономически, а по погоде уже осень, – в одни сутки, когда какушка заглыхат – никуда не улетает, до сентября болтается на прежнем месте, заодно со своими возмужавшими подкидышами, высиженными и вскормленными чужими родителями, но умолкает – первого августа её ещё услышишь, ну а второго уже нет, – словно на самом деле голоса её Илья-Пророк лишат – так надоест же, и на самом деле: с конца весны, как там объявится, на родине своей, на общей нашей, беспечная и громкая, всем до Ильи в округе уши прокакует.
И тут так же, как ещё вчера в Ялани, небо голубеет, только вот не такое здесь оно глубокое и чистое – тонко его застило пеленой белёсой, будто зрачок при катаракте, – а потому и город в небо так от этого глядит – подслеповато; скоро и пелену за небо станет принимать – когда совсем-то обезвидит.
На другом, далёком и, несмотря на ясную погоду, из-за тяжёлых испарений и плотной загазованности тускло просматривающемся берегу тут ещё не такой широкой, как у нас, Ислени – здесь уж не сопки, как у нас, а – горы настоящие, щедро одетые в густое разнолесье – сохранившееся потому, что заповедное, и ни людьми, ни шелкопрядом, к счастью, не погрызенное, – и торчащие кое-где причудливыми и известными всем нашим альпинистам скалами, в жёлто-багряной проседи, пока ещё легонько только ею тронутые, – над самым городом нагромоздились, над его правобережной, более индустриальной половиной, мало того, ещё и дым над ней сгустился, над несчастной – так она выглядит, в чаду-то вся, как в преисподне, тут вот, на левом берегу, его поменьше – всё же продувает – с места не сдвинется, висит лепёшкой маслянистой, в золе и саже ещё вывалянной, будто бы брошенной ему, как угощение собаке, но до него, до города, не долетевшей, – где-то, похоже, зацепилась – антенн-то мало ли да вышек всевозможных – ну вот и ешь её теперь вприглядку. И как живут под ней, под лепёшкой этой, люди?.. Представить трудно. Солнце-то видят, словно через закопчённое стекло, – всегда затмение, помилуй, Господи. Почти как в шахте, под землёй. Но человек, подлец, и не к такому привыкает – не помню, кто так и сказал. Возможно…
Достоевский, – будто подсказал мне кто-то из плотно окруживших меня словоохотливых невидимок. И сам я вспомнил: Достоевский. Где, когда и от своего имени или от имени героя своего – не помню.
Трубы, домны, трубы, домны, глянь налево, глянь направо и куда ни обернись – будто мальчишки, издали кажется, нагородили – промышленность однако – и днём и ночью курят не стихая – какие фильтры тут нужны, какие лёгкие – чтобы рак лёгких городу не заработать или ещё чуму какую; про горожан уж и молчу – за них молиться и молиться; можно и мне, но лучше праведнику. Это сейчас – после Ялани, посвежевший и проветренный, как вынесенный во двор из затхлой коммунально-проходной квартиры зассанный матрац, да от «Сибирской» крепко – чуть, маленько, не до хруста – подмороженный и пока не оттаявший, как говорят французы, с деревянной ещё мордой, – это сейчас так рассуждаю. А пожил бы здесь, немного отогрелся, а заодно принюхался и пригляделся, может, иначе стал бы думать: живу я здесь – как в анекдоте?.. Возможно. Но первый взгляд – он верный самый: не пристальный, только что кинутый, сам ещё по себе когда, а под хозяина, врасплох застигнутый, угодливо ещё не подловчился.
Стою. Переминаюсь хлипко с ноги на ногу – ходить будто разучился. Бывает. Так и с любым другим умением случается, и даже – ползать. И торопиться-то мне некуда – никуда не опаздываю; вышел из вагона, шага два в сторону сделал, чтобы проход собой не загораживать, остановился тут же и стою, жмурюсь от света яркого, покуда не обвык, – солнце такое, что и веки пробивает – лепёшка тут его не заслоняет. Асфальт подо мной – от бликов солнечных и пятен тени словно в рытвинах – не оступиться бы, пойду-то – опасаюсь. Всё окружающее – зыбкое, чужое – как враждебное, и я – будто бы вышвырнут сюда откуда-то, где, по сравнению с теперешним, гораздо лучше себя чувствовал, – как заспанный котёнок в форточку из тёплой комнаты на улицу морозной ночью, – стою, хвостом воображаемым дрожу – неуютно, и некому меня погладить. Ощущение отвратительное, но к себе самому отношусь пока сносно, даже с какой-то нежной жалостью, ещё маленько-то и очень, после уж стану люто себя ненавидеть, когда последние дробинки от сибирского озноба выпадут из тела, но то нескоро будет – так мне кажется. Осматриваюсь еле-еле – свет белый мне, болезному, в копеечку – поэтому, пока и вовсе не смотрел бы, так только разве, через кружку разливного пива, пусть бы и керамическую, непрозрачную, и то прищурившись, – стою, гляжу – не вижу встречающего. Был бы где тут, выделился бы в толпе – приметный: вышел и ростом и лицом, спасибо матери с отцом – это и без подсказки чьей-то вспомнил, это – Владимира Семёновича. Дима, что ли, думаю, не дозвонился: может быть, нет его, Андрея, в городе, по делам коммерческим куда умчался – допустимо; все телефоны, схоронившись у какой-нибудь из многочисленных своих подружек, отключил ли – тоже вероятно – женолюбивый он, Андрей, не в меру. Или, как Дима говорит, до баб без удержу охочий, сам не свой до них, как кот до валерьянки, юбку увидел и затрясся.
«Вот…» – думаю.
Тут же ещё и состояние… как после менингита, после какой другой ли продолжительной болезни мозга – будто разжижился он, мозг, и булькает, как гейзер, ладно ещё, как тот, фонтаны не выбрасывает. И не в комплекте – без затылка – в прогал-то дух бы из меня, боюсь, не удалился. Благо ещё, что пар в дыру выходит, – темя сорвало бы, как крышку в закипевшем радиаторе.
Шумно – вокзал-то – как на ярманге Ирбицкой, на стадионе ли «Петровском» в момент забитого-пропущенного гола, когда «Зенит» – допустим – с ЦСКА встречаются, помилуй, Господи (решил бы я, предположим, закончить жизнь свою самоубийством, направился бы после матча по Большому проспекту Петроградской стороны в Санкт-Петербурге, в сторону Князь-Владимирского собора, или на Чкаловский, поближе к дому, и прокричал бы вплотную, пивом и водкой разящую, толпу взбудораженных выигрышем-проигрышем рогатых ребят в бело-голубых шарфиках: «"Зенит" – параша, победа будет наша, ЦСКА – чемпион!..» – и долго бы не мучился, ещё раз: Господи, помилуй, и лучше избегать таких предположений, то даже нервно передёрнуло-перекосило, что не на пользу мне сейчас); фоном вокруг ещё ж и город с миллионным населением – Исленьск – как будто в улей растревоженный засунул сдуру-спьяну голову – люди бы жалиться не стали – робость-пугливость на меня напала вдруг; вчера отважный был, отчаянный – с руками голыми, позвал бы кто меня, и, не раздумывая долго, на медведя бы пошёл, в пекло кромешное бы, не колеблясь, с проводницей ринулся – как лист осиновый, душа не трепыхала.
Думаю:
«И как, пострел, всё успевает? Расторопный. Дошлый, отец бы мой сказал. Но погорит когда-нибудь на этом. Примеров много. Книжек умных не читает, а самому порассуждать на эту тему некогда… Было ведь сказано: в бесстрастии ума взирай на лики женщин и обидчиков – кто-то же внял, ему неймётся… Найду, – думаю, – место поспокойнее, в укромном закуточке, где докучливых цыган не будет и детей поменьше будет егозливых, устроюсь поудобнее и до самого отъезда, до следующего своего поезда, уже отсюда, из Исленьска, пересижу… смогу, пожалуй… ведь на рыбалке же высиживал… ну, тоже мне, сравнил… там-то и времени не замечаешь и – безлюдно – кругом тайга, перед тобой река, а над тобою небо – только. Сутки и целый день ещё… Смогу, наверное?..» – подумал это и устал.
Стою и ни о чём теперь вроде не думаю – будто сильным, порывистым сквозняком всё начисто из головы выдуло – как растерялся.
Слышу, смеётся сзади, гавкнув прежде, чуть ли не в самое мне ухо. Прятался от меня. Там, за киоском.
– Баловник, – говорю, оборачиваясь осторожно, чтобы окружающее из глаз не выплеснуть и самому наземь плашмя не опрокинуться. Как неуклюжий. Так оно и есть. Почти немощный.
– Здорово, – говорит Андрей. – Чё, перетрусил? – спросил так и, громко, словно мы с ним тут одни, загоготав, хлопнул по плечу меня – в руке какая-то газета, туго свёрнутая в тубус, – ею.
– Да уж, – отвечаю.
– По роже вижу… Вылупил глаза вон.
– И без того, – говорю, – еле-еле душа в теле, ещё и ты тут… расшалился.
– Чумной – после деревни, – говорит Андрей. – Нянька тебе нужна, руководитель… в городе-то.
– И ты про няньку.
– Чё?..
– Да так… Про пиво б лучше.
– Чтобы понервничал чуток, а то расслабился в Ялани. Анахорет… Истомин, – говорит Андрей, – ты бы хоть раз когда по-человечески приехал – на выходные… Нет, он всегда среди недели… И причешись… Как чёрт косматый.
– Здорово. Не ругайся, – говорю. И говорить мне сейчас, как и стоять, тоже непросто – слова со мной будто в хоронки разыгрались, и не они меня, а я ищу их постоянно, маюсь – так, если выразиться по-ялански, ну а какое там, в сплошных потёмках, и нащупаю, поймаю, на свет его сразу, чтобы распознать и застучать, не извлечь – упирается, вдобавок к этому, ещё ж и высыпаются – через затылочный проём – те уж, наверное, с концами. Только одно не укрывается, не упирается, само, как нескромная выскочка, напоказ лезет, как девка публичная, себя настырно предлагает: пива! – Пора приходит, – говорю, – и еду. В календарь при этом не заглядываю. А у тебя бывают выходные?
– Ну и худо, что не заглядываешь. Очень худо, – говорит Андрей. – Не в прошлом веке живёшь, Истомин. Время сжалось – всех прессует: одних на жмых, других на масло. И ты не увернёшься, не надейся. Тысячелетие уж новое… Миллениум… А ты тут… Лермонтов и Пушкин. Это они могли себе позволить – свинтить в деревню к бабушке и, на диване лёжа, прохлаждаться… Ты хоть число сегодняшнее знаешь?
– Знаю. Они не в прошлом веке жили, – говорю, – а в позапрошлом… Как всё грохочет… Одуреть.
– А-а, всё равно что в допотопном. В прошлом, в позапрошлом, какая разница!.. Не придирайся. Время-то припустило, видишь, как – пятки сверкают…
– Нет, не вижу.
– В прошлом бы веке ты ко мне неделю добирался. Или дней десять… если не пешком. Пешком бы месяц топал от Ялани.
– Говори громче. Мне, с непривычки, уши заложило… В прошлом бы так же. В позапрошлом… Или молчи, потом поговорим. В машине… В прошлом скорее бы – на самолёте.
– Глухарь. Оглох в своей деревне… От тишины. Там, чё, собаки только лают. Надо заглядывать и в календарь.
– Коров забыл.
– Каких коров?
– И лошадей. Ну не одни же там собаки.
– А-а… Выбрался из берлоги, – говорит Андрей, – глаза протёр и – посмотрел… А то придёшь, а там закрыто…
– Где? – спрашиваю.
– Где, где… Не где, а к шапкиному разбору. Да где угодно, я к примеру… И опять к себе в берлогу – лапу сосать и с боку на бок переваливаться да на погоду из берлоги хныкать – виновата.
– Виновата: не я для неё, а она для меня.
– Ты-то, дремучий, тип свободный, болтаешься где и как тебе вздумается, как снежный человек, тебе и ладно… Захотел – сюда, захотел – туда, вольный… Месяцем раньше, месяцем позже, чё там, – говорит Андрей. – Сентяб – тяп-тяп и – май, как наш историк, помнишь, приговаривал… Федя, покойный. Вот уж был тоже… клоун настоящий – девчонок наших всё и тискал. Теперь его я понимаю… Чё-то приснился мне недавно… Все молодухи кажутся красивыми… С чего?.. О нём я даже и не думал.
– К себе не звал?
– Да вроде нет. А, может, не запомнил… Истомин, сплюнь… Как на уроке будто, в школе… А я, в отличие от вас, от беззаботных трепачей, халявщиков и лодырей, товарищ, слава Богу, занятой… К вечеру дождь пойдёт, передавали… Зонтик, не помню, где оставил… Смотрел, в машине вроде нет, всё там валялся, на сиденье… Планы страдают, одним словом… Кофе пил вчера – у Эльки, может?
– Бизнес?
– Прежде всего. Частная жизнь по вашей части тараканьей… Машина там, на площади. Пойдём. Ну, как там мать твоя, тётка Елена?
Пошли.
– Да ничего пока, нормально.
Шагаю – вроде удаётся.
– Мою не видел? – спрашивает.
– Видел, – говорю.
– На ногах?.. У Эльки, точно, больше негде.
– Давно уж, жалуется, не был… Да на ногах.
– Ну, скажешь тоже… А мне когда?!
– За огородом вашим как-то встретил… Траву косила для телёнка.
– Приеду – сдам, продать заставлю. Зачем он ей, телёнок этот?.. Мяса я так ей привезу. Отправлю с кем ли. Не проблема.
– Нужен, наверное, раз держит.
– Сама уж ходит еле-еле…
– Пусть, пока может…
– Пока может… Это же дурость.
– Что не дурость?
Идём.
Галки на тополе – разгалделись – наперебой о чём-то, или ссорятся – живые; полно их там, словно блох на собаке, – не выколотишь – как только тополь их и терпит, то и гляди суком от них зачешется. Чайка – куда-то полетела – нашла бесхозное, стащила ли где что-то – с добычей – что-то мясное или рыбное – кишкой болтается на клюве.
Троллейбус – весь в рекламе, как уголовник в наколках, – людьми наполнился – как засосал их, – дверцы сомкнул, насытившись, поехал мягко; заискрил на повороте – как сварка.
Не смотри. Это мне отец когда-то. Давно. Как эхом повторилось. Глаза будут болеть – как засоришь. И не смотрю. Отвернулся. Думаю:
«Отец».
И думаю:
«Иду вот – тут, а ещё вчера утром – в Ялани».
– Украл побольше – продал подороже, – говорю. Так, чтобы тему поменять, а эту мне – о старости – сейчас не вынести. Ещё за пивом бы – потолковали.
– О чём ты это? А-а, про бизнес… Ну, хоть и это, – говорит Андрей. – И своровать надо уметь. Тоже наука. Не согласен?
– Скорей, забывчивость, а не наука.
– Эту неделю был у Эльки только – там только, у неё… Не на загорбке ночью уволок мешок муки со склада… или шурупы, не спёр у бабки гробовые из чулка… из-за иконы ли, из-под матраса, не знаю, где ещё те прячут…
– Забыл?
– Забыл… Всё по кубышкам… В магазин с автоматом не ворвался, дневную выручку из рук у намочившей с перепугу юбку продавщицы не выхватил, или на танке с пушкой не вломился в банк, а так – красиво, благородно. Развёл – как пенку ложкой на ушице – и причмокнул. Из пункта А, не твоего кармана, в пункт В, свой, переместил, пошевелив мозгами только, а не бицепсами. Кто прозевал – тот прозевал. Без всяких выстрелов, налётов. Круглую сумму. Не копейки. Из-за копеек-то мараться… Ни у кого при этом кровь из носа чтобы не пошла – вот это дело. Уважаю. Ловкость и предприимчивость – всегда ценилось… При чём забывчивость, не понял?
– Не укради…
– Не укради?..
– Не укради… Ну, уж всегда ли? И при коммунистах?
– Ценилось-то?.. При них-то, может быть, ещё и больше, – говорит Андрей. – Но не для всех, а между ними… Это как в Торе для евреев… Только дано вот избранным, не каждому… Не укради…
– Тебе, к примеру.
– Да, к примеру.
– Тору читал?.. В Талмуде, может?
– Зачем?.. Меня никто ни в чём не укорачивал, ни в детстве, ни сейчас – зачем мне Тора?.. Плоть не отщипывал никто мне… В какой-то где-то книжке, в нашей, – говорит Андрей. И говорит: – Какая разница, в Талмуде или в Торе?.. Ну, я-то, ладно, дело делаю, стране в прибыток, приумножаю достояние. На таких, Истомин, как я, держава ещё держится, не развалилась…
– Кит?
– Кит… Просто забрать, украсть, ограбить и придурок деревенский сможет. Сила есть, ума не надо. После пропить, проспать, пустить по ветру… Раз ограбил, два ограбил. А поймают, где он будет?.. Это и мы когда-то проходили. Не канает. Сейчас украл не называют… Пошла вон! – говорит Андрей поднявшейся со скамейки и решительно направившейся к нам цыганке разноцветной с тюком сзади. В тюке ребёнок – словно куколка в запрядке, только не спит, а – глазками сверкает: вот-вот раскуклится, чтобы покушать. Заругалась та, цыганка, по-русски сначала, по-своему после, в нашу сторону руками замахала. – Сдам в ментовку, вшей попаришь… Ты смотри-ка, прямо буром.
– А как, – спрашиваю, – если не украл?
– Раньше их столько вроде не было. Как саранча. Где-то и были, может, здесь я их не видел: летом тепло, зимой-то – зябко… И отовсюду. Как потравил их кто-то где-то. Своих, русских, не пускаем, препоны ставим всякие, а этим – вэлком… После развала поналезли… Сладким им будто тут намазано… Табор покинул, высунулся – дихлофосом… А то усами шевелят… На столе стоит стакан, а в стакане таракан, я его за усики, а он меня за трусики… Народ здесь мало ими ещё, жуликами, наученный – пользуются.
– Как, не украл-то если, интересно?
– И всех их, чёрных… обнаглели. Сиди в щели своей, не рыпайся… Или, приехал в гости, и веди себя нормально, как следует. Ещё права, скучкуются в гурток, качают… Семером против одного – смелые… Не у себя – наглеть-то так вот – нечего… Пущу бездомного к себе, пусть поживёт, возле двери поспит на коврике, но если этот хмырь начнёт плевать в икону мне или в тарелку, то, извини, урою сразу, а коврик брошу на могилку… или зарою прямо в коврике.
– Не любишь?
– Брезгую… Жук ещё этот колорадский – каждый второй, куда ни ткнись, уж косоглазый с Поднебесной… За что любить-то их?.. Достали. Где ты рюкзак такой надыбал?.. И все вонючие, как пропастина – в баню не ходят они, что ли?.. Сумку себе приличную купить не можешь?
– Я с ним не первый раз… Со службы.
– Мне есть любить кого, хватает… Ну, ты, Истомин!.. Взял бы ещё мешок холщовый где и облепил его цветными заплатами, как хиппи… Раньше наш мужик, посмотришь, идёт, два китайца за ним баулы его тащут, теперь – наоборот. Обули наших они быстро… За народ тошно, а за державу обидно – власть нажила себе такую…
– Так поменяй.
– Ты как на дачу – с рюкзаком-то… Мне некогда – я делом занимаюсь. Это уж ты там, ближе к Центру… Тут – жёлтобрюхие, у вас там – Тору что читают… Когда ни включишь телевизор, днём или ночью, всё носом свесится и бороздит какой-нибудь через экран тебе по полу, будто махорку собирает, и всех умнее, как всегда… И не включаю… Не убивать – патроны надо экономить, ещё понадобиться могут, если совсем стрелять уж не разучимся… по тирам только… из воздушек… или по пустым бутылкам и банкам в резервации, – а всех собрать и отослать по месту жительства, в аулы, лучше, конечно, по этапу – это же можно, так ведь нет… А кто-то с них имеет, значит. Просто и чирей так не сядет – всё почему-то.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































