Текст книги "Среди врагов"
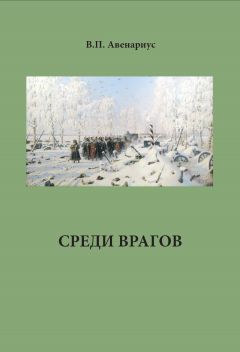
Автор книги: Василий Авенариус
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
Глава седьмая
«Солнце Аустерлица» в пороховом дыму. Нога лейтенанта д’Орвиля и рука солдата. Лошадь д'Орвилл и палец маркитантки. «Что за день! Что за день!»
Можайск, августа 28. Третий день ведь уж от великой баталии под Бородиным, коей равной по кровопролитию, говорит лейтенант д’Орвиль, не запомнят в истории ни в древней, ни в новой – а теперь лишь улучил минутку взяться за дневник. Русские опять ретируются, но в полном порядке, по собственной же охоте. Похвалиться их разгромом Наполеон отнюдь не может. Благодарение и хвала Создателю во святой Троице!
Опишу за сим по ряду все, как что было.
В ночь на 26-е число сеял мелкий дождик, а к утру поднялся очень густой туман, что русского лагеря по ту сторону оврага точно и не бывало. В пять часов утра Наполеон сел уже на коня и стал объезжать свои войска, полк за полком. Когда же подъехал к своей гвардии, которая, великого дня ради, разоделась как на парад, туман внезапно рассеялся, и солнце показалось во всем своем блеске. И указал он на солнце и воскликнул:
– Вот солнце Аустерлица!
И, посмотрев на часы:
– Уже шесть часов. Пора начать.
И подал знак. И грянула ближайшая батарея сигнал для начала. И потекли бесконечным потоком через овраг к русским колонны за колоннами, полки за полками. И загрохотали с батарей французских и русских сотни орудий. И заволокло кругом – уже не туманом, а пороховым дымом – и поле сражения, и самое солнце на небе.
Временами лишь ветром дымный полог отодвинет, и видно тогда, как русские батареи с своих высот изрыгают непрестанно огонь и дым, а по всей равнине идет где ружейный, где рукопашный бой. Зрелище преужасное!
И снова все скроется в непроглядном дыму. Но неумолчный гром орудий и ружейная трескотня говорят о том, что там, в дыму, умирают геройскою смертью сотни и тысячи здоровых людей…

Сам же он, виновник этого ужаса, не садился верхом, а стоял на холме в своей серой походной шине ли, наблюдал с вышины за тем, что затеял, и чихал-чихал – не то от едкого дыма, не то от насморка, который схватил в утреннем тумане.
С поля сражения летали к нему то и дело адъютанты. Маршалы требовали все новых подкреплений. Но своих любимцев – старую и молодую гвардию – он приберегал напоследок. Тут опять адъютант от Нея – Бога ради, прислать хоть партию гвардейцев.
И вот от конского топота земля дрогнула; дивизия кирасир генерала Коленкура в блестящих латах мчится ураганом под гору в лощину и оттуда в гору, во главе всех – сам Коленкур. Как сшиблись они с русскими – за дымом не было видно. Потом уж узнали, что первым же пал Коленкур: русская пуля пробила ему голову.
– Скоро ли наш черед? – говорил лейтенант д’Орвиль.
И самому-то ему не терпелось, да и Стелла его, лошадка молодая, горячая, под ним плясала, в бой рвалась тоже. Я держал ее под уздцы.
Как вдруг из поднебесной ядро прямо нам под ноги. Я – скачок в сторону, а Стелла – на дыбы. Ядро же шипит и кружится по земле волчком. Не успел лейтенант отдернуть назад лошадку, как ядро покатилось ей под задние ноги, и оба они – и лошадка, и седок – кувырком. Господи, помилуй!
Как лейтенант себе хребта не переломил – для меня до сих пор загадка. Когда ему помогли приподняться, он только охнул от боли.
– Сильно ушиблись? – спрашивает полковник.
– На правую ногу ступить не могу: не то сломана, не то вывихнута.
– Благословите судьбу, мой друг: по крайней мере останетесь живы. Кто из нас прочих вернется живым – одному Богу известно.
– Да лучше умереть на поле битвы, чем в лазарете! А моя бедная Стелла! Смотрите: одно копыто у нее оторвано!
И на глазах у лейтенанта навернулись слезы.
– Да, придется ее пристрелить, – говорит полковник.
– Только, пожалуйста, без меня! А теперь дайте мне другую лошадь.
– Нет, нет, мой милый; сама судьба, видно, хранит вас. Отправляйтесь-ка в лазарет, вон в тот перелесок.
И, опираясь одной рукой на меня, другой на свою саблю, д’Орвиль заковылял к перелеску.
– Что, очень больно? – спрашиваю его.
Не отвечает, только зубы крепко стиснул.
Доплелись. У опушки лазаретный фургон и костер с котлом. От дерева к дереву, в виде палатки, протянута засмоленная парусина; на земле – свежая солома, прямо с поля сорванная; а на соломе – рядами – раненые. Они уже ампутированы, перевязаны и тихо только стонут. Зато из другой палатки – операционного пункта – доносятся такие вопли, что кровь в жилах стынет.
Мы – туда. У операционных столов барон Ларрей и де ла Флиз, засучив рукава, орудуют. На другом конце доктор Бонфис с фельдшером перевязывают молодого солдата, у которого только что руку по локоть отняли.
– Что у вас? – спрашивает доктор моего лейтенанта.
– Перелом ноги у щиколотки или вывих – не знаю.
– Сейчас к вашим услугам. Вот табуретка – присядьте.
– А где моя отрезанная рука? – говорит ампутированный. – Дайте-ка ее сюда.
Фельдшер подает; а тот берет ее у него здоровой рукой, возносит над головой якобы победный трофей и восклицает:
– Да здравствует император Наполеон!
Такова слепая любовь французов к сему бичу рода человеческого, околдовавшему их своими злыми чарами!
Фельдшер отбирает опять у больного отрезанную руку и относит в угол, где свалена какая-то кровавая груда. Лейтенанта передергивает.
– Что это, доктор? Бог ты мой! Да это все ведь руки и ноги?
– Да, «пушечное мясо», – говорит Бонфис. – Для него (разумей: для Наполеона) мы все ведь только пушечное мясо!
Д’Орвилю делается дурно. Бонфис велит подать ему вина; потом, когда тот оправился, ощупывает у него щиколотку.
– Пустяки! – говорит. – Простой вывих. Я причиню вам некоторую боль; но без этого, простите, невозможно.
В ноге лейтенанта что-то хрустнуло; сам он весь побледнел, потом покраснел, но не пикнул.
– Вот и все, – говорит Бонфис. – Попробуйте встать… Ну что?
– Да ничего… Чувствительно…
– Но не очень?
– Не очень; сносно.
– Поберечься вам все-таки еще нужно. А теперь с Богом – вы за свое дело, я за свое.
Мы оба с лейтенантом счастливы выбраться на волю. Но перед самой палаткой видим… кого же? Его Стеллу! На трех ногах приплелась бедняжка за своим господином. Узрела его – заржала от радости.
Прослезился мой лейтенант, взял в руки ее голову, поцеловал в губы.
– Дорогая ты моя! Увы! Ни Бонфис, ни сам Ларрей не воротит тебе твоего копыта. Вы не поверите, Андре, как привязываешься к этакому животному в походе! Вот пистолет – пристрелите ее… Я сам не могу…
Но и я отказался. Сделал это за нас носильщик, что только что вместе с другим принес в лазарет тяжелораненого. Легче раненные тащились одни, волоча за собой ружье.
«А в лощине, – думаю, – иные, пожалуй, и кровью истекают!» Сдал лейтенанта на руки денщику, а сам – в лощину. Мимо ушей пули, как мухи, жужжат.
Глядь, так и есть: на самом откосе лежит маленький, безусый еще солдатик, рядом барабан; значит, барабанщик. Глаза закатились; еле уже дышит. А над ним на коленях маркитантка Флоранс.
– Помогите мне, – говорит, – налить ему в рот вина; а то уже не очнется. Тише, тише! Плечо ему раздробило.
Поднимаю я осторожно голову. А Флоранс:
– Иисус и Мария! Ай, как больно! Как больно!
И заплакала навзрыд: шальной пулей у нее из руки фляжку выбило и ноготь с большого пальца снесло.
На счастье проходили опять два носильщика с пустыми носилками. Уложили на них барабанщика. Флоранс, все еще всхлипывая, побрела за ними.
Стыдно признаться, но от вида ее окровавленного пальца у меня самого в глазах потемнело. После потоков крови в лазарете это была, так сказать, последняя капля, переполнившая чашу моего мужества.
И теперь, спустя два дня, жутко вспоминать о всех ранах и страданиях, коих тогда был свидетелем…
Одного только человека ничуть мне не жалко – самого Наполеона. Следил он за сражением издали и не получил посему ни царапинки; но душою выстрадал едва ли не больше всех… Весь век свой ведь воевал, все шло как по маслу: раз-два – и неприятель разбит, хватай только, знай, бегущих. А тут нет! Бой длится с утра до вечера, а неприятель ни с места; ни единого даже пленного.
– Ничего, ваше величество, не поделаешь, – оправдывался один генерал, – русские стоят как стена…
– Так мы ее сокрушим!
А сам, мрачный как ночь, ходит все взад и вперед, как лев в клетке.
– А свою старую гвардию он все еще бережет! – ропщут уже и раненые. – Мы, голодные, изморенные, кровь проливаем, жизнью жертвуем; а их, дармоедов, кормят и холят. Будь у него коробка, он уложил бы их туда, как оловянных солдатиков.
Когда совсем стемнело, пальба сама собой прекратилась. По подсчету французов, у них сделано было в этот день из пушек 70.000 выстрелов, а из ружей несколько миллионов. И русские все же не бежали и не просили пардону!
Сами французы понимали, что кичиться нечем. На сей раз после боя не было уже ни музыки, ни песен; даже костров не зажигали, словно из боязни, что по огням и ночью их будут обстреливать.
Наполеон же, говорят, до самой зари на постели с боку на бок без сна проворочался и бормотал про себя:
– Что за день! Что за день!
Глава восьмая
Державин о Багратионе и Кутузове. Парламентер Акинфов и король Мюрат. «Москва! Москва!» А где же депутация с ключами?
Можайск, августа 29. Чем кончится кампания – одному Богу известно; но неприятель сам весьма не в хорошем положении.
Наутро, 27-го числа, под Бородином все ожидали нового боя. Ан нет. Приходят на рассвете маршалы в Наполеонову палатку с докладом, что русские, мол, снялись с позиций и опять уходят. Как быть?
А он, пуще простуженный, шепотом, ибо совсем осип:
– А много ли еще у нас, господа, людей в строю?
Стали подсчитывать – ста тысяч не досчитались.
– У русских, ваше величество, по меньшей мере столько же выбыло из строя. У нас убавилось войска всего на треть, у них – наполовину.
– Да раненые не все ведь еще подобраны?
– Хирурги наши не покладая рук всю ночь напролет проработали; а в лазарет приносят им все новых без счету.
– А двинемся сейчас за русскими, так сколько еще прибавится? Пускай уходят! Догоним.
И так-то почти целый день пошел на уборку раненых. Своих раненых русские, уходя, уже подобрали. Однако здесь, в Можайске, им поневоле пришлось оставить целую партию ампутированных. Всего жальче мне одного юнкера с отнятой ногой. Зовут его Виктор Топорков. Почти ровесник мне и на весь век свой уже калека! Сам он здоровяк, проживет, конечно, еще долго и горюет только о том, что не годен уж для военной службы. Раздробило ему ногу ниже колена в той самой атаке, в коей его командира, графа Кутайсова, ядром с седла сорвало.

– Тела графа так и не нашли! – говорил со слезами Топорков. – А не было ему ведь и 30-ти лет от роду! Вот и другой наш герой – Багратион. Давно ли Державин сложил про него экспромт:
О, как велик На-поле-он.
И хитр, и быстр, и тверд во брани;
Но дрогнул, как простер лишь длани
К нему с штыком Бог-рати-он.
А ранен тоже насмерть! Но пока жив и здрав у нас Кутузов, мы не дрогнем.
– Французы и то, – говорю, – дивятся, как он дерзнул дать сражение их «великому императору».
– Дал он сражение затем, слышно, чтобы поднять дух солдат и показать Европе, что Наполеон нам не страшен. О! Одним своим глазом он видит дальше, чем Наполеон двумя глазами.
– А где он потерял другой свой глаз?
– При штурме Измаила. Турецкая пуля из одного виска в другой проскочила – случай небывалый!
– И солдаты его любят?
– Молятся на него. Когда он прибыл к нам в армию, над ним, на виду всего войска, воспарил орел. Кутузов снял шляпу и перекрестился, а лагерь кругом грянул: «Ура-а-а! Ура-а-а!» Как узнал о том Державин, тотчас воспел опять:
Мужайся, бодрствуй, князь Кутузов!
Коль над тобой был зрим орел,
Ты верно победишь французов
И, Россов защитя предел,
Спасешь от уз и всю вселенну;
Толь славой участь озаренну
Давно тебе судил сам рок:
Смерть сквозь главу твою промчалась,
Но жизнь твоя цела осталась:
На подвиг сей тебя блюл Бог!
Привал на 52 версте от Москвы, августа 31. Вчера поутру мы распростились с Топорковым – распростились как родные братья; расплакались оба.
– Нет у меня ничего, чтобы дать тебе на память. Да вот, возьми мои сапоги: твои истоптались.
– А ты сам-то как же? – говорю.
– Двух ног, как у тебя, у меня уж нет; на одной здоровой ходить я все равно не смогу, пока для больной не будет деревяшки; а когда-то ее мне изготовят! Тебе же мои сапоги в дороге пригодятся. Бери, бери!
И вот, благодаря ему, я могу еще следовать за моим лейтенантом. Забыл еще отметить, что прежнего полка его и в помине уже нет: пока мы с ним тогда под Бородином ходили в лазарет, полк его был в огне, и вернулось назад всего 48 человек нижних чинов с сержантом Мушероном. Сам полковник и все офицеры полегли на месте. Упокой Господь их души в селениях праведных! Ответит за них на Страшном Суде все тот же кумир их.
Горсть оставшихся в живых порассовали по другим полкам, а самого д’Орвиля, со мной на придачу, взял к себе полковник Триго.
Русские отходят к Москве потихоньку-полегоньку, а мы, не торопясь, вослед. Были в авангарде два-три жарких дела. Мюратовская кавалерия, точно заигрывая, врывается в тыл русских; но те не дают ей повадки и отстреливаются. До белокаменной всего два перехода. Под ее стенами французы ожидают решительного боя. Но в первопрестольный град свой русские наверное уж их не впустят, о нет!
Под Москвой, сентября 2. Впускают и без выстрела!
Лейтенант д’Орвиль, коего полковник Триго взял себе в адъютанты, командирован был нынче с поручением в авангард к королю Мюрату; а лейтенант велел дать и мне лошадь на случай, что понадоблюсь для переговоров с русскими. Прошлым летом Толбухины брали меня с собой в деревню; там у них целый табун, и мы с Петей каждый день скакали вперегонку на водопой. Теперь мне это пошло впрок.
Когда мы подъехали к Мюрату, я его уже близко разглядел: красавец-мужчина; завитые в кольца локоны по плечам развеваются; треуголка с перьями вся раззолоченная; плащ – красный и через плечо откинут, чтобы виднее были звезды на груди. Любезно сам улыбается:
– Что скажете, г-н лейтенант?
– Так и так…
Но Мюрат остановил уж его рукой:
– Трубят! Верно, парламентер.

И точно: от французского аванпоста отделился русский офицер в гусарском ментике; подъезжает с рукой у кивера:
– Честь имею рекомендоваться вашему королевскому величеству: штабс-ротмистр Акинфов. Прислан от генерала Милорадовича с письмом нашего фельдмаршала, светлейшего князя Кутузова, к начальнику штаба императора Наполеона, генералу Бертье.
А король в ответ, с отменной вежливостью приподняв на голове свою пышную шляпу:
– Весьма рад познакомиться, – говорит и подает знак нам с лейтенантом и своей свите, чтобы отъехали в сторону.
Так разговора мы и не слышали. Видели только, как положил он руку в замшевой перчатке на шею Акинфовой лошади и принял от него письмо. Распечатал, прочитал и кликнул своего адъютанта.
– Проводите-ка господина парламентера к его императорскому величеству.
Мы с д’Орвилем опять к нему. Но он уже одумался, видно: послал другого адъютанта вернуть назад Акинфова.
– Желая охранить Москву от разгрома, – говорит, – я принимаю, так и быть, условия генерала Милорадовича. Чтобы дать вашей армии в порядке покинуть город, мы двинемся туда за вашими казаками так тихо, как вам угодно, но с тем, чтобы Москва сегодня же была уже нашей. Сами вы не москвич?
– Москвич.
– Так объявите жителям, что они могут быть совершенно спокойны. Никакого вреда им сделано не будет; не будет с них и никаких поборов. Но жители-то и градоправитель московский, граф Ростопчин, еще ведь в Москве?
– Простите, ваше величество, – говорит Акинфов, – но все это время я был в походе, и ни о Москве, ни о Ростопчине ничего мне неизвестно.
Тонкий же человек! Мюрат же не унимался:
– А где император Александр?
– Тоже не могу сказать.
– Я очень уважаю вашего государя и дружен с его братом, великим князем Константином. Весьма жалею, что вынужден воевать. Тяжелый поход!
– Мы, ваше величество, – говорит тут Акинфов, – воюем за нашу родину и не замечаем тяготы похода.
Не понравилось – поморщился.
– Та-ак… Но почему бы вам не заключить мира?
– Ни ваша армия, ни наша еще не разбита, и похвалиться победой ни одна сторона еще не может.
– Пора бы мириться, пора! Могу я предложить вам завтрак?
– Покорно благодарю ваше величество. Но генерал Милорадович ожидает вашего ответа.
– Можете его успокоить, что Москвы мы не тронем. Согласился я на его предложение единственно из личного к нему уважения.
И Акинфов откланялся. Мюрат вслед ему приятно еще улыбался, но как только тот отъехал несколько дальше, он сердито зафыркал:
– Просит, вишь, пощадить их раненых и пленных, точно мы такие же варвары, как они! Буде же мы не дадим им всем выйти спокойно из Москвы и станем напирать, то они примут опять сражение, а в Москве не оставят камня на камне!
– Теперь, ваше величество, может быть, выслушаете меня… – говорит лейтенант д’Орвиль.
– Ни к чему, г-н лейтенант: раз Москву отдают нам без боя, то все прежние распоряжения сами собой отпадают. Я еду сейчас за приказаниями к императору.
Сам Наполеон в ту пору был еще за несколько верст позади на подмосковной даче князя Голицына, где Мюрат и застал его, говорят, за завтраком.
Мы тем временем, ни евши, ни пивши, на солнце жарились под Поклонной горой, из-за коей Москвы видать еще не было.
Только в два часа дня подъехал он с своей свитой и конвоем – стрелками и польскими уланами; едет, не спеша, сытый и довольный такой, на арабском скакуне, не в серой уж походной шинельке, а в новом, с иголочки, синем мундире, в белом жилете и белых лосинах; мундир на животе расстегнул: на радостях позавтракал, знать, не в меру плотно.
А авангард уже на гребне горы, ликует, бьет в ладоши:
– Москва! Москва!
Забыл и он тут свою напущенную важность, погнал в гору скакуна. «Восторг внезапный ум пленил».
– Наконец-то вот сей славный город! – воскликнул. – Да и пора уж было…
Как настала тут наша очередь – Господи Боже Ты мой! – и вправду ведь, что за краса неописанная! За равниной, верстах в трех от нас, Москва-матушка среди зеленых садов пораскинулась, золотыми и всех цветов главами на солнышке как жар горит-играет, а меж тех садов и храмов Москва-река голубой лентой вьется-извивается… Глядишь – не наглядишься!
Сам-то той порой уж нагляделся; хоть и смотрит еще в зрительную трубу, да не на белокаменную, а по сторонам на равнину озирается, по коей собственные рати его растянулись. Сошел с коня, сверяет виденное с планом Москвы, на траве перед ним разостланным. Сверил, садится опять на коня, велит дать сигнал из пушки и первый вниз галопом скачет; за ним – свита.
А войска только и ждали того сигнального выстрела. Орудия и конница под гору взапуски мчатся, индо земля дрожит.
– Беглым шагом марш! – командует тут полковник Триго своим пехотинцам.
Офицеры хлещут своих коней. Солдаты, в полной походной своей амуниции, с ранцами и ружьями, все три версты до города бегом бегут, без передышки. Бегу и я за ними в столбах пыли, среди всеобщего грохота, топота и гула.
Вот и городская застава. Авангард уже в город входит с музыкой и барабанным боем. Наполеон же остановился у ворот: генерал-адъютант Дюронель послан вперед за депутацией москвичей с городскими ключами.
– Ну, и с хлебом-солью, – говорит д’Орвиль. – Ведь вы, русские, Андре, всегда так друзей встречаете?
– Друзей встречаем, – говорю. – Врагов – не могу сказать, не слышал.
– Да какие же мы враги? Мы волоска ни на ком не тронем, а порядки введем у вас свои, европейские.
Однако депутации ни с ключами, ни без оных все что-то нет. Наконец вот едет назад из города Дюронель, едет шагом, а за ним идет пешком один-единственный обыватель московский, да и то из французов, типографщик Ламур.
– Русские, – говорит, – ушли из города.
– Ушли! Когда?
– Да несколько дней назад. Очень уж испугались, как прослышали, что ваше величество идете на Москву.
– А граф Ростопчин? а власти?
– Ростопчин выехал последним 31-го августа.
Разумел москвич-француз 31-е число по старому стилю; но Наполеон не понял и вскипел.
– Еще до Бородинского сражения? Что за сказки! Болван!
И повернулся спиной. Никак, вишь, понять не мог, как это его, Наполеона, коего вся Европа трепещет, москвичи не принимают с подобающим раболепием.
Свита стоит кругом воды в рот набравши, шевельнуться не смеет; а он, не то растерявшись, не то сконфуженный, ходит взад да вперед, перчатки на руках дергает, то снимет, то опять оденет; платок достает, в другой карман перекладывает – и снова за перчатки… Но решиться на что-нибудь да надо.
– Вперед! – говорит, садится опять верхом и едет в город.
Едет слободой с Дорогомиловской, как потом сказывали), доехал до моста. Ведут к нему тут снова каких-то людей в немецком платье. Один вперед выступает.
– Кто такой?
– Книгопродавец Рис… Мы – из здешних французов.
– Значит, мои подданные. Где Ростопчин?
– Выехал, ваше величество.
– А магистрат?
– Все выехали.
– Кто же остался в Москве?
– Из русских никто; одна чернь.
– Быть не может!
– Клянусь, ваше величество.
Пришлось в конце концов поверить. Переехал еще в раздумье мост, и там ни души. Повернул назад в Дорогомиловскую слободу, да и заночевал в пустом обывательском доме.
Понедельник ведь нынче – день тяжелый, недобрый день! Авось, вторник будет счастливее…

Властелин полумира! Хоть и мнишь себя еще таковым, а я, пленник твой бесправный, ей-же-ей, не поменялся бы теперь с тобою!









































