Текст книги "Среди врагов"
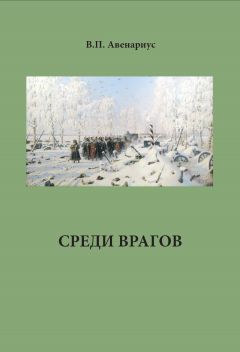
Автор книги: Василий Авенариус
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
Глава восемнадцатая
Доктор Ларрей возмущается. Резолюция генерала Бертье
Октября 3. Платье Свириденкино примерил. За лето почти до его роста вытянулся; в плечах да в груди только мешковато; зато просторно. Спасибо, душа-человек! Вечная тебе память!
Было уже за полдень, когда мы с толстяком-майором – фамилии его не знаю – и Мушероном входили в кремлевский дворец. В приемной толпа блестящих генералов и штатских сановников в парадных мундирах и напудренных париках. Перед закрытою дверью на часах два великана-гренадера. Дежурный офицер нам навстречу.
– Что вам угодно-с?
– Мне генерал-адъютанта Бертье, – говорит майор.
– Генерал с докладом у императора. Г-ну майору придется свою очередь выждать.
Стали мы в очередь. Тут растворяется с шумом дверь из внутренних покоев, и выбегает впопыхах пожилой господин, красный, как из бани. За ним паж, приглашает за собой очередного; другие же обступают красного господина.
– Что с вами, г-н барон? Что вас так взволновало?
Теперь и я его узнал: императорский генерал-штаб-доктор барон Ларрей.
– Да как тут, господа, не волноваться! – говорит он и, быку разъяренному подобно, глазами вращает.
– На руках с лишком две тысячи тяжелораненых – бросай их на произвол неприятеля!
– Как так? Почему?
– Да потому, что тащить их с собой через всю Россию и Германию до Франции, изволите видеть, лишняя обуза.
– Что вы говорите? Мы уходим? И без сражения? Быть того не может! Никогда того еще не бывало!
– Не бывало, а вот теперь дождались. Уф! В себя еще все не могу прийти…
– Да говорите же, г-н барон, говорите: что у вас там с императором? Или это государственная тайна?
«Какая уж тайна: не нынче завтра все равно всему свету известно станет. Доставили мне в лазарет умирающего русского офицера. Всякий пациент – француз он или русский – для меня не друг и не враг, а мой ближний, нуждающийся в моей врачебной помощи. У этого пуля задела сердце и застряла в легких. Все, что можно было сделать, это унять хоть несколько боль, пока не истечет кровью. Час тому назад он мне и говорит:
– Свеча моя, я чувствую, догорает. Скажите же мне на совесть, доктор: скоро ли конец?
– А вам, – говорю, – на что знать? Если вам надо сделать еще какие-нибудь семейные распоряжения, то, действительно, не мешало бы поторопиться.
– Семейства у меня, к счастью, – говорит, – нет; родители померли; я совсем одинок.
– Так на что же вам?
– А на то, чтобы спасти еще вовремя от верной смерти тысячи здоровых людей. Много ли дней мне еще жить?
Вижу, что молчать уже не приходится.
– До ночи, надеюсь, – говорю, – еще доживете.
– Значит, каждая минута дорога. Дайте же совет вашему Наполеону уходить поскорее из Москвы: мира с нашей стороны он никогда не дождется.
– Почему же нет? – говорю я на то. – Ведь князь Кутузов уже две недели назад отправил в Петербург к императору Александру курьера с письмом от нашего императора.
Больной мой горько улыбнулся.
– С тем письмом, – говорит, – что г-н Лористон доставил нашему фельдмаршалу?
– Ну да, – говорю. – И курьер, действительно, повез письмо в Петербург: наши аванпосты задержали его по дороге и нашли при нем письмо.
Больной опять усмехнулся.
– Ах, доктор, доктор! Что вы так просты – не диво: вы – человек науки и не от мира сего. Но что столь опытный полководец, как наш Наполеон, попался на такую удочку – удивления достойно. Курьер с тем письмом был отправлен по большому тракту с нарочитою целью, чтобы его по пути перехватили и ожидали ответа из Петербурга; а в то же самое время другой курьер поскакал окольным путем и повез другое письмо о том, чтобы государь наш не принимал никаких условий и вообще ничего не отвечал на первое письмо, так как Наполеон, зазимовав в Москве и не имея ни дров, ни припасов, до весны наверно погибнет со всей своей армией от холода и голода».
Тут вся толпа вокруг Ларрея зело возмутилась.
– Уж этот Кутузов! Старая лиса! Чтобы его громом убило!
А меня так и подмывало сказать на то: «А ля герр ком а ля герр!»
– Ну, а дальше-то что же, г-н барон, – говорят, – дальше что?
«Дальше спрашиваю я моего больного, как это он, офицер русской службы, выдает мне, неприятелю, тайну своего главнокомандующего. Ведь я, по долгу верноподданного, обязан сообщить ее моему императору.
– Затем-то, – говорит, – я вам и выдал. Теперь я уже не воин, а умирающий, такой же мирный, как и весь наш народ русский. Что за польза, что за радость доброму христианину, что полмиллиона чужого народа ляжет в могилу? Уходите себе с Богом, живите у себя дома для своей родины, для своей семьи, пока сам Господь не призовет вас к себе. И наших русских сохраняется точно так же многие тысячи от насильственной смерти, никому не нужной, кроме вашего Наполеона.
– Так-то так, – говорю я ему на это, – и вашу христианскую точку зрения я, мирный человек, прекрасно понимаю. Но император Наполеон – военный гений: воюет он не ради одной только своей военной славы, но и ради блага человечества – для насаждения в чужих странах истинного просвещения, а Россия ваша – страна варварская…
Тут, господа, мой пациент стал возражать мне такими убийственными резонами, что я не решаюсь даже повторить их. Его величество, которому я счел, однако, долгом передать все дословно, до того на меня разгневался…»
Но отделаться таким образом Ларрею уже не дали: к нему пристали со всех сторон:
– Говорите, г-н барон, говорите! Раз начали, так договаривайте. Какие резоны могли быть еще у вашего пациента?
– А вот какие: «Когда Наполеон, – говорит, – сражался под пирамидами, он чтил веру туземцев-мусульман, оказывал муллам их всякие поблажки, так что они уже думали, что он сам готов принять ислам. В Германии он уважал одинаково религию как католиков, так и протестантов. А вступив в Россию, он точно забыл, что русские веруют в того же Христа, храмы наши обращает в конюшни, своим солдатам не препятствует срывать ризы со святых икон. Начиная настоящую кампанию, он не дал себе даже труда мало-мальски изучить нравы и характер русского народа и вводит у нас такие порядки, которые для нас, русских, вовсе не пригодны. Мудрено ли, что русский народ, по природе добродушный и миролюбивый, воспылал к нему и ко всем французам горячею ненавистью? Скажите же ему, что своим «просвещением» он русских никогда не примирит, не просветит, а сам себе только роет могилу».
– И все это, г-н барон, вы имели смелость передать его величеству?
– Молчать я не мог, не считал себя вправе.
В это время из внутренних покоев в приемную вошел преважный генерал; это должен был быть сам Бертье, потому что все разом двинулись к нему с поклонами.
– Потом, господа, потом! – отмахнулся он и обратился к Ларрею. – Вы еще здесь, г-н барон? Его величество желает снова переговорить с вами.
Вслед за Ларреем он хотел вернуться также к своему императору. Но толстяк-майор загородил ему дорогу:
– Одно слово, г-н генерал.
И, указав на меня и Мушерона, он стал ему что-то нашептывать. Бертье хмурился, сердито на нас обоих посматривал; потом кивком подозвал меня к себе.
– Вы в самом деле из Смоленска?
– Из Смоленска. Против своего желания служу переводчиком.
– С вами, простите, вышла маленькая ошибка…
С сердцов так бы ему даже в ухо заехал!
– Ошибка самая маленькая —, говорю, – чуть-чуть мне жизни не стоила.
Он ногою топнул. Не понравилось: правда глаза режет.
– Убрать его к другим казакам!
Сказал и исчез, аки бес, крестным знамением опаленный.
Так-то вот я второй уже день с сотней «пленных казаков» в большом сарае заключен: есть меж них и купцы московские, и крестьяне пригородные, и дворовые люди, но раз бородатые, то для французов все казаки!
Глава девятнадцатая
Тарутино и уход французов из Москвы. «Сувениры» конвойных. Барчук-ополченец. Совет доктора де ла Флиза
Октября 6. Солдат, что нам хлеб и воду приносит, спрашивает меня нынче, далеко ли от Москвы село Тарутино.
Слышал я еще от лейтенанта д’Орвиля, что король неаполитанский Мюрат по Рязанской дороге около села Тарутина лагерем стоит.
– А что, – говорю, – не было ли там сражения?
– Кто тебе говорил?
– Ага! Стало быть, было? И что же, самого Мюра-та в плен забрали?
Волком на меня глянул, зубами лязгает.

– Ну, в плен-то он не дастся – не таков, хоть и в одной рубашке из палатки выскочил.
– Вот так так! Но лагерь его, значит, весь разгромили?
– Не диво, – говорит, – разгромить, коли ночью среди лучшего сна напали. Да кто же так делает! Но это вам, русским, так не пройдет. Иван Великий ваш со всем Кремлем взлетит теперь на воздух!
– Ну, это была бы дьявольская месть – разрушить нашу народную святыню; сделать это и Наполеон ваш не посмеет.
– «Не посмеет»! Коли маршалу Мортье отдан уже приказ: как только мы уйдем из Москвы…
Спохватился он тут, что проболтался, прикусил язык и, ворча, убрался вон.
Советы доктора Ларрея Наполеону не пропали, значит, даром. А что же с нами-то, с пленными, станется? Расстреляют нас также или с собой увезут?
Так и призвал бы на уходящих гнев Божий по псалму Ломоносова:
Да сильный гнев Твой злых восхитит,
Как бурным вихрем легкий прах,
И Ангел Твой да не защитит,
Бегущих умножая страх!
Да помрачится путь их мглою,
Да будет ползок и разрыт,
И Ангел, мстящею рукою
Их вслед гоня, да устрашит!
На привале, октября 7. Еще третьего дня, оказывается, накануне Тарутинского дела, кавалерия вице-короля итальянского Евгения Богарне и пехота генерала Брусье ушли якобы на разведки; а Тарутино к общему отступлению всех дванадесяти языков последний толчок дало.
С раннего еще утра сегодня двинулся Даву, за ним сам, потом Ней, а мы, пленные, в хвосте. Стало быть, не расстреляют; и за то спасибо! Остается в Москве покамест один Мортье с гарнизоном в 8000, будто бы для охраны жителей, а на самом деле, пожалуй, и вправду, чтобы Кремль взорвать. Да все как-то не верится еще в такое варварство!
Идем мы не прежней уже Смоленской дорогой, где все сожжено и разорено, а внутрь России на Калугу: край-де изобильный, житница России. Погнали нас, пленных, хоть и последними, но, будучи налегке, мы обгоняем одну воинскую часть за другою. У каждой ведь роты бесконечный обоз с «военной добычей», у каждого офицера тоже по нескольку колясок и подвод, доверху нагруженных. Теперь вот и нас затерло, стоим уже с час времени на одном месте. Проходит артиллерия, но и ей не пробраться из-за четырех рядов повозок. Все друг друга торопят и сами теснят, заграждают. В воздухе гам и брань гуще пыли стоит.
Только нам, пленным, не к спеху; куда нам торопиться? При уходе из Москвы роздали нам, вместо одного фунта, по три фунта хлеба, с упреждением, чтобы раньше трех дней новой раздачи не ожидали. Но, наголодавшись, о завтрашнем дне мало кто заботится: кто из трех своих фунтов два уже покончил, а кто и последний дожевывает. Жуют и меж собой о горестной судьбе своей беседуют.
Один лишь, пригорюнившись, в сторонке уселся, ни с кем ни словечка – не нашего поля ягода, барчук-ополченец; чуть пушок над губой пробивается. За его нелюдимость да за руки белые, холеные, другие его «барышней» прозвали. Я с ним всего раз заговорил, но он в ответ мне только «да» да «нет». Жалко его, бедненького; но навязываться тоже не хочется.
А конвойные, закусывая, достают из своих ранцев манерки с водкой да при сей оказии высыпают наземь и все содержимое ранцев, чтобы друг перед дружкой московскими «сувенирами» похвалиться. Один хвастает золотым кубком и китайской фарфоровой вазочкой, другой – жемчужным медальоном и бриллиантовой генеральской звездой, а третий – золотым распятием, драгоценными камнями усыпанным.
– В соборе с алтаря снял! – говорит. – Старухе-матушке на память везу.
– Да крест-то не наш католический, а православный, – говорит другой. – Вот у меня памятка так памятка! Что это, ну-ка? Ни за что не угадаете! Когда кровельщики с Ивана Великого золотой крест снимали, так крест с вышины на мостовую грохнулся. А я тут по счастью как раз на карауле случился. Вижу – от креста осколок; я его в карман.
– Да это же не золото!
– Как не золото?
– А вон посмотри: на изломе серебро просвечивает. Крест-то был, значит, серебряный, только сверху позолочен.
– Хоть бы и так; а я этого осколка и на вес золота не отдам.
– Пустой ты человек! Я вот своей невесте подвенечное платье раздобыл. Укоротить только: боярыня, что его носила, была, видно, богатырша.
– Ах ты, простофиля! Да ведь это амазонка для верховой езды.
Кругом хохот. И жених смеется:
– Ну что ж, на свадьбу верхом поедет…
Октября 8. Под орудиями мост провалился. Пока саперы его чинят, мы на берегу сидим, у моря погоды ждем.
Конвойные костер развели, в котле похлебку рисовую варят. Ходят мимо и маркитантки, всякие «деликатесы» предлагают. Только таковые не про нас, оглашенных: ни у кого гроша медного – все отобрано. Смотрим да облизываемся. У меня хоть еще горбушечка хлебная на черный день припрятана.
Оглянулся: где-то мой барчук-ополченец? Ковылял ведь через силу: в ногу ранен; верно, пуще разболелась. Ан он, как приплелся, так и повалился; лежит с закрытыми глазами, руку под щеку подложил; не шевельнется. Вспомнилось мне тут, что один из пленных у него поутру остаточный хлеб его выклянчил. Уж не с голоду ли несчастный так ослабел?
Подошел я, спрашиваю:
– Послушайте: вы не спите?
Открыл глаза, испуганно на меня уставился.
– Нет; а что?
– Не угодно ли? Чем богат, тем и рад.
Подаю ему свою горбушечку. Протянул он уже руку, но тотчас назад опять отдернул.
– Благодарствуйте, – говорит. – Я сыт… Вот кабы воды глоток…
– Воды я сейчас достану.
Положил ему отвергнутую горбушку на колени, а сам к речке; зачерпнул воды полшапки и – назад. А он, глядь, уже последний кусочек в рот сует. Устыдился, глупенький, покраснел и поскорее водой запил. Чтобы его не смущать, я отошел прочь. Но когда в путь опять тронемся, я его под руку возьму, чтобы легче идти ему было.
Октября 9. Подружились. Сперва он не хотел на руку мою опираться, но потом согласился. Погода и дорога отчаянные: дождь и слякоть. Но мы с барчуком моим не унываем: рассказываем друг другу о своих похождениях. Имя и отчество его – Сергей Александрович. Фамилии своей он мне как будто нарочно не называет; но не скрыл, что из родовитых дворян и что воспитывался в Москве во французском пансионе. Когда было объявлено народное ополчение, он просился у родителей туда же. Его не пускали.
– Но как же не идти защищать отечество, – говорит он мне, – когда все идут! И я ушел тайком, без родительского благословения… И вот…
Он отвернулся, чтобы не показать мне своих слез.
Октября 10. Сегодня нам объявили, что хлеба уже не будет, что можем быть благодарны и за лошадиную падаль. Дело в том, что обозные лошади, изморенные донельзя, не в силах уже везти нагруженных фур и падают как мухи. И мы же, пленные, должны сдирать с них шкуру, жарить для себя их мясо; но там нет уже времени свое жаркое хорошенько прожарить, и приходится есть его полусырым, пропитанным еще вдобавок дымною гарью. Я волей-неволей глотал эту мерзость: голод не тетка! Но Сергей Александрович давится каждым куском и с отвращением опять выплевывает.
Октября 11. Неожиданная встреча – доктор де ла Флиз! Ларрей поручил ему объездить всю линию. И вот сегодня на привале на глаза ему попался мой барчук.
– А, – говорит, – мосье Серж! Вас тоже с собой потащили? Ну, что ваша нога? Дайте-ка осмотреть.
Осмотрел, обмыл, перевязал.
– Будь еще в Москве, в госпитале, – говорит, – я положил бы вам ногу опять в лубки, подвязал бы вверх холстинкой на блоке – сразу легче бы стало. Ну, а на походе… Лазаретные фургоны у нас своими переполнены… Если бы кто мог делать вам хоть раз в день перевязку…
– Я буду делать, – говорю. – Вы, г-н доктор, меня, кажется, не узнали?
– Ба-ба-ба! Андре! И вас из Смоленска прихватили? Чем вы-то провинились?
– А вот спросите. Я и не сражался, а меня чуть-чуть не расстреляли.
– Ох, да…
Огляделся кругом, не услышат ли свои французы.
– Вот что, друзья мои, – говорит нам шепотом, – вышел секретный приказ по армии пристреливать всякого пленного, который отстанет от своей партии на 50 шагов.
– Бог ты мой! – говорит Сергей Александрович. – То-то мне сдавалось, что позади нас стреляют… Так это, стало быть… А с моей ногой я далеко уж не протащусь…
– Нет, мой милый, – говорю я ему, – если нужно, я взвалю вас себе на плечи. Но скажите, г-н доктор, зачем отсталых пристреливать? Они же безопасны. Это бесчеловечно!
Де ла Флиз плечами пожал.
– Отдохнув, – говорит, – они могут стать опять опасными.
– Да ведь этак до Парижа половину из нас перестреляют!
Он усмехнулся, но досадливой, недоброй усмешкой.
– Что ж, – говорит, – всех вас две тысячи; одна тысяча все-таки доплетется до Парижа: надо же показать там, что мы недаром побывали в России! Эх, господа, как вы оба недогадливы! Неужели вы не поняли, для чего я вам рассказал про секретный приказ?
– Для того, чтобы мы бежали из плена? – говорит Сергей Александрович. – Да куда мы убежим? Мы не знаем даже, где наша армия.
– Она близко – у Малоярославца. Назавтра ожидают генерального сражения. В общей суматохе вашего ухода никто не заметит… Однако я заболтался. Прощайте, господа. Храни вас Бог!
Неприятель тоже, а что за славный человек!
В секретном приказе мы скоро убедились на деле. Только двинулись опять в путь, как вдруг за нами выстрел. Оглянулись: нашу партию нагоняет конвойный, на бегу ружье заряжает: кто-нибудь, значит, отстал на 50 шагов…

Далее рукопись сильно подмочена и многого не разобрать. Есть, однако же, связные фразы и более или менее цельные отрывки, так что общая связь существенно не нарушена.)
Глава двадцатая
Братание и разлука. Сражение при Малоярославце. Донцы графа Платова. Самозваный казак
– У меня, – говорит, – нет братьев; а у вас?
– У меня тоже нет.
– А вы мне теперь все равно что брат родной! Так будем же с этой минуты на «ты»?
– Но я, – говорю, – не из благородных…
– Вы лучше многих так называемых «благородных»: вы благородны душой. Значит, «ты»; хорошо?
– Хорошо; но по имени нам как друг друга называть?
– Да как нас дома называли. Тебя, верно, Андрюшей?
– Андрюшей.
– Ну, а меня Сережей. Так и для тебя я Сережа.
И обнял меня, поцеловал троекратно…
… Отстали мы с ним от партии уже шагов если не на все 50, то на 30.
– Дальше не могу… – говорит Сережа. – Оставь меня здесь и уходи один…
– Нет, – говорю, – я от тебя уже ни шагу.
– Ну, милый, пожалуйста! Ведь и тебя прикончат. Вот и конвойный с ружьем…
Тогда я, без дальних слов, взял его, как ребенка, на руки и – в сторону леса. Вдогонку мне выстрел конвойного.
Я все вперед, увязаю в снегу. Сзади французская брань. Оглянулся: нас догоняет уже не один конвойный, а двое, за ними еще третий.
Вдруг из опушки выступает седовласый поп с крестом в руках, за ним десяток мужиков с дубинами.
Но первый конвойный меня уже настиг и прикладом, как обухом, по голове. Я падаю вместе с Сережей. Меня хватают и толкают в спину:
– Марше! марше!
Третий конвойный, отставший от товарищей, стреляет по крестьянам, а сам бежит также назад. Крестьяне его уже не преследуют, а подбирают бедного Сережу. Он спасен. Слава Тебе, Боже!
…Расставили часовых, развели костры. Со стороны Малоярославца все чаще «бум!» да «бум!». Бой, видно, еще жарче разгорается. А я думаю о моем названом брате; поп его, верно, у себя приютил, отправит домой к родителям… Суждено ли нам с ним еще когда свидеться?..
…вихрем налетели; сам Платов впереди…
…конвойных и след простыл. Пока что, однако ж, самому Платову еще не до меня…
… – А партизан-то Сеславин, – говорит, – по пути к Малоярославцу Наполеона первым ведь углядел.
– Как так?
– Да так, что высматривал неприятеля с верхушки дерева. Глядь: карета с конвоем гренадеров в мохнатых шапках. Ну, стало, Сам! Спустился с дерева да на коня. А один их унтер отстал от кареты. Сеславин арканом его к себе притянул, по рукам, по ногам скрутил голубчика, через седло перекинул и – в главную квартиру…

… – А Милорадович-то переход в 50 верст до Малоярославца в один день совершил. Светлейший его обнял. «Ты ходишь, – говорит, – скорее, чем ангелы летают!»
– Так дрались, значит, отчаянно?
– И-и! За день город восемь раз, почитай, переходил из рук в руки. Теперь наша армия каменной стеной стоит, и на Калугу путь им отрезан: не угодно ли, господа, на разоренную Смоленскую дорогу!
– А нового боя Кутузов им не предложил?
– Его спрашивали, не добьет ли он их. «Зачем, – говорит, – проливать лишнюю кровь? У них и без того все само собой развалится»…
…Платов рвет и мечет.
– Такие вы, сякие! – говорит. – А еще донцы! Ведь сказано вам было, что кто мне доставит Бонапартишку, живого или мертвого, за того, будь он хоть простой казак, дочь свою любимую, единственную замуж выдам. Так нет же, на золото проклятое позарились!
И, в самом деле, как ему не досадовать: в ночном поиске донцы его у неприятельской артиллерии 40 орудий уже отбили. За орудиями же, как на грех, императорский обоз идет. Накинулись донцы на обоз, а в обозе-то бочонки с золотом. Тут уже не до орудий! А на помощь обозу, откуда ни возьмись, Наполеоновы гренадеры и конница. Забрали донцы золото, прихватили 11 орудий, знамя и одного пленного французика – да и на попятный. А от того пленного потом узнали, что гренадеры и конница сопровождали самого Бонапартишку: объезжал он, вишь, позиции после вчерашнего боя. И его-то они из-за золота из рук упустили! Ужасно обидно…
…Хоть и атаман он своих донцов, но мне не начальник, и я настоял на своем.
– Простите, – говорю, – генерал, но инструкция была секретная…
– Настаивать, – говорит, – я не стану. Секретные инструкции главнокомандующего другим начальникам меня не касаются. Но за уходом неприятеля из Москвы, думается мне, та инструкция Давыдову уже запоздала.
– Не смею судить, – говорю. – Но Свириденко перед смертью с меня клятву взял…
– Хорошо, – говорит. – С моей стороны препон тебе не будет. Бери себе коня. Ведь на коне сидеть умеешь?
– И скакать могу хоть без седла.
– А на седле тем паче? Ну, а кони наши казацкие – добрые. Добрый конь всаднику уверенность и смелость придает. Налетишь на вражескую цепь – с пикой сквозь всю цепь стрелой проскочишь.
– Пики-то, – говорю, – у меня нет…
– Что ж, и пику тебе, так и быть, дадим. Но коли тебе ехать к Денису Васильичу, так мешкать уже не приходится. С дороги вряд ли собьешься: возьмешь отсюда прямо в Можайск…
– А от Можайска на Бородино и Гжатск дорога знакомая. А что от вас, генерал, Денису Васильичу сказать прикажете?

– Скажи, что у меня теперь 15 казачьих полков; что партизаны Сеславин, Кайсаров, Фигнер, князь Кудашев, Ефремов со своими летучими отрядами точно так же теснят неприятеля денно и нощно со всех сторон. Когда Бонапарт бросится бежать на Можайск и Вязьму, а будет то не нынче завтра, так не дадим ему передышки, пока не доконаем. Самому же Денису Васильичу главнокомандующий сикурсу два казачьих полка посылает…
…Переночевал в крестьянском овине. Давно не спал так сладко, ибо ложем снопы овсяные служили. Коня тем же немолоченым овсом накормил…
…Бородинское поле – поле мертвых! Куда ни глянешь – неприбранные тела; русские и французы лежат мирно рядом. Тут же лошади, подбитые орудия… И везде-то воронье поганое стаей летает! А вон и воронье человеческое – мародеры: обшаривают павших. Налетел я с пикой, гикнул по-казацки, один поганец на колени:
– Пардон! Пардон!
У страха глаза велики. А прочие кто куда врас сыпную:
– Казак! Казак!..









































